Жизнь, которую стоит прожить. Альбер Камю и поиски смысла
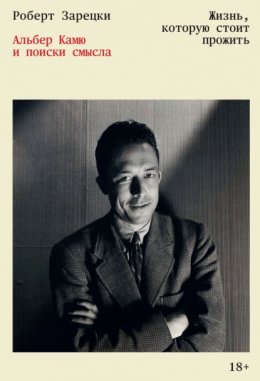
Robert Zaretsky
A Life Worth Living: Albert Camus and the Quest for Meaning
© 2013 by the President and Fellows of Harvard College
© Н. Мезин, перевод с английского, 2024
© ООО «Издательство „Эксмо“», 2024, 2025
Individuum ®
Пролог
Мне не уступят даже мою собственную смерть. А между тем мое самое заветное желание на сегодня – тихая смерть, которая не заставила бы слишком переживать дорогих для меня людей[1].
Предсказание, сделанное Альбером Камю в последнее десятилетие его жизни, сбылось, а его желание – вряд ли. На наших глазах вокруг творческого наследия великого алжирца закипают бурные споры.
Вскоре после избрания президентом Николя Саркози отправился в Алжир с государственным визитом. Этот визит привлек необычайно широкое внимание во многом потому, что новый президент имел репутацию откровенного консерватора, который не видит в колониальном прошлом Франции никаких поводов для покаяния. Одним из пунктов в программе визита было посещение Типасы, города на берегу Средиземного моря. Этот город может похвастаться не только поразительным множеством римских руин – свидетельством более раннего колониального проекта, – но еще и тем, что здесь несколько раз за свою недолгую жизнь побывал Альбер Камю.
Глубокая духовная связь Камю с этими местами отразилась в двух его самых лирических эссе – «Брачный пир в Типаса» и «Возвращение в Типаса». Первое из них создано в 1936 году юношей в поиске себя и с великими намерениями, и пребывание автора в Типасе описывается в откровенно эротическом ключе: «Всё, кроме солнца, поцелуев и диких запахов, кажется нам пустым… Здесь мне нет дела до порядка и меры. Меня всецело захватывает необузданное своеволие природы и распутство моря»[2].
Почти двадцатью годами позже писатель – уже всемирно признанный, но не нашедший мира с самим собой – вновь приезжает в Типасу. Приближаясь к ней, он вспоминает, как побывал здесь сразу после окончания Второй мировой. Война изменила облик античного города: солдаты и проволочные заграждения окружили древние колонны и арки, среди которых он когда-то позировал – без рубашки, улыбаясь в окружении подружек. В тот послевоенный приезд разум Камю тоже словно был в осаде, конечно, на фоне мира, впавшего в гибельное безумие. «Рушились империи, люди и нации вгрызались друг другу в глотку, наши уста были осквернены». Но тогда же была и юность, теперь покинувшая его навсегда: «На прибрежных холмах, некогда любимых мной, средь мокрых колонн разрушенного храма мне чудилось, будто я иду вслед за кем-то, чьи шаги еще звучат на плитах и мозаике пола, но кого я никогда уж не догоню»[3].
Впрочем, эти невеселые картины вытесняются куда более старыми образами, которые в то же время «моложе и наших строек, и наших развалин». Незыблемое великолепие Типасы, как понимает Камю, упрямо сопротивляется безумию нынешнего мира: «Я снова нашел здесь древнюю красоту и юное небо и оценил, как мне повезло, когда понял наконец, что в худшие годы нашего безумия память об этом небе никогда не покидала меня. Это оно спасло меня от отчаяния». Тогда Алжир сползал в гражданскую войну, и, хотя Камю обходится без явного упоминания уже начавшейся драмы, он будто укрепляет свой дух перед погружением в нее: «Я не мог отречься от света, среди которого родился, и в то же время не хотел отказаться от обязательств, налагаемых нашей эпохой»[4].
Перед немногочисленной массовкой, добросовестно машущей флагами обеих стран, президент Саркози, устремив взгляд на море, выслушал фрагмент «Брачного пира в Типаса», прочтенный кем-то из окружения[5]. Видимо, «Возвращение в Типаса» показалось бы слишком двусмысленной или слишком злободневной отсылкой. Как бы то ни было, съемка окончилась, актеры и публика расселись по машинам, и президентский кортеж покатил к следующему пункту программы, оставив позади руины храма и юное небо – столь же далекие от политических демонстраций, как и тонкий смысл и высокая красота произведений Камю.
Через три года, в 2010-м, с приближением пятидесятилетней годовщины смерти Камю, вокруг его имени вновь развернулись политические игры: Николя Саркози предложил перенести останки писателя в Пантеон. Левые политики тут же принялись обвинять президента в том, что он пытается апроприировать наследие Камю ради политической выгоды. Они требовали, чтобы прах писателя остался в Лурмарене – прованской деревне, где Камю оказался вскоре после войны и куда с помощью друга, поэта Рене Шара, переселился за несколько лет до гибели. Правые, причисляющие Камю к неоконсерваторам avant la lettre[6], публично оскорбились подобными обвинениями. По разные стороны в этом конфликте оказались и дети Альбера Камю, близнецы: его сына Жана возмутили попытки поднять отца на знамя правых, а дочь Катрин, распоряжающаяся литературным наследием Камю, решила, что «пантенионизация» станет достойным венцом человеку, который всю жизнь стремился говорить от имени тех, кто лишен голоса[7].
Останки Камю по-прежнему покоятся в Лурмарене, а вот отношение к содержанию и значению его литературного наследия никогда не будет бесстрастным[8] – отчасти из-за алжирского происхождения автора. В романе Аликс де Сент-Андре «Папа в пантеоне» (Papa est au Panthéon) государственные чиновники приходят к дочери писателя-вольнодумца по фамилии Берже (легко узнаваемый шарж на Андре Мальро) после того, как президент Франции решил внести в Пантеон. Да, причины решения политические. Как говорит дочери Берже директор Пантеона, пантеонизация – это экономика чистой воды: «Мы собираем студентов, выводим республиканскую гвардию, выпускаем почтовую марку: и все это бесплатно». Государство получает рекламу безвозмездно, автоматически и повсеместно. Впрочем, есть одно условие: «Нужен правильный клиент». Одни «знаковые авторы» слишком уж католики (Шарль Пеги и Франсуа Мориак), другие чересчур коммунисты (Луи Арагон и Поль Элюар); кто-то не тянет на участника Сопротивления (Андре Жид), а кто-то откровенный чудак (Марсель Пруст). А Сартр? Директор отмахивается со смешком: этот «по-прежнему вечно не о том». Затем он упоминает Камю, как еще одного, кому отказано: его подвел Алжир[9].
Немногие писатели испытывали такие сложные чувства по поводу своей личной и национальной идентичности, как Альбер Камю. Он был из «черноногих»: так прозвали иммигрантов, в XIX и XX веках переселившихся во Французский Алжир из Европы, чтобы стать гражданами Франции, частью нации, чьим языком они не владели, чьей истории не знали и на чью землю вряд ли надеялись ступить. Тогда этому не придавали особого значения: Алжир считался частью Франции, а не другой страной со своим народом, состоящим из нескольких миллионов арабов и берберов, которые не имели французского гражданства. К 1950-м годам Камю напоминал своего мифического героя Сизифа, но был навечно связан не с горой, а с трагической безысходностью сопротивления Алжира иностранной – французской – оккупации. Много лет Камю бился над решением, которое принесло бы справедливость и арабам, и поселенцам, рисковал жизнью в поисках этого невозможного примирения. Он потерпел неудачу и замолчал – и хранил молчание до самой смерти в 1960 году.
Во Франции фигура Камю-алжирца остается предметом раздоров, но тем временем в Алжире наметилась тенденция к согласию: все больше писателей признают его своим. Это особенно заметно начиная с середины 1990-х годов и гражданской войны, которую государство вело против исламских фундаменталистов. Алжирская писательница (и член Французской академии) Ассия Джебар включила Камю в список жертв политического режима. По ее словам, Камю явился одним из «провозвестников алжирской словесности» – братской душой, которую она призывает, чтобы вместе всматриваться в прошлое родной страны и осмыслять его кровавый хаос[10]. В том же ключе высказался во время недавней дискуссии о недостатке мечетей во Франции Абделькадер Джемай, автор романа «Камю в Оране» (Camus at Oran), напомнив о том, как писатель восхищался прекрасной простотой арабских кладбищ. Посетив Лурмарен, Джемай написал: «[Могила Камю] очень похожа на могилы моих ушедших родных»[11].
Этих литераторов привлекает в Камю не столько его принадлежность алжирской культуре, сколько универсальность его размышлений. И здесь заключена еще одна причина того, что Камю по-прежнему тревожит наши умы. Что из Парижа, что из Типасы, он и сегодня выглядит человеком, чья жизнь служит примером редкого беззаветного героизма. Его яростный бунт против того, как французское государство обходится с арабами и берберами, сугубое презрение к вишистским антисемитским законам, упорное неприятие смертной казни и бесстрашные попытки способствовать гражданскому примирению в охваченном войной Алжире – все это было поведением человека, стремящегося жить в согласии со своими ценностями. Получалось не каждый раз. Например, в последние месяцы оккупации и первые месяцы освобождения Франции Камю задушил в себе стойкое отвращение к смертной казни и не только оправдывал, но и приветствовал смертные приговоры коллаборационистам, чьи деяния во время войны несли гибель французам. Позже он изменил позицию, публично раскаявшись, и это говорит о моральной последовательности Камю, но вместе с тем от его статей военной поры, призывающих к скорой и безжалостной расправе, по коже пробегает холодок[12].
Разумеется, такие метания лишь напоминают нам, что Камю был человеком, как и мы: очевидность, которую нам порой застит, особенно ныне, наша отчаянная нужда в героях. Но, пожалуй, еще важнее, что они показывают: Камю сам знал о собственных недостатках и пытался через тексты и поступки их объяснить. Вспоминая о своих взглядах на смертную казнь в военное время, в программной лекции 1948 года, о которой еще зайдет речь, он заявил, что заблуждался. А в его повести «Падение» нетрудно разглядеть, помимо прочего, безжалостно откровенное признание в нескольких изменах жене Франсине. (Так, по крайней мере, трактовала этот текст сама Франсина Камю. «Этим ты обязан мне», – сказала она Альберу, имея в виду коммерческий успех книги[13].)
Именно его вечный непокой, злополучная неспособность утешать себя объяснениями, которые мы даем своим или чужим поступкам, проклятый дар заставлять не только себя, но и тех, кто рядом, пересматривать то, во что верил без вопросов, делает Камю столь важной фигурой. Он взял за обычай, по выражению Тони Джада, «смотреться в зеркало собственного морального дискомфорта»[14]. А его работа и жизнь становятся таким зеркалом для всех нас. То было время, как развивает мысль Джад, когда настоящим моралистом становился тот, кто «не только других заставлял беспокоиться, но и самому себе причинял, по крайней мере, не меньший дискомфорт»[15].
Моралист – не морализатор. У последнего есть ответы еще до того, как перед ним поставят вопрос, у первого же вопросы возникают лишь после того, как он услышит предлагаемые ответы. И это такие вопросы, которые, как говорят французы, déranger – возмущают или, более дословно, ворошат то, что было упорядочено. Камю был моралистом именно в этом смысле. Вопросы, что он поднимал, не отбросили его ни к одиночеству, ни к нигилизму: напротив, они привели к альтруизму и особого рода моральной требовательности. Камю был моралистом, который твердо держался мнения, что и в абсурдном мире, не дающем никакой надежды, люди не приговорены к отчаянию; который напоминал нам, что, в конечном счете, все что у нас есть в безразличном и безмолвном мире – это мы сами:
В самом мрачном нашем нигилизме я искал только повод его преодолеть. И отнюдь не из отваги или там редкостной возвышенности души, но из инстинктивной верности свету, в котором я родился и где уже миллионы лет люди научились славить жизнь даже в страдании… Сохранившимся до нашего иссушенного века упрямым и стойким сыновьям Греции ожог нашей истории должен казаться невыносимым, но они его все-таки выдерживают, ибо силятся его понять. В центре нашего творчества, будь оно как угодно мрачным, светит неистощимое солнце, то же самое, которое неистовствует в долине и на холмах[16].
Страдание – главный опыт в жизни и работе моралиста. Несомненно, это убеждение задает тон обжигающему началу раннего эссе Камю «Миф о Сизифе»: «Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии»[17]. Для многих из нас – включая, по всей вероятности, и тех, кто сам пока не знает, что тоже из этого числа – в словах Камю в самом деле заключен фундаментальный вопрос. Стоит ли продолжать такую жизнь, неизбежно полную боли и утрат? Древние греки, чья культура была важнейшим источником вдохновения для Камю, знали точно: у страдания есть свои преимущества. Как поет хор в «Орестее», трагедии любимого Альбером Камю Эсхила, «через муки, через боль Зевс ведет людей к уму, к разумению ведет»[18]. Замечание Марты Нуссбаум о воспитательной роли страдания в греческой трагедии тоже прочно опирается на точку зрения Камю: «Есть такой способ познания, который осуществляется через страдание, поскольку страдание есть подобающий способ признания человеческой жизни как таковой»[19]. Достижение греческой трагедии заключается в том, что она не дает ни выводов, ни ответов. Напротив, она ценна тем, что умеет «ясно увидеть и описать конфликт и признать, что выхода из него нет. Лучшее, что может сделать человек – принять страдание, природное выражение добродетели его характера, и не подавлять эту реакцию из-за необоснованного оптимизма»[20].
Конечно, это наблюдение применимо и к жизни, и к творчеству Камю, но есть тонкость. Для Камю страдание было не в большей степени ответом, чем осознание абсурдности бытия. Как ранние эссе вроде «Брачного пира в Типаса», так и последний его роман «Первый человек» с ошеломительной силой показывают, что Камю любил этот мир. Люди, безразличные к окружающей их красоте, слепые к чувственному обаянию пейзажей его родного Средиземноморья и не верящие в человечество, настораживали его. Моралистом в эпикурейском понимании может быть лишь сенсуалист. И не только реальность его страдания, но и укорененность в мире позволили Камю провозгласить без единого грана сентиментальности: «В разгар зимы я понял наконец, что во мне живет непобедимое лето»[21].
Работая над первой книгой о Камю – «Альбер Камю: стихия жизни» (Albert Camus: Elements of a Life), – я постарался объяснить его концепции и литературное творчество через контекст, выстроив рассказ вокруг четырех ключевых моментов жизни писателя. Я считал и, будучи историком, считаю поныне, что в таком подходе есть большой потенциал. Но все же той книгой я остался недоволен: увлекшись историческим контекстом, я обделил вниманием определенные интеллектуальные и моральные темы, которые мы привыкли ассоциировать с творчеством Камю. Одни из них, например абсурд, – это элементы человеческой ситуации, другие, например верность и мера, – добродетели, которые человечеству следует приобрести; а иные, такие как бунт и молчание, – стихийные и этические аспекты нашего бытия. Одним словом, все это необходимые, по моему убеждению, инструменты для поиска того, что́ есть жизнь, которую стоит прожить.
Абсурд
«Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно. Таковы условия игры: прежде всего нужно дать ответ»[22].
Одно из самых дерзких заявлений XX века, первые строки «Мифа о Сизифе» Альбера Камю, не встретили одобрения у блестящего писателя и интеллектуала Андре Мальро. Редактор крупнейшего издательства «Галлимар», в свое время глубоко впечатленный другой рукописью Камю, романом «Посторонний», счел его новое сочинение натужным и путаным. «Начало как будто топчется на месте. Сказав однажды, что речь пойдет о суициде, незачем это повторять снова и снова», – советовал он Камю[23].
Мальро ошибался: речь в «Сизифе» идет не о суициде, а об абсурде человеческого бытия. Если мы однажды оказываемся в «мире, вдруг лишенном иллюзий и света», и при этом все же настойчиво ищем смысла, но слышим в ответ только «непостижимое безмолвие вселенной», и если вполне постигаем значение этого безмолвия, как утверждает Камю, то самоубийство внезапно становится единственно возможным решением[24]. Именно поэтому, как бы ни морщился Андре Мальро, знаменитая первая строчка «Сизифа» все равно требует внимания. Ответа по-прежнему нет, и значит, этот пассаж представляет не только исторический или биографический интерес. Где искать смысл и что будет, если поиск окажется безуспешным, – это вечно насущные вопросы.
Однако стоит нам подступить к этой проблеме, мы видим, что традиционная философия помочь здесь бессильна. Она никак не проясняет этот предмет, по словам Камю, «одновременно столь скромный и столь эмоционально нагруженный»[25]. И, вероятно, поэтому многие профессиональные философы утверждали, а некоторые утверждают и поныне, что проблема – ложная, и что она подобна тусклому блеску ручья, замутненного ошибками в формальной логике или неверным употреблением языка. Но ряд философов и сегодня упрекают свою профессию в неспособности осмыслить упрямое присутствие абсурда в нашей жизни. «[Абсурд] отравляет повседневность и бросает на любой наш опыт отблеск бессмысленности… И мы видим, что отчаянно пытаемся двигаться быстрее в никуда или стараемся „занять себя“», – пишет Роберт Соломон[26]. Томас Нагель в менее патетичных, но не менее выразительных словах сравнивает абсурд с неким «взглядом из ниоткуда». Этот взгляд отрывает нас от личного опыта повседневности и заставляет примерить внешнюю точку зрения, открывает перспективу, которая сметает все наши представления и предположения о самих себе. Этот взгляд обращает нас к истинам, которые одновременно тривиальны и оглушительны: нам вообще незачем было рождаться, а когда мы умрем, мир продолжит вертеться, не замедлившись ни на миг. «Глядя на себя со стороны, – отмечает Нагель, – трудно принимать свою жизнь всерьез». В эти-то моменты мы и сталкиваемся с абсурдом – «подлинной проблемой, которую невозможно не замечать»[27].
Именно потому Камю и решает отбросить методы и лексикон традиционной философии. «Миф о Сизифе» – не цепь рассуждений, а, скорее, вал впечатлений, то глубоко личных, то литературных, но неизменно ярких и тревожных. «Миф о Сизифе» представляет собой эссе: жанр, в котором работал один из вдохновителей Камю, Мишель де Монтень. В своем сочинении Камю пускается в погоню за извечной целью философии – задается вопросами, кто мы есть, где мы можем, если можем вообще, найти смысл жизни, и какое знание о себе и о мире нам доступно на самом деле, – причем не столько ради того, чтобы дать ответ, сколько ради продолжения поиска. То, что его размышления «предварительны», беспокоило Камю не больше, чем Монтеня – изменчивость его автопортрета[28]. В сущности, «Мифом о Сизифе» писатель достигает того же эффекта, который философ Морис Мерло-Понти приписывает текстам Монтеня: Камю помещает «сознание, изумляющееся самому себе, в центр человеческого бытия»[29].
Только у Камю это изумление порождается столкновением человека с миром, который упрямо отказывается открыть свой смысл. Оно возникает, когда наша потребность в смысле разбивается о безразличие мира – абсолютное и незыблемое. И значит, абсурд не самостоятельная сущность; он не присутствует в мире, а изрыгается той пропастью, что отделяет нас от немого мира. «Сам по себе мир просто неразумен, и это все, что о нем можно сказать. Абсурдно столкновение между иррациональностью и исступленным желанием ясности, зов которого отдается в самых глубинах человеческой души. Абсурд равно зависит и от человека, и от мира. Пока он – единственная связь между ними»[30].
Как предупреждает Камю, рассуждение об абсурде приобретает остроту, неведомую традиционной философии: никто, по его заявлению, не умирал в доказательство существования. Даже великие исследователи абсурда – мыслители, которые изгибали свой разум, чтобы прийти к четкому выводу – за редким исключением в последний момент сворачивали с пути. Так Камю заявляет, что Кьеркегор первым отвел глаза, встретив немигающий взгляд абсурда. «Скачок веры» этого датского мыслителя был вовсе не героическим прорывом к ясности и логичности, а, в сущности, философским самоубийством. Вместо того, чтобы нырнуть в мир, где правит абсурд, Кьеркегор возвращается к Богу, которому придает «атрибуты абсурда. Бог несправедлив, непоследователен, непостижим»[31]. Даже абсурдный бог для Кьеркегора предпочтительнее непостижимой пустоты.
Как и более ранний христианский мыслитель Блез Паскаль, которого, как известно, пугало «безмолвие этих необъятных пространств», Кьеркегор ужасается перспективе прожить абсурдную жизнь. Камю, однако, стоит на том, что для абсурдного человека «поиск истины не есть поиск желательного»[32]. При этом, по его словам, нам не следует бросать наших поисков, пусть даже ради того, чтобы яснее услышать молчание мира. В сущности, молчание обнаруживается, когда в уравнение добавляется человек. Если «должно говорить даже молчание», то лишь потому, что этого неизбежно требуют те, кто способен слышать[33]. А если молчание продолжится, то где нам найти смысл? И что нам делать, если найти его не получится? Как тратить наши жизни, если никто не гарантирует, как некогда это делала религия, трансцендентального оправдания мира и его обитателей?
Вопрос, по Камю, заключается в том, «можно ли жить не подлежащей обжалованию жизнью»[34].
Как литературная и философская тема абсурд впервые встречается в дневниках Камю в мае 1936 года – в том же месяце, когда писатель защитил в Алжирском университете диссертацию по неоплатонизму. «Философская работа: абсурд» – добавляет он пункт в исследовательский и рабочий план[35]. Спустя два года, в июне 1938-го, абсурд вновь появляется в списке целей, а в конце того же года – в третий раз. Еще на этапе сбора данных и предварительного осмысления Камю решил более или менее одновременно разобрать тему в трех различных жанрах: романа, драмы и эссе. Над пьесой «Калигула», хотя впервые ее поставили в 1945 году, он начал работать еще в 1938-м. Черновик «Постороннего» Камю завершил за несколько дней до того, как немцы прорвались в Арденнах в мае 1940 года. И тогда же, когда Франция еще казалась если не вечной, то, по крайней мере, надежной и сильной, он взялся за сочинение, которое описал своему бывшему преподавателю Жану Гренье как «эссе об абсурде»[36].
Примерно в то же время Камю узнал о другом молодом и пока никому не известном французском писателе, которого тоже захватила тема абсурда. В 1938 году Камю поступил на работу к матерому газетчику Паскалю Пиа, основателю независимой газеты Alger républicain. Учитывая стесненность издания в средствах, Камю быстро оказался завален разнообразными обязанностями, и одной из них было книжное обозрение. Внимание Камю вскоре привлекли две тоненькие книжечки: «Стена» и «Тошнота» Жан-Поля Сартра. В этих выдающихся произведениях Сартр рисует мир, утонувший в полной непредсказуемости. Захваченные глубинным течением событий, которым нет высшего или внешнего объяснения, как замечает Сартр, мы испытываем тошноту. А что еще можно чувствовать, обнаружив, что события, казавшиеся осмысленной историей, на самом деле полностью хаотичны, что наши действия, когда-то имевшие цель, полностью машинальны, а мир, служивший нам домом, представляет собой совершенно чуждое пространство?
Однако при всей их художественной силе рассказы Сартра, по мнению Камю, не предлагали ничего, кроме некоего экзистенциального солипсизма. Несомненно, «жестокая и драматичная вселенная», диктующая законы в рассказах «Стены», увлекала, но что нам взять от героев, неспособных сколько-нибудь осмысленно распорядиться собственной свободой? Подобным же образом в «Тошноте» Камю восхитило, как описана угнетающая глупость мира, но возмутил вывод о том, что «жизнь трагична оттого, что жалка». Напротив, трагическое ощущение жизни заложено в «величественной и прекрасной» природе мира – без красоты, без любви и без опасности «жизнь была бы, пожалуй, даже слишком легкой». С вершины юности Камю провозглашает: «Вывод о том, что жизнь абсурдна – не финальная точка, а лишь отправная… Меня интересует не само открытие [абсурдного характера жизни], а какие уроки мы из него можем извлечь и как вести себя дальше»[37].
Камю, при всей его молодости, был ветераном абсурда. Ребенком он потерял отца, павшего в бессмысленной мясорубке битвы на Марне; подростком атлетичный Альбер однажды закашлял кровью, и выяснилось, что он болен туберкулезом; работая репортером в Alger républicain, Камю увидел за фасадом всеобщих ценностей свободы и равенства, провозглашенных Французской республикой, мрачную реальность арабов и берберов, живущих под гнетом колонизаторов. Став редактором газеты, он яростно обрушивался на бессмысленность мировой войны, которой, как он, убежденный пацифист, прекраснодушно считал, можно было избежать. Освобожденный от призыва из-за туберкулеза, пацифист Камю тем не менее пытался поступить на военную службу: «Война не перестала быть абсурдной, но нельзя не участвовать в игре лишь потому, что она может стоить тебе жизни»[38].
Иначе говоря, Камю уже основательно погрузился в разбор тех уроков, которые можно извлечь из абсурдности мира. Своими убеждениями он делился не только с читателями, но и с невестой, Франсиной Фор (пара дожидалась окончания бракоразводного процесса Камю и Симоны Ийе, эффектной красавицы, которую писателю при всех его стараниях не удалось излечить от пристрастия к наркотикам). Камю говорил Франсине, что войну считают бессмысленной почти все, но это не меняет ровным счетом ничего, покуда люди продолжают жить, как жили всегда. Его больше интересовали этические следствия этого прозрения: «Я хочу вывести из этого гуманистический образ мысли, четкий и скромный, – определенную модель поведения личности, когда жизнь противостоит жизни, какова она есть, а не грезам»[39].
В итоге именно последовательность Камю в вопросах этики обернулась закрытием газеты Alger républicain в 1940 году. Местные власти и так едва терпели его, беспрестанно осуждавшего то, как французы обращались с арабами и берберами, а после объявления войны в сентябре 1939-го он удвоил старания. Не испытывая никаких иллюзий по поводу гитлеровской Германии – «зверского режима, где человека не ставят ни во что», – Камю в то же время отказывался тешить себя представлениями о честности и прозорливости французского правительства[40]. Он точно знал, что платить за амбиции государства придется самым бесправным – рабочим, крестьянам, мелким коммерсантам и служащим, – как произошло в 1914 году с его отцом. (Камю еще не понимал, что бесправные как во Франции, так и в остальном мире заплатили бы, если бы никто не выступил против нацистов с оружием в руках.) Цензоры, заботясь о боевом духе общества, неустанно резали разбухающие передовицы Alger républicain, Камю же, твердо намеренный перехитрить цензуру, для заполнения пустот перепечатывал фрагменты из классической литературы, например статью «Война» из «Философского словаря» Вольтера. Впрочем, даже эти отрывки не избегали цензорских ножниц.
В ноябре Камю писал в дневнике: «Поймите вот что: можно не видеть смысла только в жизни в целом, но не в тех формах, которые она принимает; мы можем отчаяться в существовании, поскольку не властны над ним, но не в истории, где отдельным личностям по силам все. Это личности убивают нас сегодня. Почему бы другим личностям не установить на Земле мир? Нужно только взяться, не замахиваясь на грандиозные цели»[41]. Это кредо, где не только обозначилось недовольство Камю пассивностью, которую предполагает экзистенциалистское мировоззрение, но и отразилась его строгая профессиональная этика, в то же время появилось на первой полосе газеты под заголовком «Наша позиция». Главный редактор Паскаль Пиа пытался объяснить читателям, почему все больше пустых квадратов белеет на страницах с каждым днем худеющего издания. Редакция, во-первых, осудила сам институт цензуры, отрицая «софизм о том, что ради поддержания боевого духа нации следует ограничить ее свободы». Во-вторых, она провозгласила «право отстаивать человеческие истины, которые вянут от страдания и тянутся к радости… Люди доброй воли не намерены отчаиваться, они хотят защищать те ценности, что удерживают нас от коллективного самоубийства»[42].
Эта передовица оказалась лебединой песней редакторов. Не пройдет и двух месяцев, как власти закроют газету и Камю останется без работы.
С помощью Пиа, располагавшего связями в Париже, довольно быстро, в марте 1940 года, Камю получил место в популярной ежедневной газете Paris-Soir, которая принадлежала крупному медиамагнату Жану Пруво. В сером и угрюмом Париже Камю тошнило от слащавости этого издания. Он писал, что Paris-Soir – «это труха из сантиментов, красивостей и развлекухи, набор липких крючков, за которые человек цепляется ради самозащиты в таком суровом городе». Куда лучше, как настаивал Камю, смотреть в лицо неприглядной действительности, а не малодушно прятаться от нее – действительности, в которую он ежедневно окунался в паршивом отеле, где снимал комнату. На его памяти одна постоялица выбросилась из окна третьего этажа. Ей было чуть за тридцать: «Этого довольно, и если она успела пожить, то можно и умереть… Кончилось все это шестисантиметровой вмятиной на лбу. Перед смертью она сказала: „Наконец-то!“»[43].
Да, наконец-то: сама Франция, вступившая в войну, но не воевавшая, в конце марта 1940-го готова была это сказать. Больше полугода страна находится в состоянии войны с Германией, но война идет странная – drôle de guerre, как ее называли, – две армии за это время вряд ли обменялись хоть парой выстрелов. Дети с ранцами на спине спешат в школу, рестораны и кафе полны народу, в театрах и кабаре аншлаг. Парижская опера готовит премьеру «Медеи» Дариюса Мийо, а парижане тем временем мурлычут популярную песенку On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried («На линии Зигфрида мы белье развесим»). Актер и шансонье Морис Шевалье записывает подряд два хита: сначала Paris Reste Paris («Париж остается Парижем»), затем Ca fait d'excellents français. Разумеется, эти прекрасные французы, которых воспевает Шевалье, – банкиры и булочники, коммунисты и консерваторы, селяне и парижане, объединившиеся, вроде бы, против Германии, – несколько месяцев назад хватали друг друга за глотки. Слушатели разделились во мнении, была ли привычная улыбка Мориса Шевалье искренней или циничной[44].
Тот же вопрос вызывали и газеты. Зимой и ранней весной 1940 года передовицы трубили о неколебимости французских политических лидеров, талантах военного командования и храбрости солдат, а все чаще мелькающие пустоты на страницах газет свидетельствовали о рвении цензоров, резавших любые материалы, которые не созвучны официальной риторике. Военные победы Германии, вроде оккупации Норвегии прошедшей зимой, преподносились как часть стратегического плана Франции, а бездействие на восточном фронте объяснялось наличием неприступной линии Мажино. Заголовки, спущенные из недавно образованного Министерства информации, – «Мы победим, потому что сильнее всех» и подобные – вуалировали пугающую неспособность командования к стратегическому мышлению и замалчивание настоящего положения дел[45].
И вдруг комическую абсурдность фальшивой войны отшвырнула в сторону абсурдность совершенно иного масштаба. В середине мая немецкие танковые корпуса ударили сразу в двух направлениях: первый, западный, прошил Нидерланды и Бельгию, второй вонзился в Арденны, лесной край севернее линии Мажино, которую французское командование упорно объявляло неприступной. Не более трех дней спустя немецкие танки въезжали в северофранцузский город Седан, вытолкнув на юг первую волну беженцев, которая превратилась в небывалое по масштабам массовое перемещение людей.
Так начался великий исход. Как замечал писатель-современник, «только библейские события могли бы сравниться с этим людским потопом, с этим бегством одной части страны в другую. Так началось возвращение в хаос, в прошлое, в историческую пустыню с рыщущими шакалами»[46]. В начале июня по дорогам Франции текли на юг шесть с лишним миллионов взрослых и детей из Бельгии, северных областей Франции и Парижа. Впрочем, слово «текли» не отвечает действительности; «вязли» более точно описывает, как плотные колонны беженцев с растущей примесью военных– машины, повозки, велосипеды – упорно ползли на юг. Те, у кого заканчивался бензин или спускались шины, бросали свой транспорт на обочине, присоединяясь к большинству, вынужденному спасаться пешком. Эти огромные и медлительные потоки людей несли урон не только от пикирующих «юнкерсов», но и от полного коллапса государственных механизмов. Строго говоря, когда правительство после многодневных колебаний 9 июня решило наконец эвакуировать Париж, оно уже, в общем и целом, утратило контроль над большей частью страны. Пока оно металось из Бордо в Клермон-Ферран, а потом в Виши, рвались линии коммуникации, и провинциальные чиновники оказывались в полном неведении и бессилии. Декорации повседневной жизни Французской республики неожиданно обрушились.
При этом в Paris-Soir административный механизм пока работал исправно. Пруво, явив куда большую предусмотрительность и распорядительность, чем верховное командование республики, еще несколько недель тому назад проехал по стране в поисках места, где газета продолжит работу, если Париж окажется под угрозой. Его привлек Клермон-Ферран в провинции Овернь в Центральной Франции. Город далеко от фронта, и к тому же там выходит газета Le Moniteur, чей редактор Пьер Лаваль согласился пустить Пруво в свою типографию. 11 июня Paris-Soir последний раз вышла в Париже. Остававшиеся в столице сотрудники, в том числе Камю, спешно упаковали чемоданы и присоединились к великому исходу.
В те дни парижанам уже слышались отзвуки канонады с севера, а с запада ветер приносил запах горящих бензохранилищ, но нигде не было видно никаких официальных лиц, организующих эвакуацию. Вакуум на месте государства быстро заполнялся слухами, растерянностью и страхом. Камю, которому было поручено перегнать в Клермон-Ферран одну из редакционных машин, отправился на юг, взяв пассажирами корректора и литературного редактора. На следующий вечер они вползли в Клермон-Ферран, с пустым топливным баком и струйкой дыма из-под капота. Камю, выбравшись из машины, первым делом распахнул багажник и облегченно вздохнул, убедившись, что портфель с рукописями на месте.
Абсурд, как замечал Камю, – «жизненный переход, отправная точка, экзистенциальный эквивалент философского сомнения Декарта»[47]. В романе «Посторонний», рукопись которого лежала среди других в портфеле, описывается именно такой опыт. Но Камю не последовал примеру Декарта, который боролся с демоном скептицизма, устроившись в доме с печкой посреди заваленной снегом Германии. Столкнуться с молчанием мира Мерсо, герою романа, пришлось на раскаленных солнцем улицах и пляжах Алжира.
Хотя многие читатели знают этот сюжет – в конце концов, «Посторонний» и сегодня, более чем через семьдесят лет после первой публикации в 1942 году, остается одной из самых продаваемых книг издательства «Галлимар» – роман по-прежнему застает нас врасплох[48]. Скупым языком Камю создает героя, чья жизнь не несет на себе ни малейшей тени рефлексии. Любовник, не умеющий любить, сын, не способный плакать по умершей матери, и убийца, не имевший никаких причин убивать, Мерсо живет без раздумий о прошлом и будущем, скользя сквозь бесконечную череду настоящих моментов. В выходные Мерсо ездил в богадельню, где умерла его мать, а потом занимался сексом с женщиной, которую встретил на пляже. В полдень он садится на стул у себя на балконе, выходящем на главную улицу предместья, и до вечера курит и глазеет на небо и прохожих. Меняющиеся картины не вызывают в нем ни воспоминаний, ни надежд, они едва ли выходят за рамки схематичного описания. С наступлением темноты и прохлады Мерсо затворяет окно и перебирается в комнату: «Увидел в зеркале угол стола, а на нем спиртовку и куски хлеба. Ну вот, подумал я, воскресенье я скоротал, маму уже похоронили, завтра я опять пойду на работу, и, в общем, ничего не изменилось»[49].
В жизни, столь тесно привязанной к настоящему, что не остается места ни для того, что предшествовало, ни для того, что последует, перемен не происходит – или, если сказать точнее, мы замечаем перемены лишь через рефлексию. И только в изменениях мы видим себя самих – свое отражение. Мерсо, бросая взгляд в зеркало, не видит там себя – закономерно, поскольку еще нет личности, которую можно было бы разглядеть. Это парадокс, воплощенный героем «Постороннего»: для Мерсо единственная имеющая смысл жизнь – это жизнь в настоящий момент, проживаемый в телесных ощущениях. Однако, равнодушный к прошлому и будущему, он не способен постигнуть их смыслы. На вопрос Мари – девушки, с которой он занимался сексом, – любит ли он ее, Мерсо отвечает: «Слова значения не имеют, но, кажется, любви… у меня нет»[50]. Если на то пошло, то и смерть араба не имела значения. Спуская курок посреди затопленного солнцем дня, Мерсо знает только одно: «[Разрушилась] необычайная тишина песчаного берега, где только что мне было так хорошо»[51].
Разумеется, лишь рефлексирующий субъект может заявить, что когда-то ему было хорошо. Арест Мерсо и суд (роковые события, запускающие в нем рефлексию) напоминают описание l'homme sauvage Руссо – дикаря, заброшенного судьбой в развитое общество. Родившийся в Женеве франкофон Руссо, как и Камю, никогда не чувствовал Францию своим домом и всю жизнь разрывался между тягой к одиночеству и солидарностью с людьми. Руссо утверждал, что человек в первобытном состоянии – счастливейший из всех уже потому, что он глупейший из всех. «Его душа, которую ничто не волнует, предается только лишь ощущению его существования в данный момент, не имея никакого представления о будущем, как бы оно ни было близко, и его планы, ограниченные, как и кругозор его, едва простираются до конца текущего дня»[52].
Тюрьма у Руссо представляет собой символ общества, которое сковывает нашу природу и душит потребности, но для Мерсо это только камень и железо. И лишь запертым в тюремной камере он принимается складывать события своей жизни в связную историю, где ему досталась главная роль. И лишь тогда вспоминает, что есть «час, в который когда-то давно… бывало спокойно на душе», бежит от того, в чем прежде бессознательно, но охотно пребывал, то есть от бесконечного настоящего, и объявляет: «„Вчера“ и „завтра“ – только эти слова имели для меня смысл»[53]. Прошлая его жизнь была не более абсурдна, чем у дикаря Руссо. Абсурд возникает в нашей жизни, лишь когда за нами с лязгом захлопывается тюремная дверь – или когда с высоты общественных норм мы судим, насколько низко пали.
За несколько недель до великого исхода Камю, работавший в Париже над рукописью, которая превратится в «Миф о Сизифе», в письме Франсине делился сомнениями относительно своих попыток свести разрозненные заметки в эссе: «Страшно подумать, сколько тут нужно внимания и усилий. Я тону в этих заметках и перспективах». Сами заметки отходили на второй план, тогда как перспективы, до ослепительного сияния отполированные событиями, выдвигались на первый. Хотя в «Мифе о Сизифе» едва ли найдешь прямые исторические или политические отсылки, это эссе – отклик на разразившийся в Европе катаклизм. В итоге сочинение, задуманное автором как личная интеллектуальная и эмоциональная хроника, поднимается до поиска смысла в мире, ценности и ожидания которого рухнули, превратившись в прах.
Захолустный Клермон-Ферран неожиданно оказался удачным местом для работы над «Мифом о Сизифе». В письме другу Камю замечает: «Этот город – идеальная декорация для „Тошноты“»[54]. Но писателя одолевала теперь еще и тошнота иного рода – вызванная не турбулентностью жизни, а действиями правительства, прибывшего под предводительством восьмидесятилетнего маршала Филипа Петена следом за Paris-Soir в Клермон-Ферран. В письмах Франсине Камю изливает наболевшее: «Трусость и малодушие – все, что они могут предложить. Прогерманская политика, конституция по модели тоталитарных режимов, безудержный страх революции, которой никогда не будет: и все это, чтобы угодить врагу, который уже расколошматил нас, и сохранить привилегии, которым ничто не угрожает»[55]. Оглядываясь вокруг, на политиков и их приспешников, Камю чувствовал удушье. Вскоре новый режим раскрыл свою антисемитскую сущность, и из газеты уволили всех евреев. Потрясенный Камю писал Франсине, что любая работа в Алжире, даже крестьянская, будет лучше, чем служба в Paris-Soir. Совершенно естественно Алжир теперь казался ему убежищем – единственным местом, где можно оставаться свободным, одновременно оставаясь французом.
Но пока Камю не спешил покинуть Клермон-Ферран. Он ушел с головой в писательский труд и дал новое имя тексту, который до тех пор именовал «трактатом об абсурде». Камю назвал свое эссе «Миф о Сизифе», хотя этот античный сюжет возникает лишь на последних страницах.
Абсурд – дитя несовпадения. Он возникает, когда реальность не оправдывает наших ожиданий. От простейших до самых сложных случаев, как пишет Камю, «абсурдность тем больше, чем сильнее разрыв между терминами сравнения». В пример он приводит «абсурдные браки, абсурдный вызов, абсурдное молчание, абсурдные обиды, войны и даже перемирия»[56].
Ближайшие друзья Камю, читая эти строки, могли бы вспомнить его мучительный брак с Симоной Ийе, источенные туберкулезом легкие, классовые конфликты в Алжире, которые он описывал как репортер, черствость матери, о которой он заботился всю жизнь – или то, как мальчиком он на каникулах помогал в хозяйственном магазине, где долгие дни был занят работой, которая «возникала из пустоты и в пустоту уходила», и «ждал, сидя на стуле, когда ему дадут повод для бессмысленной суеты». Это было своего рода упражнение в сизифовом абсурде. Таким же упражнением можно назвать и его детские попытки переводить для неграмотной бабушки титры к немым фильмам: быстро, чтобы она успевала следить за действием, но тихо, чтобы не мешать другим зрителям[57].
Те, кто не знал Камю, но знал войны и перемирия, тоже видели царство абсурда. Хотя в дневниках писателя лишь одна запись посвящена великому исходу, всё эссе проникнуто опытом французов 1940 года. Камю считал это обстоятельство достаточно важным, чтобы сделать на нем акцент при публикации «Мифа о Сизифе» в Америке в 1955 году. В предисловии он просит читателей о снисхождении и понимании, напоминая, что книга «написана пятнадцать лет назад, в 1940 году, в дни великих бедствий, постигших Францию и Европу»[58].
Поражение Франции знаменовало собой болезненный разрыв между народом и государством. Французские экономические и военные ресурсы не так уж заметно уступали немецким; по некоторым параметрам Франция даже превосходила врага. Несоответствие ее мощи, выраженной в качестве и количестве ресурсов, и столь стремительного разгрома, побудило историка Марка Блока – солдата и участника Сопротивления – окрестить это событие «странным поражением». Блок погиб в нацистских застенках в 1944 году, но случись ему пережить войну, он бы, вероятно, согласился, что это поражение было столь же странным, сколь и абсурдным.
Какое более резкое несоответствие можно было помыслить в дни исхода для миллионов беженцев, которые за несколько дней до того, как попали в водоворот на месте ушедшей ко дну Французской республики, все еще глупо верили как в незыблемость ее гражданских, правовых и политических институтов, так и в продолжение своей налаженной жизни? «Утреннее вставание, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, еда, трамвай, четыре часа работы, еда, сон, и так все, в том же ритме, в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу»[59]. Это все то, чем наши жизни были «до»: отсутствие пауз, бесшовная ткань дней – ровно до того момента, когда швы внезапно разошлись.
Моментом разрыва может обернуться такое тривиальное событие, как подслушанный разговор или мелькнувшая сцена, или настолько неординарное, как пикирующий на тебя «юнкерс». В этот миг нас вырывают из привычной обыденности шепот или взрыв, требующие ответа на вопрос «Зачем?» с равной и неожиданной настойчивостью. Устало и не без удивления мы устремляем взгляд в поисках ответа в пустоту небес или на кабину самолета с незнакомцем внутри, который твердо намерен нас уничтожить, и на наших глазах маскировка осыпается, «мир вновь становится самим собой»[60]. Как бы мы ни старались вернуться к тому, что знали прежде, несуразность человеческого существования восстановлена. Наша реакция на все эти события напоминает поведение переведенного в Клермон-Ферран из Парижа банковского клерка, которого описывает в записных книжках Камю: «[Он] пытается сохранить верность старым привычкам. Это ему почти удается. Но есть неуловимая разница»[61].
Снявшись с якоря, как и множество других организаций, в сентябре Paris-Soir вновь переезжает: из Клермон-Феррана в Лион. Служащих поселяют в отеле, стены которого украшены картинами в жанре ню, напоминающими о том, что в этом здании, расположенном в самом центре квартала красных фонарей, прежде размещался бордель. Это было вполне уместно, поскольку газета к этому времени без капли стыда взялась прославлять авторитарный режим Виши, верноподданнически перепевая реакционные, патерналистские и ксенофобские заявления, которыми сыпал маршал Петен. Тексты его выступлений подкреплялись фотоснимками, на которых шеренги стариков и мальчишек – почти все мужчины другого возраста оставались в немецких лагерях военнопленных – вскидывают руки над головами в беретах, салютуя новому лидеру нации. В день приезда Петена в Лион на главной городской площади собрались ветераны Первой мировой. Глядя на эту толпу, один из горожан буркнул, что сцена напоминает ему «оживший оссуарий»[62].
Общественный климат портился, и в Камю росли недовольство и сомнение по поводу Paris-Soir. В начале октября газета опубликовала первый набор антисемитских законов режима Виши. Камю в письме еврейской приятельнице Ирен Джиё выплескивает свое негодование: «Этот ветер не продержится долго, если все мы – и каждый из нас – твердо признаем, что это плохо пахнет»[63]. Камю обещает всегда стоять за Ирен – не самая распространенная позиция для француза в 1940 году, когда абсолютное большинство граждан либо приветствовало новые законы, либо смирялось с ними. В записных книжках Камю перечисляет несколько исторических параллелей: Святой Фома признавал за народом право на восстание, а в Сиене в эпоху Возрождения кондотьер, спасший город, потребовал для себя абсолютной власти и был за это убит горожанами[64].
Франсина приехала в начале декабря: они с Камю теперь могли вступить в брак, поскольку развод с Ийе наконец зарегистрировали. 3 декабря после гражданской церемонии новобрачные в компании с Пиа и наборщиками из газеты отметили событие в ближайшем баре. Камю в те дни, когда в Paris-Soir ложь заняла место фактов, находил утешение в наборном цеху: наборщики, по крайней мере, могли с полным правом получать удовольствие от своего непростого труда. До конца месяца Камю, если не отбывал ночную вахту в редакции, работал с Франсиной в неотапливаемом номере над «Мифом о Сизифе». Ему не удалось раздобыть пишущую машинку и приходилось писать застывшими стертыми пальцами, а Франсина перебеляла текст в перчатках. В этой голой ледяной комнате, напоминающей «уродливый, но потрясающий мир», где «даже кроты осмеливаются надеяться», Камю погружался в свою рукопись и в мир, о котором рассказывал, чтобы если и не обрести надежду, то хотя бы не впасть в отчаяние[65].
Мы знаем, чем заканчивается история Сизифа: она бесконечна. Это завершение без завершения, измеренное расстоянием между вершиной горы и последним отрезком склона, который нужно преодолеть камню. Куда меньше известно при этом, с чего миф о Сизифе начинается. А у него, по сути, несколько вариантов завязки. Камю упоминает разные версии, не задерживаясь ни на одной.
Сизиф, сын бога ветров Эола, был хитрецом. Он то и дело оставлял в дураках как смертных, так и богов. Пожалуй, особенно зло он пошутил над Аидом, который по воле Зевса явился к Сизифу с оковами, чтобы увести в царство теней. Сизиф, попросив показать, как надеваются оковы, сам заковал Аида в цепи. Абсурд плененного бога осложнялся еще более абсурдным следствием: пока Аид пребывал hors de combat[66], никто не мог умереть. И это предельно досадное недоразумение разрешилось лишь после того, как бог войны Арес, вызволив Аида из оков, схватил Сизифа и отправил навстречу его судьбе.
Сизиф не сдался и тогда. Пока Арес готовился унести его дух, хитрец шепнул жене Меропе, чтобы та не погребала его тело. Прибыв к Персефоне, пройдоха сообщил властительнице загробного мира, что его пребывание там – чистое недоразумение: вроде бы умер, но тело не похоронено. Сизиф заключил, что, строго говоря, место ему на другом берегу Стикса. И пока как всегда суровая Персефона пыталась понять, как с ним быть, хитрец добавил: если бы только его отпустили обратно на три дня, он бы все уладил и тут же вернулся в Аид. Сбитая с толку богиня дала такое позволение, и Сизиф возвратился на белый свет; нечего и говорить, что обещания он не сдержал. Олимпийский жандарм Гермес отыскал беглеца, схватил его и приволок – вторично – в Аид, где в наказание за каверзы Сизифа обременили огромным валуном, который ему придется вечно, раз за разом вкатывать на вершину горы[67].
Кто лучше годится в абсурдные герои? «Презрение к богам, ненависть к смерти, жажда жизни стоили ему несказанных мук, когда человеческое существо заставляют заниматься делом, которому нет конца»[68]. Притом Камю не упоминает Сизифовых уловок и каверз, плутней и хитростей – всего того, что было так важно для античных греков. Напротив, он утверждает, что Гомер называл Сизифа «мудрейшим и осторожнейшим из смертных»[69].
На деле Гомер такого не говорил. В «Илиаде» он характеризует Сизифа как изворотливейшего среди мужей. Благоразумием он не отличался, а мудрость пришла к нему слишком поздно. Не останавливается Камю и на той версии мифа, в которой Сизиф – соблазнитель или даже насильник Антиклеи, жены Лаэрта и матери величайшего из всех хитрецов, Одиссея. Может быть, Камю не знал об этих вариантах сюжета или, если и знал, то побоялся, как бы они не бросили тень на героический образ Сизифа. Или, пожалуй, Камю поступил, как поступил бы любой древнегреческий историк, драматург или философ: создал героя в духе своего, а не былого времени.
Если о чем-то может свидетельствовать дошедший до нас стихотворный фрагмент драмы Крития «Сизиф», то, похоже, античный политик и философ освоил миф похожим образом. Критий – между прочим, дядя Платона – писал, что смертные создали богов, чтобы через страх божественной кары утвердить в обществе верховенство закона. Один из персонажей его пьесы возглашает, что «некий муж разумный, мудрый, думаю, для обуздания смертных изобрел богов, чтобы злые, их страшась, тайком не смели бы зла ни творить, ни молвить, ни помыслить бы»[70]. Был ли этим мудрецом на самом деле Сизиф, произнес ли он такие слова до того, как был наказан богами, чье существование отрицал, или они прозвучали в космосе, где никаких богов не было и нет, – неизвестно.
Меняют ли новые детали – и более полный очерк личности Сизифа – наше восприятие его участи? Что ни говори, а в наших глазах изнасилование и преступление закона заслуживают более тяжкого наказания, чем обычное плутовство. Но в наших глазах – или, собственно говоря, в глазах античных греков – и олимпийцы вряд ли могли служить образцом нравственности или, что важнее, справедливости. В конце концов, какая разница, надзирает ли за миром, где Сизиф совершил то, что совершил, множество богов или не надзирает ни один? В обоих случаях трансцедентальная основа отсутствует, и нет абсолютных стандартов, по которым мы можем назначать кару тем, кого считаем преступниками.
Именно таким, безразличным к действиям людей, видит мир гомеровский персонаж, потомок Сизифа троянский герой Главк. На поле боя под стенами Трои Главк встречает другого героя – Диомеда. И пока они готовятся к поединку, тот спрашивает Главка о его происхождении. Ответ Главка – одно из самых запоминающихся мест поэмы:
- Высокодушный Тидид, для чего узнаешь ты о роде?
- Сходны судьбой поколенья людей с поколеньями листьев:
- Листья – одни по земле рассеваются ветром, другие
- Зеленью снова леса одевают с пришедшей весною.
- Так же и люди: одни нарождаются, гибнут другие[71].
Обнаружив, что приходятся друг другу родней, герои обнимаются, клянутся в дружбе и ищут себе новых противников. Иначе говоря, они нашли одну из двух настоящих ценностей в мире, лишенном высшего смысла, – дружбу. И разделяются ради поисков другой ценности – славы. Можем ли мы решить, имея в виду финал эссе, что оба героя счастливы?
Вскоре после Рождества 1940 года, одного из самых холодных в истории Франции, газета Paris-Soir дала Альберу Камю расчет: даже для изданий, специализирующихся на бульварщине и пропаганде, настали трудные и голодные времена. В каком-то смысле обстоятельствам удалось то, в чем не преуспел Камю: он так и не решился сам уйти из газеты, от политики которой его давно тошнило. Кроме того, теперь писатель мог спокойно покинуть нелюбимые места: после увольнения оставаться в метрополии было незачем. В начале января они с Франсиной сели в поезд до Марселя, а оттуда поплыли домой в Алжир. Поскольку работы в столице сразу не нашлось, пара перебралась в Оран, второй по значению город страны, – в квартиру, принадлежавшую семье Фор.
Оран стал подходящим пейзажем для сумрачных дней писателя. У этого города не нашлось ни одной из черт, ярко определявших столицу: ни плавного перехода от кварталов к морю, ни оживленных улиц, ни напряженного интеллектуально-творческого пульса. Нет, Оран был городом, решительно отвернувшимся от моря. Камю жаловался, что не осталось такого места, «которое оранцы не испоганили бы какой-нибудь мерзкой постройкой, способной перечеркнуть любой пейзаж»[72]. Что касается самого города, то «улицы Орана отданы пыли, гальке и зною. Если идет дождь, это уже потоп и море грязи». Эти улицы закручиваются в узлы, образуя лабиринт, в центре которого пешеход находит не Минотавра, а чудовище куда страшнее: скуку[73].
Скука тем более одолевает того, у кого нет работы. Как заметил Камю в разговоре с другом, возвращение в Оран «в таких обстоятельствах вряд ли можно расценивать как шаг вперед»[74]. Не считая случайных заказов на редактуру, несколько недель Камю проболтался без всякого дела. Наконец, он находит должность – порожденную вишистскими антисемитскими законами. Во Франции установили жесткие квоты для еврейских детей в государственных школах, и большому числу молодых людей пришлось искать, где получить образование. В Оране с его немалой еврейской общиной на учителей возник высокий спрос: в марте Камю уже преподает в двух частных школах вместе с еврейскими друзьями, изгнанными из государственных лицеев.
Камю становится мастером на все руки, преподает множество предметов от французского языка до географии и философии, но ни одна из дисциплин не дает ключей к абсурду ситуации. В то же время Камю прекрасно сознает необходимость реагировать на поставленные условия, преодолевать их. Вдвоем с женой они организуют сбор денег и дают приют еврейским друзьям, потерявшим работу из-за расовых квот. Происходят тайные разговоры о сопротивлении: обсуждается как, где и когда, но почти никакого действия за этим не следует. Атмосфера в Оране остается мрачной и гнетущей. Да, у Камю, наконец, есть устойчивый доход, и писатель делает все, что только может, для друзей, но такая жизнь ему невыносима. «Дни тянутся и тяготят меня» – признавался он одному из приятелей[75]. В письме же другому жаловался: «Я задыхаюсь». Как человек, страдавший туберкулезом, Камю прекрасно понимал цену такой метафоры.
Где-то на середине этого тревожного и безотрадного отрезка жизни Камю завершает рукопись «Мифа о Сизифе». Теперь все «три абсурда», включая «Калигулу» и «Постороннего», готовы. Хотя бы в этом отношении Камю может вздохнуть с облегчением. В записных книжках, объявив о завершении работы, он прибавляет: «Начатки свободы»[76]. Как явствует из его трактовки мифа, свободу можно обрести в самых неожиданных местах: даже в Оране или в Аиде.
«Боги обрекли Сизифа вечно вкатывать на вершину горы огромный камень, откуда он под собственной тяжестью вновь и вновь низвергался обратно к подножию. Боги не без оснований полагали, что нет кары ужаснее, чем нескончаемая работа без пользы и без надежд впереди»[77]. Сначала лишь скупо набросав портрет Сизифа, Камю затем наполняет миф красками. Он описывает, как Сизиф «с трудом» катит валун, и отмечает, что перед ним поставлена непростая задача, но все эти непомерные физические усилия как будто отходят для Камю на второй план. Словно пытка, которую боги назначили Сизифу, в первую очередь – а может, и вообще – заключается не в истязании тела, а в глумлении над разумом, озадаченным бесконечным повторением. Для Сизифа, обреченного снова и снова делать одно и то же целую вечность, без отдыха и без цели, под невидящим взглядом Вселенной, размер и вес камня совершенно не важны. Пытка заключается в безостановочном выполнении бессмысленного действия[78].
И поэтому нет смысла менять или облегчать задачу приговоренного: станет ли он катать газонокосилку, вставлять нитку в иголку, бросать мяч в корзину, выносить мусор, стирать запятую, а потом вставлять ее снова – бесконечное повторение действий, не приводящих ни к какому результату, все равно останется пыткой. Мучительность труда Сизифа – не следствие силы тяготения. Нет, он тягостен своей непоследовательностью. Конечно, Сизиф привязан к этому камню, но важнее то, что он привязан к абсурдности своего взаимодействия с ним.
Ричард Тейлор задается вопросом: что, если мы попробуем поменять не задачу Сизифа, а его отношение к ней? Предположим, богам взбрело в голову облегчить его наказание, дав ему наркотик, от которого он полюбит свое занятие и будет хотеть от бесконечной жизни лишь одного: снова и снова закатывать камень на вершину горы? Это, как заключает Тейлор, будет означать освобождение пленника: «Если у Сизифа появится острое и неутолимое желание делать то, что ему вдруг пришлось делать, тогда, никак не поменявшись, его жизнь все же будет иметь для него смысл»[79]. Если так, то мы легко – согласно заключительной строке эссе – «представим Сизифа счастливым».
Однако можем ли мы представить Камю довольным таким поворотом?
В конце января 1942 года у Камю, находившегося в квартире с Франсиной, случился приступ кашля. Спазмы становились все сильнее, в мокроте появилась кровь, и Франсина бросилась но поиски врача. К утру приступы прекратились, но Камю понимал, что это лишь временная передышка. В письме свояченице, Кристин Фор, он признавался: «Я думал, что на этот раз мне конец»[80]. Диагноз врача подтвердил худшие опасения больного: до тех пор было затронуто только левое легкое, но теперь болезнь поразила и правое. С небывалой ясностью Камю увидел, что жизнь дана ему без права обжалования.
Как микобактерии туберкулеза проникли в здоровое легкое Камю, так и расистская политика Виши проникла в повседневную жизнь Орана. В середине 1941 года режим установил многочисленные ограничения в виде квот на профессии: во Франции в профессиях дантистов, врачей и юристов допускалось не более двух процентов евреев. Бросить практику и зависеть от доброты коллег, пускавших его в свои кабинеты, пришлось и врачу Камю Анри Коэну.
Кстати, именно Коэн уговорил писателя переехать, сменить место изгнания. Опасаясь, как бы еще одно сырое лето в Оране не ухудшило состояние пациента, он посоветовал Камю отправиться в санаторий в материковой Франции. Санаторий был Камю не по карману, и он согласился на предложение родни Франсины: пожить на ферме, которой они владели в окрестностях Шамбон-сюр-Линьона, что в Севеннах, на юге Центральной Франции. В августе Альбер и Франсина взошли на пароход и покинули Алжир.
По прибытии в Марсель они сели в поезд и отправились с пересадками сначала до Лиона, затем до небольшой станции Сен-Этьен и, наконец, до Шамбон-сюр-Линьона. Но и там путь Камю, измотанного и задыхавшегося, еще не завершился. У деревенского вокзала они с Франсиной наняли запряженную лошадью тележку, чтобы добраться до Ле-Панелье – горстки обведенных высокой стеной каменных строений, которой и была ферма, принадлежавшая семье Франсины и расположенная в нескольких километрах от деревни.
Конец лета в Севеннах оказался для путешественника целительным. В лесистых долинах, изрезанных ручьями и тропами, царило умиротворение. Подруге в Алжире Камю писал, что «потребуется немалое время побродить по окрестностям», прежде чем он почувствует себя дома на новом месте. В записных книжках Камю высказывается откровеннее: «Я слышу шум источников каждый день. Они текут вокруг меня, через залитые солнцем луга, они приближаются ко мне, и скоро я услышу их шум в себе, этот источник забьет в моем сердце, и я буду думать под его шум. Это забвение»[81]. Порой казалось, что силы природы спешат помочь ему достичь «забвения» – поскорее оставить позади недавний приступ болезни. Пышные лапы хвойных деревьев Камю сравнивал с армией «варваров дня», которые «заставят отступить пугливую армию ночных мыслей»[82].
В начале октября Франсина возвращается в Оран; Камю планирует последовать за ней, когда она найдет в Алжире учительскую работу для них обоих. В Севеннах становится сыро и холодно, большинство других постояльцев фермы, с которыми Камю в любом случае почти не общался, разъехались, и единственной связью с большим миром остаются для него поездки в Сен-Этьен на инъекцию от пневмоторакса: они служат ему, в буквальном смысле, окном во Францию. Через стекло вагона Камю изучает лица крестьян, в ожидании топчущихся на станциях, которые минует поезд, затем рассматривает пассажиров, слоняющихся по вагону. На вокзале в Сен-Этьене наблюдает, как путешественники в молчании «поглощают отвратительную пищу, потом выходят в темный город, толкаясь локтями, но оставаясь чужими друг другу… Отчаянная молчаливая жизнь, которую в ожидании лучшего ведет вся Франция»[83]. Камю задумывается о том, как в будущем сможет понять Францию тот, кто не окунулся в эту атмосферу? Размышляет о лицах и силуэтах «французов, сгрудившихся на небольших станциях»: «Я не скоро смогу забыть их, этих старых крестьян и крестьянок; она вся сморщенная, он с гладким лицом, на котором белеют светлые глаза и седые усы; две зимы лишений пригнули их к земле, латаная-перелатаная одежда лоснится. Народу, познавшему нищету, не до элегантности. В поездах потрепанные, перевязанные веревками и кое-как заделанные картонками чемоданы. Все французы похожи на эмигрантов»[84].
11 ноября 1942 года ожидание внезапно показалось одновременно и недолгим, и зловещим. В ответ на высадку Союзников в Северной Африке немцы перешли демаркационную линию, с 1940 года отделявшую оккупационную зону от свободной Франции, и захватили всю территорию страны. В тот день Камю записывает в дневнике: «Попались как крысы!». Между ним и Алжиром внезапно воздвиглась стена: теперь он не сможет вернуться к семье, друзьям и родным местам. Ситуация абсурдного человека: того, который «способен видеть и познавать лишь окружающие его стены»[85].
В том же месяце, когда Камю оказался заперт во Франции, он узнал, что тираж «Постороннего», изданного «Галлимаром» в том году, хорошо разошелся и предстоит допечатка еще 4400 экземпляров[86]. Это решение было тем более значимым, что бумага в стране на глазах превращалась в драгоценность. Однако Камю, довольного относительным коммерческим успехом книги, совсем не обрадовал ее прием со стороны критиков. В письме школьному другу Клоду де Фременвилю он отмахивается от всех рецензий – и хороших, и посредственных, – поскольку их авторы «исходят из неверного понимания» его романа. Лучше всего «зажать уши» и продолжать работу[87].
И все же одна рецензия, опубликованная в начале 1943 года в уважаемом издании Cahiers du Sud, пробилась сквозь холодное недовольство Камю. Набирающий популярность Жан-Поль Сартр с восхитительной четкостью разобрал роман Камю на двадцати страницах – таким авторам как Уильям Фолкнер или Жан Жироду он уделил в своих рецензиях намного меньше[88]. В статье под названием «Объяснение „Постороннего“» Сартр фильтрует текст романа через россыпь философских наблюдений.
Безусловно, Сартр прочел его глазами парижского интеллектуала, разглядывающего любопытную диковину из отдаленной колонии. Но это не делает его наблюдения менее ценными. Кроме того, «Посторонний» оказался действительно весьма необычным предметом, далеко отстоящим от ривгошистских богемных кафе. Дни Мерсо формируются из череды едва отличимых друг от друга звуков, зримых образов и ощущений, из последовательности событий, которые он перечисляет ровным голосом, почти ничего не поясняя, даже когда убивает на пляже араба и готовится в свою очередь быть убитым за свое преступление руками государства – две бессмыслицы одна за другой. История Мерсо озадачивает читателя. Как понять ее?
По мысли Сартра, ответ зависит от того, что мы называем пониманием. Выискивать смысл в этом повествовании бесполезно: надо понять, что там нечего понимать. В этом и кроется подвох книги, в этом и смысл ее заглавия: «Посторонний, которого он стремится изобразить, – это как раз один из тех простодушных, которые вызывают ужас и возмущают общество, потому что не принимают правил его игры. Он живет в окружении посторонних, но и сам для них посторонний… Да и мы сами, открыв книгу и еще не проникнувшись чувством абсурда, напрасно попытались бы судить Мерсо по нашим привычным нормам: для нас он тоже посторонний»[89].
Наверное, самый знаменитый образ, который создает Камю в «Мифе о Сизифе», чтобы передать бездну бессмысленности, разверзающуюся под хрупкой скорлупой наших верований и убеждений, – это человек, разговаривающий по телефону за стеклянной перегородкой. «Его не слышно, зато видна его мимика, лишенная смысла, – и вдруг задаешься вопросом, зачем он живет»[90]. В некотором смысле, Камю передергивает онтологическую колоду: образ немого спектакля рассыплется, если мы подслушаем беседу героя, даже хотя бы только его реплики. Осмысленность восстановится в мире, который на минуту показался нам абсурдным. На этом основании философ Колин Уилсон отвергает образ Камю как вводящий в заблуждение: человек с телефоном «лишен существенных „черт“, которые помогли бы нам завершить картину»[91].
По тем же причинам неубедительным этот образ счел в своей рецензии Сартр: «В самом деле, жесты человека, который разговаривает по телефону и которого вы не слышите, абсурдны лишь относительно, ибо являются звеньями разорванной цепи. Откройте дверь, приложите ухо к телефонной трубке – цепь восстановится, человеческие поступки вновь обретут смысл»[92]. Не в пример Уилсону, однако, Сартр понимает, что Камю не выдвигает аргумент, а представляет метод – «речь сейчас идет не о честности, речь идет об искусстве», – метод, как показать мир прозрачным и в то же время непроницаемым. Подобная эстетика, в свою очередь, обнажает ту правду о человеческой ситуации, до которой не добраться формальным рассуждением: мы живем в мире, отказывающемся транслировать смысл, и поэтому наши действия и слова рискуют превратиться в произвольные судороги.
Сартр говорит, что эти действия не менее бессмысленны, чем у героев столь же лаконичных и телеграфных сочинений Вольтера. В конце концов, стеклянная перегородка – это способ создать вид ниоткуда. Главный герой Вольтеровского «Микромегаса» – пришелец с далекой планеты, который при росте 20 000 футов не может ни видеть, ни слышать обитателей Земли, – заключает, что эта планета никем не населена. И даже имея возможность нас видеть, много ли смысла разглядел бы он в нашем копошении? Но абсурд, наполняющий космос «Кандида» или «Микромегаса», – сатирический. Смех читателя опрокидывает шаткую конструкцию реакционных политических и религиозных ценностей, которые не давали покоя Вольтеровской эпохе Просвещения. С «Посторонним» же нет никаких указаний на то, что просвещение приведет к пониманию – во всяком случае той форме понимания, которую опознал бы Вольтер.
Конечно, немногое так способствует сосредоточению разума, как предстоящая завтра казнь. Вместе с тем, в случае Мерсо речь идет даже о формировании разума. После заключения в тюрьму и суда за убийство араба у героя на наших глазах проявляется самосознание. Он задумывается о себе, но причиной этой рефлексии становится общество, которое чурается его – аутсайдера, лишившегося права жить среди людей. Прокурор, заглянувший в душу Мерсо, ошеломляет присяжных заявлением: он не нашел там «ничего человеческого»[93]. На деле же виной тому стеклянная перегородка между прокурором и Мерсо.
В уединении тюремной камеры Мерсо находит самого себя. Заснув на койке после ожесточенной стычки с посетившим его священником, он пробуждается лицом к окну, за которым видно ночное небо. «Перед этой ночью, полной загадочных знаков и звезд, я впервые раскрываюсь навстречу тихому равнодушию мира»[94]. В этой сцене воссоздаются последние дни Жюльена Сореля, героя романа Стендаля «Красное и черное». Этого автора, творившего в XIX веке, Камю часто упоминает в дневниках, не раз восхищаясь его лаконичным стилем и беспощадным пониманием природы человека. Но не меньше Камю впечатлил вызов, брошенный Сорелем болоту лицемерия и притворства, которое мы называем обществом. Как и Мерсо, запертый в камере перед казнью, Жюльен понимает, что по-настоящему счастлив был лишь неискушенным юнцом; что он тоже, вытолкав из своей камеры навязчивого кюре, предается последним размышлениям; что он тоже, в обреченном на провал поиске цельности и смысла находит вместо них абсурд: «Мушка-однодневка появляется на свет в девять часов утра в теплый летний день, а на исходе дня, в пять часов, она уже умирает; откуда ей знать, что означает слово „ночь“?»[95].
Разумеется, связывая абсурд с французской Реставрацией, мы рискуем погрешить против истории. Как и любое философское понятие, абсурд родился в некое время в некоем месте. Согласно формулировке Терри Иглтона, хотя о смысле жизни задумываются все люди, «некоторым, по историческим причинам, приходится думать о нем старательнее остальных»[96]. Именно это, как мы убедились, и происходило с Францией – и Камю – в 1940 году.
Однако уже в 1946-м, спустя каких-то четыре года после публикации «Постороннего» и «Мифа о Сизифе», философ Альфред Айер, в то время чиновник британского посольства в освобожденном Париже, громко заявил об ограничениях термина «абсурд». В эссе о Камю английский апологет логического позитивизма признает это понятие бессмысленным в самом прямом смысле. Англо-американские философы, как поясняет Айер, не понимают того, каким образом Камю применяет термины «логика» и «разум». Абсурд «сводится к тому, что современные кембриджские философы назвали бы „бессмысленной жалобой“»[97]. Вместе с тем Айер признает, что под поверхностью текста у Камю обнаруживается определенная истина, какой бы неловкой и неприятной они нам ни казалась. Нельзя не заметить «эмоционального напряжения», которым пульсирует текст. Айер добавляет: «Я и сам почувствовал немалую симпатию к ценностям, которые Камю связывает здесь с доктриной абсурда»[98]. Мало того, Айер соглашается, что вопросы, поставленные Камю, метафизически обоснованны. Правда, для Айера похвала в этом невелика: «Метафизические они потому, что ответить на них с отсылкой к какому-либо мыслимому опыту невозможно»[99].
Спустя много лет в мемуарах Айер писал о своем восхищении писательским даром и личностью Камю, которому, по воспоминаниям философа, были свойственны «безупречная честность и моральная отвага». Похоже, честность Камю оказалась столь безупречной, что при личном знакомстве с Айером он согласился с его критикой. Айер в мемуарах вспоминал: «[Камю] возразил лишь насчет того, что я писал, будто в молодости он преподавал философию в Алжире, тогда как на самом деле он был профессиональным футболистом». Камю никогда не был профессиональным спортсменом, и, видимо, Айер не понял сказанного по-французски или смысл шутки Камю, а скорее всего, ни того, ни другого[100]. Но еще более очевидно то, что Айер не смог понять главного послания «Мифа о Сизифе». В сущности, его самодовольный вывод о том, что «метафизические» вопрошания автора не имеют ответа, только лишний раз иллюстрирует ни в коем случае не самодовольную «жалобу» Камю.
В начале 1970-х подобную смесь снисхождения и уступки явил философ Томас Нагель, считавший, что большинство людей «временами видит жизнь как абсурд, но у кого-то это ощущение бывает длительным и ярким». Однако причины этого переживания, предложенные Камю, по мнению Нагеля, «абсолютно неадекватны»[101]. Вторя формалистской самоуверенности Айера, он объявляет: «Стандартные доводы в пользу абсурда нельзя признать доводами вообще»[102]. При этом Нагель чувствует подводное течение скрытых истин, до которых не добраться умозаключениями. Хотя с позиций логики эти доводы сильно хромают, они тем не менее «пытаются донести послание, которое непросто формулируется, но по сути верно»[103]. Нагель допускает, что эта неудачная аргументация действует потому, что отражает некую устойчивую правду о нашей жизни: то потрясение, испытываемое нами, когда мы смотрим на себя со стороны «взглядом ниоткуда» и внезапно сознаем диссонанс между той первостепенной важностью, которую приписываем нашим повседневным делам, и их абсолютной незначительностью. Соображения, представлявшиеся нам убедительными, теперь кажутся не более упорядоченными, чем торнадо, который сметает один дом, не задев соседний. «Мы видим себя со стороны, и вся случайность и специфичность наших целей и занятий становится очевидной, – резюмирует Нагель. – И все же, когда мы принимаем такую точку зрения и признаем свои поступки произвольными, это не освобождает нас от жизни, и вот тут и начинается абсурдность»[104].
Эта способность посмотреть ниоткуда, присущая лишь людям и вплетенная в ткань сознания, – и благо и бремя нашего бытия. Нагель возводит наше чувство абсурдности не к конфликту между поиском смысла и безмолвием мироздания, а к «противоречию внутри нас»[105]. Однако едва ли этим объясняется, что Камю у него предстает «романтическим и немного жалеющим себя» писателем. Лишь только мы поймем космическую незначительность нашей ситуации, как заключает Нагель, нам придется смотреть на вещи с иронией[106].
И вот спустя четверть века Терри Иглтон в свою очередь избирает вслед за Айером и Нагелем все тот же тон холодной учтивости. «Трагическая непокорность Альбера Камю, столкнувшегося с якобы бессмысленным миром, на самом деле – часть проблемы, а не ответ. Вы почувствуете тошнотворную бессмысленность нашего мира – взамен старой доброй просто бессмысленности – только в случае, если у вас с самого начала были завышенные ожидания»[107].
Видимо, к иронии те, чья жизнь пришлась в основном на годы после Второй мировой, прибегают легче, чем те, кому довелось войну пережить. Но различие между Айером, Нагелем и Иглтоном с одной стороны и Камю с другой, лежит не только в области стиля. Именно ирония как выход и есть болезнь, которая притворяется лечением. Как предполагает Джеффри Гордон, в беззаботной отмашке Нагеля можно «увидеть знак нового этапа нашего духовного кризиса, этапа, на котором, устав скорбеть, мы пытаемся уверить себя в незначительности того, о чем скорбим»[108]. Далекая от позерства озабоченность Камю, ставящего вопрос о смысле, идет от интуитивного осознания масштабов проблемы. Ироническое отстранение равносильно надеванию философских шор. Но для человека, отринувшего их, как пишет Камю, «нет зрелища прекраснее, чем разум в схватке с превосходящей его действительностью»: «Обеднить действительность, которая своим бесчеловечием питает величие человека, – значит обеднить самого человека. И я понимаю, почему учения, берущиеся объяснить мне все на свете, тем самым меня ослабляют. Они облегчают груз моей жизни»[109].
Верно, философы грешат этим занятием не меньше, чем теологи или идеологи. Однако если одни профессиональные философы дают ответы в виде доктрин, другие сродни моралистам предлагают только вопросы. Роберт Соломон характеризует аргументы в «Мифе о Сизифе» как провальные. Но обязаны ли мы настаивать на том, чтобы эти аргументы конструировались в строгих философских терминах? Тезисы Камю ничуть не более строги и логичны, чем тезисы Платона. Должны ли мы по этой причине отвергнуть Платона – или, собственно говоря, Камю? Если мы так поступаем, то не читатель ли предает философский raison d'être прежде самих мыслителей? Соломон считает, что отказ от аргументации в строго логических терминах служит причиной величия некоторых философов: «Они скорее пытаются сделать кое-что иное: заставить нас думать, обеспечить нас точкой зрения, побудить изменить свою жизнь – и все это самыми разными средствами, и аргументация – лишь одно из них»[110].
Другим средством служат художественные образы, будь то мифические герои или современные личности: с одной стороны Сизиф, а с другой – крестьянин из Шамбона. А переход от одного к другому, как обнаруживает Камю, состоит в переходе от одиночного бунта против абсурдности мира к коллективному бунту против бесчеловечного обращения с людьми.
В конце 1942 года жители Шамбона вполне ощутили бремя собственного существования, взвалив на себя бремя, выпавшее другим. Шамбонцы, направляемые местным священником Андре Трокме, прекрасно представляли, какую участь режим Виши уготовил евреям. Уже в 1940-м, когда деморализованная нация приняла маршала Филиппа Петена, главу правительства Виши, Трокме шел своим путем, отказавшись присягать на верность новому режиму. В 1941-м он не стал звонить в церковные колокола в честь дня рождения Петена. В этих и многих подобных случаях Трокме старался избегать прямого конфликта с властями: не предавал убеждений, но и не подвергал опасности приход.
Однако все изменилось, когда евреи – в 1941 году им было предписано носить на одежде желтую звезду – широким потоком потекли из оккупированной части Франции и стали прибывать в Шамбон. Трокме понял: чтобы спрятать беженцев, нужна лучше организованная и куда более опасная модель сопротивления. Философ Филип Халли подчеркивал, что Трокме и его односельчане были самоучками. Они не располагали ни наставниками, ни учебниками, ни даже просто листовками, с которыми могли бы сверяться. Налаживание связей с другими подпольными организациями, поиск безопасных убежищ, создание легенд и подделка документов для беглецов – все это требовало чрезвычайно высокого уровня планирования и администрирования. Так что в практическом и организационном аспекте эта работа по спасению жизней отлаживалась непрерывно.
При этом столь же существенными были и менее практические аспекты сопротивления. Хотя шамбонцы создавали эффективную организацию буквально на ощупь, в самой необходимости сопротивления не сомневался никто. Твердость позиции объяснялась отчасти историческим опытом местной протестантской общины, но не в меньшей степени – нравственными убеждениями, которых всю сознательную жизнь держался Трокме. Сопротивление – это прежде всего мировоззрение, которое воплощает моральный императив признавать и уважать достоинство любого человека.
Таким образом, к тому времени, когда остальные французы только начали сознавать бесчеловечность режима, шамбонцы уже разобрались, как действовать. Это выразилось и в таких с виду незначительных поступках, как отказ от присяги на верность, и в куда более серьезных делах: например, когда молодые люди из общины передали проезжавшему через Шамбон вишистскому министру письмо, в котором заявили о своем неприятии политики режима в отношении евреев. Разумеется, выразилось это и в спасении жизни более 3 000 беженцев, в том числе детей, которых принимали в семьи, прятали в лесах или переправляли через границу. Как писала Айрис Мёрдок, видение мира с кристальной ясностью означает, что в ситуации морального выбора выбор всегда уже сделан[111].
Видимо, абсурд не устаревает вообще. Вот, например, Книга Иова. Нам кажется, что мы знаем эту библейскую историю, – пока не вспомним сюжет, вклинившийся между ее началом и концом. Если мы прочтем первую и последнюю главы, то встретим знакомую фигуру: человека из земли Уц, который получил награду за бесконечное терпение и веру в Господа. При этом сорок глав между первой и последней – текст, который, по мнению ученых, старше, чем начало и финал книги – рисуют нам восстание человека против космического порядка, уничтожающего все его привычные представления о мире.
Вспомним начало: Бог хвалит своего раба Иова, а его Противник – имя, которое Роберт Олтер в своем переводе[112] дает Сатане – предлагает пари: отбери у этого человека все, что ты ему дал, и он проклянет тебя. Бог принимает вызов Сатаны, и совершенно обычная до этого жизнь Иова превращается в ад. Он лишается своих стад, слуг и, главное, детей. И словно нанося последний удар по скорченному телу Иова, Сатана – разумеется, с согласия Бога – «поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его» (Иов. 2:7). Как трем друзьям, что пришли разделить скорбь Иова, читателю тоже хочется плакать, а может быть, даже порвать на себе одежды и посыпать голову пылью, а затем семь дней просидеть в молчании. Кажется, что за меньший срок не стоит и пытаться понять нравственное и философское измерение этого сюжета. Куда занесет Иова эта цепь катастроф, необъяснимых и незаслуженных? А занесет она его недалеко: на груду золы, где он, так и не получив ответа, будет скоблить глиняным черепком свои струпья.
