Екатерина Великая
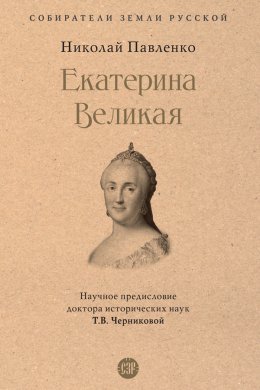
© Павленко Н.И., 1999
© Павленко Н.И., наследник, 2022
© Российское военно-историческое общество, 2022
© Оформление. ООО «Проспект», 2022
Предисловие к серии
Дорогой читатель!
Мы с Вами живем в стране, протянувшейся от Тихого океана до Балтийского моря, от льдов Арктики до субтропиков Черного моря. На этих необозримых пространствах текут полноводные реки, высятся горные хребты, широко раскинулись поля, степи, долины и тысячи километров бескрайнего моря тайги.
Это – Россия, самая большая страна на Земле, наша прекрасная Родина.
Выдающиеся руководители более чем тысячелетнего русского государства – великие князья, цари и императоры – будучи абсолютно разными по образу мышления и стилю правления, вошли в историю как «собиратели Земли Русской». И это не случайно. История России – это история собирания земель. Это не история завоеваний.
Родившись на открытых равнинных пространствах, русское государство не имело естественной географической защиты. Расширение его границ стало единственной возможностью сохранения и развития нашей цивилизации.
Русь издревле становилась объектом опустошающих вторжений. Бывали времена, когда значительные территории исторической России оказывались под властью чужеземных захватчиков.
Восстановление исторической справедливости, воссоединение в границах единой страны оставалось и по сей день остается нашей подлинной национальной идеей. Этой идеей были проникнуты и миллионы простых людей, и те, кто вершил политику государства. Это объединяло и продолжает объединять всех.
И, конечно, одного ума, прозорливости и воли правителей для формирования на протяжении многих веков русского государства как евразийской общности народов было недостаточно. Немалая заслуга в этом принадлежит нашим предкам – выдающимся государственным деятелям, офицерам, дипломатам, деятелям культуры, а также миллионам, сотням миллионов простых тружеников. Их стойкость, мужество, предприимчивость, личная инициатива и есть исторический фундамент, уникальный генетический код российского народа. Их самоотверженным трудом, силой духа и твердостью характера строились дороги и города, двигался научно-технический прогресс, развивалась культура, защищались от иноземных вторжений границы.
Многократно предпринимались попытки остановить рост русского государства, подчинить и разрушить его. Но наш народ во все времена умел собраться и дать отпор захватчикам. В народной памяти навсегда останутся Ледовое побоище и Куликовская битва, Полтава, Бородино и Сталинград – символы несокрушимого мужества наших воинов при защите своего Отечества.
Народная память хранит имена тех, кто своими ратными подвигами, трудами и походами расширял и защищал просторы родной земли. О них и рассказывает это многотомное издание.
В. Мединский, Б. Грызлов
«Столетие безумно и мудро»
Русский XVIII век можно разделить на три четко различающиеся части: эпоху Петровских преобразований (1682–1725), эпоху дворцовых переворотов (1725–1762) и эпоху Екатерины II (1762–1796).
Замечательный отечественный историк Николай Иванович Павленко (1916–2016) справедливо считал, что значения Великих в российской истории достойны два царствования – Петра I и Екатерины II, неслучайно оба монарха вошли в историю с прозваниями Великих.
Сама Екатерина позиционировала себя как продолжательница дела Петра. Неслучайно на памятнике первому русскому императору (знаменитый Медный всадник Э. М. Фальконе) она приказала поместить много говорящую надпись: «Петру Первому – Екатерина Вторая».
Внутренние реформы Екатерины II продолжили совершенствование аппарата государственного управления России, были очень своевременны и, в отличие от преобразований Петра, изначально хорошо продумывались, велись не спонтанно и урывками, а по плану. Русское самодержавие достигло своего апогея, получив при этом оценку просвещенного абсолютизма и законной монархии Екатерины II.
