Культурный код исчезающего индивида
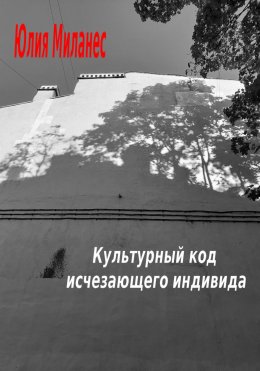
От автора
Задумайтесь, пожалуйста, о том, что примерно через двадцать лет на планете исчезнет один большой или, может быть, даже гигантский народ. Это советский народ, представители которого день ото дня дряхлеют и скоро их совсем не останется. Ни одного. И меня.
Это был народ, породивший всё постсоветское население – русских, белорусов, украинцев, половину Средней Азии, здоровенный кусок Кавказа, четверть Израиля, чуток Германии и Соединенных Штатов. Продолжать можно бесконечно, вплоть до Австралии через Бразилию и остров Пасхи.
Я – представитель этого народа. Я – носитель его культурного кода, то есть идеологии, привитой в детстве. Как любят говорить, впитанной с молоком матери.
Да, мы все помним эти новогодние мандарины, манную кашу с комками в детском саду и толстые колготки. Это стало мемом, растиражированным в сети – с глупыми комментариями глупых женщин. Или мужчин, похожих на женщин. Ну, вы, наверное, таких знаете.
Удивительным образом за двадцать лет эти комментарии радикальным образом изменились. Мы начали коллекционировать то, от чего недавно избавлялись. Например, советские новогодние игрушки. Женщины и мужчины, ныне бабушки и дедушки, плевавшие в детстве бесплатной кашей, за двадцать лет внезапно поняли, что теперь, как ни проси, бесплатную кашу больше не получишь. А те, кто смеялся над мемами, снова начали носить советские колготки.
Но комментарии сохранились. Интернет вообще всё хранит, пока, конечно, платят за хостинг. Весь яд, всю глупость…
Я, носитель культурного кода советского народа, хочу рассказать вам об этом исчезающем народе. Теперь, когда время всё расставило по своим местам.
Часть первая. Качели
Кто-то недобрый придумал колесо обозрения. Какие чувства оно должно вызывать по мнению изобретателя? Восторг полета? Ничуть. Когда сидишь на макушке этого колеса, обозревать окрестности некогда: я обычно судорожно вцепляюсь в хлипкую цепочку, отделяющую меня от пропасти. И если в детстве я испытывала просто страх, то теперь к нему прибавилось маниакальное желание выпрыгнуть из кабинки на самой маковке колеса, тем самым выпилившись из этой сложной и слишком длинной жизни. А что? Всмятку, гарантированно.
В чём удовольствие-то? Недавно я думала о колесе обозрения и нечаянно мысленно сравнила его с войной. На войне испытываешь страх, и на колесе испытываешь страх. На войне есть вероятность увечья, и на колесе есть вероятность увечья. На войне вероятность смерти несколько выше, конечно, но и тут: только шагни один раз влево…
А в постсоветском пространстве колесо обозрения стало символом запустения. В перестройку ржавые неработающие колеса высились над заброшенными парками и курортами. Они для меня были символом всего гигантского и мёртвого, как, например, наша страна.
Казалось, я должна была избегать колеса обозрения всю свою жизнь. Но один раз я на нём всё-таки покаталась.
Это было ещё в детстве, в Московском парке Победы. На колесо стояла очередь, хотя, я считаю, обозревать в Московском районе нечего. Мама обычно любой наш выход в люди превращала в испытание, в гонку неизвестно куда и неизвестно за чем. Это сейчас мамы в выходной день неторопливо прогуливаются с детьми, вкушая мороженое. А раньше в единственный мамин выходной надо было всюду успеть: детский театр в семь – это дедлайн (билеты куплены, не пропадать же добру), колесо обозрения до пяти (еще надо добраться на трёх транспортах в детский театр), катание на лодках до трёх (смотри выше про три транспорта), кафе-мороженое в час (постоять в очереди), парикмахерская у мамы к одиннадцати.
В общем, в тот день, загнанные, как савраски, подлетаем мы к колесу обозрения. Которое работает до пяти. Без пятнадцати пять подходит наша очередь.
Я беру синенький бумажный билетик в потную ладошку, и мы забираемся в кабинку. Ну, как забираемся? Колесо же медленно крутится, не останавливаясь ни на минуту. Мне четыре года, у меня маленькие толстые ножки, одну из которых я пытаюсь закинуть в движущуюся кабинку. Ноги разъезжаются, и я падаю. Если бы у меня был папа, он бы, наверное, взял меня на руки. Но для юной мамы я – неподъёмный толстый ребёнок. Кабинка, уныло скрипя, уплывает от меня вверх. Билетерша недовольно смотрит, у неё конец рабочего дня. Наконец меня методом «тяни-толкай» запихивают в кабинку.
Колесо обозрения стонет на ветру, как раненое морское животное. В Питере, представьте, сногсшибательные ветра. Это же побережье Балтийского моря.
Итак, мы поднимается на самый верх. По дороге я испытываю все те чувства, которые я описала в самом начале, то есть сижу, вцепившись в хлипкую цепочку, отделяющую меня, такую маленькую, от такой большой пропасти. Сперва мы выше деревьев, а потом – выше домов.
Когда мы на самой макушке, колесо снова тоскливо стонет и… останавливается. Вся махина, похожая на турбину атомной электростанции, застывает в тишине, слышны лишь остренькие, негромкие поскрипывания наших хрупких кабинок.
Внизу суетятся лилипуты – не больше мухи. Лилипуты, которым перестало подчиняться огромное колесо.
Оно упрямо стоит. В соседней кабинке какой-то кавказец достает лаваш и начинает его есть, отщипывая по крошке. Видимо, собирается сидеть тут долго-долго.
– Не бойся, – шепчет мне мама. – Сейчас нас снимет пожарная машина.
Господи, ещё и пожарная машина! Мама не верит в скоропостижную смерть. В то, что мы так глупо умрём, разбившись вместе с гигантским колесом. А я верю, я – маленькая, мне страшно и холодно. Сначала страшно, а потом холодно.
Через пятнадцать минут колесо обозрения вновь издаёт невероятно тоскливый металлический стон и начинает двигаться в обратном направлении.
В американском фильме показали бы, как пострадавших от огромного колеса встречают психологи, кутают их в шерстяные одеяла и дают чашку горячего чая. У нас ничего подобного. Мы вылезли из кабинки, отряхнулись, как утки, вышедшие из воды, и пошли дальше.
– Ну что, мама? – спросила я дрожащими, синими от холода губами. – Теперь в театр?
Мама посмотрела на наручные часики, и мы решительно понеслись на трёх транспортах в детский театр.
Бойтесь, дети, советских людей. Всех нас, воспитанных в СССР. Потому что у нас четырёхлетний ребёнок секунду назад готовится к скоропостижной смерти, а спустя два часа хлопает в ладоши в Большом театре кукол.
У нас не было оград в детских садах. Не от кого. Это сейчас обязательная должность в детском саду – охранник. Современники «обилетили» этим ярмом всех бывших военных. У нас же не было заборов, не было камер видеонаблюдения, висящих на фасадах, не было кодовых замков.
Детский садик – не секретный объект. Никакой секретности в детских горшках и манной каше нет. Самое страшное происшествие тех лет в детском саду – ребёнка забрал не тот родственник. Например, если родители в разводе и забрал не тот родитель, которому был присужден ребёнок.
Садики работали до семи вечера, а уже потом на детские площадки приходили подростки (покурить втихаря от родителей), собачники (да-да, собачники – с собаками) и любители выпить на троих.
Бомжей в ту пору у нас не было. Невозможно было встретить лежащего на детской скамеечке субъекта, распространяющего амбре немытого тела.
Поэтому было вполне доступно… покачаться ночью на детских качелях.
Даже если ты толстая детина-второклассница. Или мама, которая весит под шестьдесят килограмм.
И детские качельки, представьте, не ломались под нашим весом. Они были добротные, рассчитанные на ребёнка-слона.
Я обычно делала «полусолнце» пару десятков раз, а мама просто сидела на своих качелях, потому что у неё был плохой вестибулярный аппарат и её тошнило от высоты. Потом мы некоторое время болтали висящими в воздухе ногами и уходили домой. Зимой ещё смотрели на звёзды, потому что территория детского сада не освещалась от слова «совсем» и было прекрасно видно ночное небо.
В тот день, о котором я хочу рассказать, я уже покачалась и болтала ногами.
Внезапно метрах в десяти от нас мелькнули две тени. На поверку это оказались подростки, которые пришли на детскую площадку выпить пива втихаря от родителей. Они были одеты в спортивные куртки, а на их длинных волосах красовались трогательные полосатые шапочки-«петушки».
Сейчас шапочку-«петушок» никто не наденет из-за одного только названия, ну вы понимаете…
Заметив нас, они немного покачались на тонких ногах. Потом один из них выдал свистящим шёпотом:
– Уходите отсюда! Здесь наша территория!
Я попыталась встать с качелей, но мама остановила меня движением руки и покачала головой.
Тогда второй подросток крикнул фальцетом:
– Это наши качели! Мы на них качаемся по ночам!
Я испуганно взирала на маму, но мама, казалось, хотела сделать подросткам назло.
– Никуда мы не пойдём! – нагло заявила она.
– Сейчас бутылкой кинем! – взвизгнул первый подросток.
Мама упрямо набычилась и – ни с места.
Я поразилась маминой храбрости, которая тогда казалась мне глупостью.
– Сейчас закидаем камнями! – засуетились подростки. – Камнем в лоб хотите? Вот такая дыра в голове будет!
Мы промолчали, но с места не сдвинулись.
Подростки стали лихорадочно искать на детской площадке хоть один камень, но территория была вылизана дворниками начисто. Один пацан даже принялся копать, как собака, в песочнице, чтобы найти хотя бы мелкий камешек.
Мама уверенно сидела на качелях и болтала в воздухе ногами.
Они не подходили к нам ближе десяти метров, и я немного успокоилась.
Внезапно подростки повернулись друг к другу и начали тихо совещаться. Результатом совещания стала удивительная мысль:
– Вы что, беременные?! – крикнул первый, вероятно, бывший у них заводилой.
Женщины, по мнению мужчин, весьма далеки от логики, а беременные женщины, по мнению тех же мужчин, даже родную речь с трудом понимают.
Мы с мамой удивлённо переглянулись. Маму ещё можно было заподозрить в тайной беременности, она хотя бы половозрелая, а я-то нет!
– Да! – с вызовом рявкнула мама.
В панельном доме напротив детского сада начали загораться окна. Залаяла чья-то собака, сонный мужской голос протянул лениво:
– Чё орёте-то? Ночь на дворе…
– Ну, если беременные, то сидите качайтесь, конечно! – снова свистящим шёпотом прошелестел первый подросток. – А мы в другой садик пойдём.
И их трогательные шапочки-«петушки» угнездились над скамейками у крайнего подъезда.
Беременность – «священная корова» советского общества. Как и материнство вообще. Вместе с детством. В бесконечных советских очередях пропускали вперёд только беременных и участников Великой отечественной войны. Так что наша мнимая беременность стала для подростков отличным предлогом ретироваться, сохранив собственное мужское достоинство, раз уж мы не испугались и не освободили качели по их требованию.
Причинили бы они нам какой-нибудь вред? Вряд ли. Это сейчас в новостях пишут, что дети озверели. То тут, то там какое-нибудь происшествие, раздутое прессой до небес. В моём детстве о таком и не слышали.
В тот день мы из вредности просидели на качелях ещё минут пятнадцать, хотя накачались уже по самое некуда, и только потом пошли домой.
Сейчас этого детского сада нет, здание продали под офисы. Территория огорожена, качельки, домики и песочницы снесены, вместо них автостоянка. Я жалею, что в юности у меня не было возможности фотографировать, а то бы осталась память о нашем с мамой быте времен моего детства, в том числе об этом детском саде.
Дело было так: в сентябре мы всей семьёй отправились в Евпаторию. В сентябре – это значит в бархатный сезон, когда зуб на зуб не попадает. Всей семьёй – это значит, что нас было пятеро: мама, отчим, пятнадцатилетняя я и два толстых трёхлетних оболтуса – мои брат и сестра, двойняшки.
Море уже было не особенно тёплым, но зато там плавало много медуз. Ветра тоже были не особо дружелюбными, но зато наблюдались прекрасные алые закаты на лазоревом небе.
Но самое главное – к тому моменту я уже курила втайне от родителей. И если в Питере можно было улизнуть и «дымнуть» где-нибудь в подворотне, то в Евпатории мама глаз с меня не спускала. И к тому же негде было достать сигарет. Я приберегла последнюю пачку на чёрный день. Но чёрный день всё не наступал – мама бдела.
Несколькими словами опишу нашу дислокацию. Жили мы на туристической базе, впятером в одном металлическом контейнере. Если бы дело было в июле, мы бы сдохли от жара нагретого металла, а в сентябре мы по ночам околевали от холода. Тогда такие туристические базы росли на побережьях, как грибы: люди зарабатывали первоначальный капитал.
В соседнем контейнере справа жила влюблённая, как голуби, пара бывших осуждённых без детей. Хозяйка правого контейнера была приземиста, лыса, покрыта татуировками и радостно сверкала мелкими редкими зубами. Чтобы описать её партнёра, достаточно несколько слов: взгляните на великана Грошика из фильмов о Гарри Поттере. Это точная его копия, только сосед также был с головы до пят покрыт татуировками.
Соседи из контейнера слева были куда приличнее: там жила интеллигентная татарская семья с восьмилетним мальчиком Русланом.
Об этом мальчике и пойдёт речь. Он находился в том возрасте, когда влюблённости спонтанны и не имеют никакого отношения к реальным женским красотам. В восемь лет мальчик ещё не знает, что девичьи лодыжка и запястье должны быть тонки, кожа нежна, зубы целы, а цвет лица свеж. Впрочем, о чём я тут говорю! У меня к пятнадцати годам хотя бы появилась талия. А цвет лица был не просто свеж, а отливал породистой зеленью коренного питерца.
И вот однажды под покровом ночи я выбралась за контейнер «пыхнуть» свою болгарскую «Стюардессу», думая, что меня никто не видит. Внезапно раздался шорох (я от неожиданности чуть не проглотила окурок), и в свете унылого фонаря появился Руслан. Он набычил свой детский лоб и солидно произнёс:
– Кури-кури! Я покараулю.
И покараулил. А заодно пригласил меня кататься на качелях, забавно покраснев лицом и опустив глаза.
Когда я догадалась, что была его первой любовью? А вот сейчас, когда мне стукнуло сорок пять лет. А тогда я рассматривала его как забавную козявку, увязавшуюся за моим хвостом.
Это были качели-лодочки для двоих. Ёлки-палки, сейчас я просто мечтаю, чтобы старую дуру – меня – пригласили на такое романтическое свидание. Но была одна проблема: качели не имели тормозов. Раскачавшись хотя бы до «полусолнца», они неслись уже по инерции своей огромной массы, и никакой возможности быстро затормозить не было.
Нам уже, в общем-то, надоело кататься, и голова кружилась у обоих, меня подташнивало, но качели было не остановить и, соответственно, из них не выбраться. Я предприняла отчаянный шаг: высунула ногу за борт и принялась шаркать ею по земле.
– Не надо! – сказал Руслан. – Ногу сломаешь!
Высунул свою и сам принялся шаркать.
– Давай оба сломаем по одной ноге? – демократично предложила я, борясь с тошнотой.
И мы радостно заржали.
Проблема с курением решилась, меня стали везде отпускать.
– Вместе с Русланом? – спрашивала мама, снисходительно улыбаясь. Я кивала, и мне всё сходило с рук.
Мы настолько обнаглели, что стали купаться по вечерам без взрослых, благо море было мелкое. И я помню один эпизод.
Однажды вечером море просто кишело медузами. Мы залезли в воду и кидались ими друг в друга, как два дурака. Наш освободившийся сосед, как две капли воды похожий на великана Грошика, наблюдал с берега за этой вакханалией. И улыбался. Я бы написала, что лыбился, но мы же в хорошей компании… Внезапно этот пятидесятилетний мужик решил тоже порезвиться, как ребёнок. Он подплыл ко мне и вцепился густо татуированной рукой в мою грудь. Я опешила: питерцы не привыкли, чтобы с ними так обращались. Руслан побагровел. Он стоял по колено в воде, сжимая и разжимая кулаки, но сделать ничего не мог. Он же не Давид, победивший Голиафа. Вечер был испорчен, и мы перестали ходить на море.
Но всё хорошее всегда заканчивается. У нас была путёвка на две недели, а у родителей Руслана на месяц. Я, право слово, не знаю, как они грелись в металлическом контейнере в октябре. Но не в этом суть.
Чемоданы были собраны. Мы отправились на вокзал, а Руслан увязался нас провожать. В те годы ещё никто не слышал о мобильных телефонах, Интернете, Телеграме и прочем. Поэтому, когда поезд тронулся, Руслан бежал рядом с нашим окном до конца перрона и ветер доносил обрывки его слов:
– …иши мне! …агадан… апомни адрес …агадан!
Разумеется, я не писала ни в какой Магадан и сразу забыла Руслана на тридцать лет. А вспомнила только сейчас.
В Ленинграде был зоопарк. И есть зоопарк в Питере. Это всё один и тот же зоопарк – очень старый, по-моему, построенный ещё в дореволюционные времена. Нет, животные в нём, конечно, не дореволюционные, но немного странноватые…
Начнём с белых медведей. Они не белые! Суть в том, что в Питере очень грязный климат. Настолько грязный, что коренные питерцы ходят в тёмных куртках, чтобы не было видно грязи. Если видишь кого-нибудь в светлых тонах, сразу становится ясно, что это приезжий. Обувь. Да, из обуви мы предпочитаем берцы. У нас, может быть, один из лучших балетов в мире с лучшими на свете белыми пуантами, но на улице мы ходим в чём угодно – в дутиках, в грубых полуботинках, раньше даже было принято ходить в валенках – обязательно с галошами… Вернёмся к белым медведям. Всё то, из-за чего мы носим вышеописанную обувь, у них на шерсти. Все эти наши питерские осадки, вся эта каша из грязного мокрого снега, все эти проливные дожди, которых в Арктике просто нет. Белые медведи, в лучшем случае, жёлтые – летом. Зимой они облезлые и грязные.
Обезьяны. Обезьян в нашем зоопарке много, всех сортов и разновидностей. Они, в отличие от белых медведей, живут в закрытых тёплых вольерах. Когда заходишь в обезьяний павильон, можно потерять сознание от амбре… как бы это выразиться… обезьяньего помёта. На глазах изумленной публики, они в этом… как бы это выразиться… помёте роются, валяют свою морковь (почему в нашем зоопарке обезьян кормят морковью, а не бананами – первый вопрос, возникающий в голове у ребёнка, пришедшего в обезьянник). Ну, в общем, что возьмёшь с обезьян, это же наши предки! Вы заметили, как я деликатно избегаю слова «говно»?
Жирафы. Кто по-настоящему мне всегда нравился, так это жирафы. В нашем зоопарке у них отдельный вольер с крытыми (зимними) и открытыми (летними) отсеками. Жирафам в нашем зоопарке так хорошо, что они постоянно размножаются, и все с удовольствием смотрят на маленьких тонконогих телят с мягкими рожками. Питер – город жирафов, короче.
Любой питерский ребёнок всё это видел с пелёнок, точнее, с дошкольного возраста. Обычно в зоопарк приходят лет в пять-шесть, а в следующий раз, если не возникла страсть к зоологии, уже со своими детишками, которым тоже лет пять-шесть. Но мне довелось побывать в зоопарке лишний разок.
Дело в том, что я на двенадцать лет старше брата и сестры (они двойняшки), и, соответственно, когда пришло их время изучать роющихся в фекалиях обезьян, мне уже было семнадцать лет. И вот, прости господи, семейный выход – в зоопарк. Зачем там была нужна девица-динозавр пубертатного периода? Очень просто: родители видели необходимость пихать меня во все мероприятия двойняшек, ибо им надзор, а мне – воспитание.
Итак, мы достойно выдержали и белых медведей, и макакин павильон. Но дело в том, что в зоопарке образца 1995 года было ещё некоторое подобие детских аттракционов. И вот мама подходит к кассе детских каруселек, смачно отсчитывает купюры и говорит:
– Три билета на «Солнышко»!
Подходим к этому «Солнышку». Как я и говорила раньше, Ленинградский зоопарк рассчитан на детей пяти-шести лет. Таким образом карусель «Солнышко» представляла собой крошечное колесо обозрения, которое поднималось максимум на три метра. И кабинки в нём были рассчитаны, соответственно, на дошколят.
Билетерша пустующего «Солнышка» очень обрадовалась, что к ней привалило сразу три посетителя, как-никак выручка. Я стояла, предчувствуя свой позор, и умоляла любого бога, чтобы никто из знакомых подростков не видел, как я катаюсь на «Солнышке».
Знаете эту фишку подростков: если несёшь яйца из магазина, то обязательно встретишь одноклассника, который сострит: «Юля с яйцами!», или «Яйца не разбей!», или «Сейчас получишь по яйцам!» Если родители тебя послали за туалетной бумагой, то и тут ты обязательно кого-нибудь встретишь. А я тогда была в одиннадцатом классе.
И вот меня посадили на «Солнышко», чтобы я следила там, на этой космической высоте в три метра, чтобы брат и сестра не чебурахнулись. Сижу я, значит, скрючившись буквой «зю», в крошечной кабинке, упираюсь коленями в подбородок. Рожа у меня красная от позорища, и я прилагаю титанические усилия, чтобы казаться маленькой и незаметной на случай появления любых моих знакомых. Бедное «Солнышко» отчаянно скрипнуло и накренилось: ему предстояло проехать три круга с такой коровой.
После «Солнышка» я прокатилась на «Божьей коровке», затем, разумеется, на «Уточках», не удалось избежать и «Ромашки», но последнее испытание меня добило. Помните песенку «У пони длинная чёлка из нежного шёлка»? В нашем зоопарке тоже была полудохлая пони, которая катала детскую тележку по кругу. Настало время испытать пони на крепость. Всё с той же красной рожей я влезла с двойняшками в крохотную тележку. Пони хотела было резво побежать по привычной колее, но вместо этого неистово заржала в предсмертных судорогах и едва не протянула копыта. Тележка подозрительно накренилась на сторону, где сидела я. Маленькие колёсики под тяжестью такого груза ушли глубоко в грунт.
Пришлось вмешаться груму, и меня сняли с проклятой телеги.
Что я хочу сказать вам, дорогие взрослые, в отличие от меня, люди… Всё надо делать вовремя: ходить в зоопарк, кататься на «Солнышке» и тем более на пони. В следующий раз я пошла в этот треклятый зоопарк, когда моему сыну было пять лет. Это было ровно двенадцать лет спустя (в нашей семье рожают каждые двенадцать лет). И я чуть в обморок не упала, когда увидела тележку с пони – конечно, не с той же самой: я уверена, что та самая пони все-таки сдохла от натуги, пытаясь свезти меня.
Итак, я в одиннадцатом классе.
К тому времени, к началу 90-х годов, наши дворовые детские площадки имели крайне жалкий вид. Выстроенные на века здоровенные металлические ракеты, в которых дети будущего должны были мечтать о полетах в космос, ржавели и желтели потёками и местами облупившейся краски. Качели… их не стало. В один прекрасный день они стали небезопасны, приехали мужики в жёлтых жилетах, разрезали их автогеном и сдали в металлолом. Тогда появились качели из покрышек. Выбирали сук покрепче, вешали на него канат и к нему привязывали покрышку. На покрышке можно было вертеться или качаться, засунув её между ног.
Но к тому времени меня уже мало интересовали качели. Времяпрепровождение у одиннадцатиклассников вне школы было самое плебейское: мы играли в карты. Во дворе ещё сохранились детские деревянные домики, вросшие облезлыми окошками в землю. В них-то мы и набивались по четверо-пятеро, чтобы спрятаться от родительских глаз. Уединённость – это необходимое, но недостаточное условие для подросткового развития. Из-за проблем с жильём многие из нас не имели не то что своей комнаты в квартире, но и собственного угла. Наш район – неблагополучный, застроенный общежитиями. И мы находили себя, тесно усевшись в этих крохотных домиках, построенных для трёхлетних детей.
Компания у нас была простецкая: Илюха – мой одноклассник, родители которого были алкоголики, брат Илюхи постарше нас на год, родители которого, естественно, были те же самые алкоголики, Майка, дочка Ирины Викторовны – единственной санитарки единственного в районе детского сада, ну и ваша покорная слуга. Как звали брата Илюхи, я сейчас не могу вспомнить. Пусть будет просто «брат Илюхи». Он ухаживал за Майкой.
Играли мы в подкидного дурака. В этом возрасте у меня почему-то развилась привычка вычурно разговаривать, не называя вещи своими именами. Например, доставая из своей пятерни валета и бросая его на стол, я пафосно провозглашала: «Вальтер!» У брата Илюхи была привычка припрятывать козырные карты в нагрудный карман клетчатой рубашки, поэтому мы всегда знали, сколько у него козырей. Майка не участвовала в игре, потому что ей не разрешала мама. Илюха всё время чему-то улыбался.
И вот, сидим мы однажды в своём маленьком домике, по-птичьи подогнув ноги. «Вальтер!» – передразнивает меня брат Илюхи, когда я бросаю на стол валета, а сам тянется к нагрудному карману, чтобы вытащить козырь. Резким движением достает шестерку пик. Но вместе с шестеркой из кармана выпадает какой-то непонятный целлофановый квадратик и приземляется прямо мне на колено. Моё внимание было направлено в другую сторону, и я не заметила, откуда появился этот предмет.
– Что это? – мы с Майкой принялись рассматривать незнакомый квадратик.
Мальчишки переглянулись.
– Презерватив, – нехотя произнёс Илюхин брат.
– А откуда он здесь взялся?
– Из моего кармана, – снова процедил мальчишка.
И тут мы с Майкой уставились на него во все глаза. В наших взглядах читалось подозрительное: «Ты что, не девственник?»
Глаза у мальчишек забегали под градом наших неозвученных вопросов, и Илюха принялся длинно и путано объясняться:
– Родители нам дали по презервативу на всякий случай…
– На какой такой случай?! – громогласно вопросила Майка.
– Мало ли, какой случай может случиться, – справился со смущением Илюхин брат и бережно припрятал презерватив обратно в кармашек.
Казалось бы, инцидент исчерпан. Но нет! Вечером того же дня я подошла к своей ничего не подозревающей бабушке и заявила:
– Ба! Мне нужен презерватив!
От такого заявления моя, в общем-то, современная бабуля вытаращила глаза.
– На всякий случай! – уточнила я и выдула здоровенный пузырь из жвачки.
Прямо скажем, во всех остальных случаях отказа мне не было. Но тут…
– На какой такой случай?! – бабушка Нина упёрла руки в бока и прищурила глаз, как уголовник в фильме «Джентльмены удачи».
Я почуяла неладное и начала мямлить:
– Мало ли какой… Вон у мальчишек есть по презервативу…
– У каких мальчишек?! – заорала бабушка. – Откуда у них презервативы?!
Она окинула меня оценивающим взглядом, точь-в-точь таким же, какой недавно был у нас с Майкой. Он означал: «Ты что, не девственница?!» Но, немного поразмыслив, бабушка успокоилась на этот счёт. Как говорится, пенсионерам не позволяет здоровье, а пионерам – отсутствие места.
– Родители мальчишкам дали по презервативу, – я совершенно утратила инстинкт самосохранения. – На всякий случай.
И тут бабуля раскипятилась:
– Это что за родители такие?! На что они детей, спрашивается, толкают?!
Тут же последовала обширная лекция о том, что пионеры могут использовать презерватив по назначению только в браке и после того, как родят бабушке пятого правнука. Пятый правнук – это вообще священная обязанность каждого пионера перед бабушкой и Родиной. Особенно перед Родиной, потому что отечеству нужны порядочные граждане от порядочных родителей, чтобы неукоснительно выполнять все призывы Родины: летать в космос, осваивать Марс, в крайнем случае, честно трудиться токарем на заводе. Поэтому, по мнению бабушки, минимум до сорока пяти лет мне презерватив не нужен. А там дальше, глядишь, и климакс настанет.
Занавес.
Я росла ещё при прабабушке Люсе, которая была долгожительницей и, что удивительно, закончила свои дни в своем уме. Она была человеком трудной судьбы, пережившим революцию, две войны, вырастившим не только собственных детей, но и фактически внуков. Достойно проводившей в мир иной свою мать – прапрабабушку Паню (Прасковью), тоже прожившую настолько долго, что я её помню живой. Растившей уже правнучку – меня. Ну как – помогавшей растить.
Всё хорошо, но, как вы понимаете, бабушка Люся родилась ещё при царе и окончила церковно-приходскую школу – три класса. Она писала только по-церковнославянски и читала только одну книгу – Евангелие. Как ни странно, второй её страстью после Евангелия был сериал «Богатые тоже плачут», популярный у нас после перестройки.
Таким образом, будучи вожаком нашей стаи, бабушка Люся имела глубоко православное мировоззрение. И с её подачи я с пелёнок усвоила, что самое главное для меня – не принести в подоле. За моим подолом тщательно следили три пары глаз: прабабушки Люси, бабушки Нины и мамы.
Мы жили в коммунальной квартире. И внезапно мой подол оказался объектом для близкого рассмотрения соседей.
В одиннадцатом классе я уже встречалась со своим будущим мужем – Аликом. Отношения наши были чисто платонические, но встречались мы каждый день. Он приезжал ко мне вечерами из профтехучилища, мы брали мою собаку Нору и шли с ней гулять со всеми вытекающими последствиями: хождением за ручку, неумелыми детскими поцелуями и, разумеется, раскуриванием одной сигареты на двоих. Последнее особенно нас сближало.
У нас была коммуналка на девять семей, и одной из соседок была тётя Аня Асолоткина, которая неожиданно решила принять участие в моей половой жизни. Она дала маме ценный совет: мне, старшей дочери, нельзя встречаться с одним мальчишкой, иначе я принесу в подоле. Нужно, чтобы у меня было много разных ухажёров и я им всем отказывала. Ути-пути, бозе мой! Во-первых, откуда у меня множество ухажёров? Я же не дочь Рокфеллера, у которой приданое исчисляется миллионами долларов. Во-вторых, оказалось, что у нас какая-то узбекская семья. Это для узбеков мнение соседей гораздо важнее мнения членов семьи.
В общем, мама решила подстраховаться и закатила мне скандал. Где-то примерно в это время пьедестал мамы уже начал немного шататься. Я росла без отца, поэтому мама для меня была божеством, но в тот день я была оскорблена, унижена и поражена тем, какой у мамы отрыв от реальности. А самое главное, меня покинуло чувство защищенности в семье. Меня посетила мысль, что любая посторонняя Асолоткина может меня очернить в глазах членов моей семьи и я или получу трёпку ни за что или (о ужас!) семья вообще от меня отвернётся.
К чему я это веду? С самого раннего детства мне внушалось, что беременность – это полный конец света. И последние сводки с семейных фронтов этот факт подтвердили.
И вот сейчас я смотрю на фотографию. Качели. Да, я по-прежнему рассказываю про качели. На качелях сижу я, и я беременна. И это единственная фотография времён моей беременности. Я в белой футболке и широких светлых брючках. Живота особенно не видно, я просто похожа на немного полноватую женщину.
Мне казалось, что ничего особенного со мной не происходит. Я не придавала этому событию никакой важности, только немного испытывала облегчение от того, что не принесла в подоле. Сейчас я смотрю, что молодые жёны устраивают гендерные вечеринки, на которых сообщают отцам пол ребёнка. Они празднуют и наслаждаются своим состоянием. Если бы удалось вернуть время вспять, я бы вела себя по-другому, ведь это была моя единственная беременность.
Первый звоночек прозвенел в родильном доме. Я лежала в послеродовой палате с немолодой женщиной, уже знавшей толк в жизни. У неё муж был намного младше. На выписку она заказала множество нарядов для своей девочки, завила волосы. И сказала:
– Хочу вынести мужу свой подарок!
Подарок? Эта краснолицая курица, которую я родила, является подарком? Я впервые столкнулась с такой точкой зрения.
Наконец мне помогла поставить мозги на место моя дальняя родственница. Она приехала на смотрины, причём раньше других гостей. А мне было нечего надеть, всё было мало. Сверху у меня висели огромные разбухшие от молока груди, в середине тулова оттопыривался ещё не опавший живот, а снизу завершали картину отёкшие ещё во время беременности ноги. И у меня не было ничего из одежды, чтобы встретить гостей, кроме растянутой домашней футболки, а я прекрасно знала, что мои подруги приедут стройными, подтянутыми и красиво одетыми.
– Ничего! – сказала мне эта дальняя родственница. – Зато смотри, какой у тебя мальчик хороший. А у них нет никого! Пустоцветы!
Тогда я впервые поняла, что со мной случилось что-то важное. Этому важному человеку в моей жизни сейчас исполнилось двадцать два года.
Мамой быть очень трудно и одиноко. Понятно, наверное, почему трудно? А одиноко – потому что приходится отпускать взрослых детей. Сначала мы питаем иллюзии, что растим детей для того, чтобы нам подали пресловутый стакан воды в старости. Но любимым детям не желают ухаживать за немощными, поэтому помоги мне бог нормально состариться и безболезненно умереть.
Часть вторая. Мой первый раз
Я и сейчас хожу на детскую площадку качаться на качелях. Весу во мне восемьдесят килограмм, поэтому всегда находятся сердобольные гражданки, делающие мне замечания. Для чего, интересно, людям говорить очевидные вещи? По их мнению, я не знаю свой возраст и то, что качели для детей? Или мне с весами не разобраться? Такие люди, как правило, считают себя умнее других и, будучи не в состоянии разобраться в сложном, транслируют очевидное.
В ближайшем парке как раз поставили очень интересные качели. Они похожи на перевёрнутую черепаху, только вместо панциря у них крупная верёвочная сетка. Будь я ребёнком, у меня обязательно вывалилась бы в ячейку рука или нога, но взрослому в самый раз. На эти качели надо ложиться вниз спиной, чтобы рассматривать небо.
Я, качаюсь, как правило, ночью. Небо кажется бездонным резервуаром с мазутом. В большом городе ночью не видно звёзд из-за уличного освещения. Где-то сбоку сияет белая луна с голубоватыми прожилками.
Однажды со мной произошёл такой случай. Когда ложишься спиной на качели, ночной пейзаж в зоне видимости рассекает высокая полосатая труба с мелкими красными огоньками навигации. Дело было зимой, труба вовсю дымила (это труба ТЭЦ), луна только нарождалась, и, когда я легла на качели, она находилась слева от трубы. В какую-то секунду моё сознание помрачилось, и я не знаю, сколько времени пролежала, глядя вверх. По ощущениям, это длилось всего лишь мгновение. Когда я смогла снова сфокусировать зрение на луне, она уже сияла справа от трубы. Вот такое чудо. Не удивляйтесь, я всё необъяснимое называю чудом.
Большой взрыв? Вы серьёзно обсуждаете эту научную парадигму? С серьёзными лицами? При галстуках? Я прямо вижу, как собираются уважаемые люди с верительными грамотами и дипломами и приходят к консенсусу. По отношению к величине Вселенной, величина одного человека – это бесконечно малая величина, которой можно пренебречь, выражаясь математическими терминами. Величина, которая с трудом вылетела на орбиту Земли, а рассуждает о зарождении Вселенной. Полиграфа Полиграфовича не напоминает из известного произведения Михаила Булгакова?
Так начинаешь верить в Бога – на качелях.
Главный вопрос неофита: Бог добрый или злой? Почему добрый Бог допускает болезни и несчастья? Как будто от решения этого вопроса что-то зависит в жизни человека. Если Бог существует, то власть его – создателя всего – безгранична. И вопрос доброты Бога вообще не имеет никакого значения: вы в его безграничной власти. Этот вопрос – доброго и злого Бога – произрастает из нашей обезьяньей привычки и способности что-то выгадать, подсуетиться. Для нас Бог – это, в некотором роде, начальник клерков. Нужно посмотреть, в каком он настроении, подсунуть липовый отчёт о проделанной работе, выклянчить премию, повышение, отпуск. Далее наше воображение не может распространиться.
Почему же Бог допускает болезни и несчастья? Я нашла ответ на этот вопрос. Бог вне границ наших понятий добра и зла, потому что он вечен и бесконечен.
Наши понятия добра и зла выросли из осознания нашей смертности и понятия боли, что взаимосвязано. Ребёнок, впервые притронувшись к горячему чайнику, обжигается и говорит: «Чайник – плохой, злой! Он меня обжёг!» Так он признает понятие боли. А осознание неотвратимости своей смерти – это фундаментальное открытие раннего детства. Через него проходят абсолютно все дети. Где-то в три-четыре года тебя как обухом по голове: мама когда-то умрёт. А как же без мамы? И ты умрёшь! И кошка твоя, Мурка, умрёт! Все умрут! Страх смерти потом затирается, запирается на окраинах подсознания, но он никуда не девается. Поэтому, болезни – зло (ведут к смерти), несчастный случай – зло (ведёт к смерти), нищета – зло (ведёт к смерти). У современного человека даже такая мелочь, как потеря работы – зло. Потому что там уже выстраивается логическая цепочка к нищете и, опять же, смерти. По большому счёту, страх смерти и есть основной двигатель нашей цивилизации.
Бог, повторюсь, вечен и бесконечен. Он никогда не умирал. У него совершенно другое сознание, свободное от шелухи беспомощного, стареющего от рождения тела. Свободное от страха смерти. Надеюсь, я понятно объясняю свои мысли?
У меня назрел ещё один вопрос про Бога, на который я пока не нашла ответа: а зачем мы вообще Богу нужны? Со всеми своими обезьяньими повадками и теорией Большого взрыва? Вопрос-то, похоже, основной во всей истории человечества. Либо Бог невероятно терпелив, либо многого о нас не знает.
Как так получилось, что советский человек, сначала истово отрицавший Бога, теперь так же истово в него уверовал? Просто этот человек состарился и почуял смерть. Всем своим уродливым старческим телом почуял, когда отказывают то зрение, то рука, то нога. С того самого мгновения, как он маленьким ребёнком осознал себя смертным, это знание сидело у него в мозгу, как гвоздь. Время пришло. Увы! Всесильные учёные мужи, рассуждающие о Большом взрыве, не нашли лекарства от старости. И остаётся цепляться за соломинку…
Человек от рождения себя не помнит, это понятно. Так получилось, что мои первые воспоминания о себе связаны со старческой немощью. Сейчас они сильно приукрашены, много додумано и доосознано, особенно при сравнении с воспоминаниями других людей – моих родственников.
С момента моего рождения мы с мамой жили в частном доме прабабушки Люси в Горелово. Когда мне было два года, мы получили комнату в коммунальной квартире в центре Ленинграда. Значит, это воспоминания того периода, когда мне было меньше двух лет.
В доме прабабушки Люси было две комнаты – большая (зала) и маленькая, а ещё солнечная веранда, холодная и тёплая кухни. Удобства, соответственно, холодный туалет с выгребной ямой.
В то время ещё была жива прапрабабушка Паня. Ей было глубоко за девяносто, она уже не ходила, но находилась в здравом уме, что в её возрасте редкость. Она лежала обтянутым морщинистой кожей скелетом на железной кровати в маленькой комнате. Всего на своём веку прапрабабушка родила одиннадцать детей, но к тому времени в живых осталось только двое – её самая младшая дочь, моя прабабушка Люся, и ещё одна дочь постарше – Раиса. Прабабушка Люся часто попрекала старую мать, что та отдала её (Люсю) «в люди» в семь лет, а теперь ей приходится досматривать мать перед смертью. Суть этих претензий тогда была мне непонятна. В самом деле, откуда двухлетнему ребёнку знать дореволюционные дела? Паззл сложился потом, когда прапрабабушка Паня уже умерла, а я была подростком. Прапрабабушка и правда отдала свою семилетнюю дочь Люську в посудомойки.
Я в возрасте чуть меньше двух лет уже ходила на своих двоих и непременно везде лезла. Когда взрослым было необходимо избавиться от меня, они сажали меня на крошечный стульчик рядом с кроватью прапрабабушки и она посильно меня развлекала.
Одним из первых слов, выученных мною, было слово «чонок» – как я позже узнала, сокращенное от «арапчонок». Так меня называла старая Прасковья из-за смуглой кожи и чёрных волос.
Прапрабабушка обычно ласково со мной заговаривала, пела прибаутки, а я её слушала, сидя на стульчике. Мы представляли собой довольно странную пару. Прапрабабушка Паня уже была черна от старости, кожа в пятнах обтягивала череп и руки. Не было даже намёка на зубы, рот ввалился. Облысевшая голова была повязана белым платком. Но, как ни странно, я ничуть её не боялась. Хотя в этом возрасте ещё ничего и никого не боишься, кроме бабайки. Прабабушка Люся иногда давала мне в эти моменты пожевать то дольку солёного огурца, то краюху хлеба. В общем, всё, что нынешним детям давать запрещено, ибо подавятся, отравятся или умрут от диатеза.
Однажды мне дали большую шоколадную конфету и усадили возле кровати старой Прасковьи. Конфета была в бумажной обёртке, а под обёрткой у неё был ещё один фантик – из фольги. Я тогда уже понимала, что конфету надо развернуть, но маленьким пальчикам это никак не удавалось.
– Дай мне! – внезапно сказала старая Прасковья и протянула немощную руку.
Я отдала конфету.
Прасковья, которая по старости уже много лет ничего не ела, кроме белого мякиша, размешанного с молоком, остервенело отбросила фантики и вцепилась в шоколад беззубым ртом. Сейчас я бы поразилась, какая тяга к жизни, к удовольствиям может быть у умирающего человека, но тогда я была ещё несмышлёнышем.
Я удивилась, но не заревела, как ревут многие малыши, стоит только у них что-нибудь отобрать.
Старухе было не справиться с конфетой, и она спрятала её между матрасами (её кровать была сетчатой, с двумя ватными матрасами). Кульминация наступила несколько позже, когда вечером затопили печку. Конфета растаяла в тепле, а старая Прасковья захотела её достать, в результате чего шоколадом были вымазаны матрас, простыня, одеяло и руки беспомощной умирающей старухи.
Такую картину и застала прабабушка Люся, войдя в маленькую комнату.
– Мамка! Мамка! – кричала с непередаваемым тверским говором прабабушка Люся, не менее древняя, своей совершенно древней матери. – Смотри, ты опять обосралася!
– Та где? – беззубо шамкала старая Прасковья.
– И всё говном вымазала!
Тут прапрабабушка Паня сообразила, что если узнают про то, что она отобрала у меня конфету, её будут ругать ещё больше, и «созналась»:
– Обосралася я, Люська!
Этот эпизод я сейчас не очень понимаю, как трактовать. Возможно, у старой Прасковьи уже были провалы в памяти, и она забыла про шоколад, поэтому и «созналась».
Но, тем не менее, её почти неживое тело перевернули и поменяли бельё.
У Кира Булычёва есть повесть «Тайна третьей планеты», а у меня теперь есть моё самое первое воспоминание о себе «Тайна первой конфеты».
Вскоре мы с мамой переехали в центр Ленинграда. Остались в прошлом и тёплая печка, и маленький стульчик, и старая Прасковья. Воспоминания о прапрабабушке Пане очень скоро выветрились из детской головы. Через некоторое время я приехала с мамой в Горелово в гости, пришла в маленькую комнату и села на стульчик уже изрядно подросшей попой. Старой Прасковьи на кровати больше не было. Тогда я не задумывалась, куда же она делась. А на эту кровать стали укладывать спать меня. Пятно от шоколада так и не отстиралось с матраса.
Смущение – это какое-то странное чувство. Говорят, есть приятное смущение, например, от комплимента. Для меня смущение – это, в первую очередь, чувство неловкости от того, что я делаю.
Например, я испытываю (в свои-то сорок шесть лет!) смущение от того, что я – писатель. Потому что это «ненастоящая» профессия. Вроде как я не тружусь – таково всеобщее мнение подруг моей мамы. Вот если бы я работала шпалоукладчицей – это совсем другое дело! Это почётный труд!
Я никому ничего не собираюсь доказывать. В самом деле, как доказать человеку, получившему среднее специальное образование, что рождение смыслов – это тяжёлый умственный труд?
Слава богу, у меня нет камней преткновения по этому поводу в моей маленькой (не родительской) семье. Потому что достаточно тяжело торопливо извергать из себя текст, одной рукой помешивая борщ. Моя вторая половинка обычно терпимо относится к стуку клавиш по ночам. Не говоря уже о том, что я могу начать бегать из угла в угол, когда меня осенит очередная «гениальная» писательская идея.
Но моё первое смущение случилось со мной где-то в четыре года. Дело было опять в Горелово, где я гостила зимой у прабабушки Люси.
В Горелово все друг друга знают. По крайней мере, так было в моём детстве. Мало того, всё это поселение напоминает пиратский бриг, потому что все жители носят клички. Я специально не пишу, что это напоминает поселение уголовников, потому что «уголовники» или «пираты» были очень старые люди. Прабабушкин телевизор чинил Валька Кулак. Нет, он не был кулаком по классификации зажиточных крестьян Владимира Ильича Ленина. Просто на одной руке у него не хватало пальцев. Одного мужчину в уже весьма почтенном возрасте называли Андусей, потому что он всю жизнь прожил в Горелово и соседи помнили, что, будучи сопливым мальчишкой, он представлялся Андрюшей, не выговаривая букву «р». Представляете, каково в шестьдесят лет быть Андусей? Лучшей подругой прабабушки была Верка Рыжая. Именно так: не рыжая Верка, а Верка Рыжая. На ней и остановимся.
Несмотря на прозвище, Верка была в преклонном возрасте, дородная и действительно красила волосы хной, отчего имела рыжую шевелюру. Верка жила у самой речки, а мы жили на Речном переулке, поэтому все пути прабабушкиной подруги вели мимо нашего дома. И каждый раз она останавливалась у нашего забора, чтобы обсудить последние сплетни, которые я старательно подслушивала и то, что понимала в возрасте четырёх лет, разносила среди детворы.
Однажды случился конфуз. Как многие старые женщины, Верка недолюбливала жену своего сына. В четырёхлетнем возрасте я быстро усвоила, что улыбчивая Веркина невестка Галя – неряха, плохо готовит, засранка, неумеха и разбаловала детей. А Галя была очень добра ко мне и всегда угощала конфетами. Как-то раз она остановилась у нашей калитки и протянула мне конфету, а я, по-пиратски прищурив глаз, выдала ей:
– В вашем салате одна картошка, если копнуть поглубже!
Дело было сразу после Нового года, и у всех на столе стоял «оливье».
Галина как-то сразу поблекла и ушла. А я с тех пор все салаты копала глубже, чтобы разобраться, из чего они состоят.
Видимо, после этого между Веркой и её невесткой состоялся нелицеприятный разговор. Так или иначе, Верка Рыжая то ли решила отомстить мне по вредности характера, то ли чисто из вредности, но на следующий день она ввела меня в смущение. Первый раз в жизни.
Прабабушка Люся повезла меня на речку кататься на санках. Речка наша – Дудергофка – хоть и имеет жалкий вид, но, как у всякой порядочной реки, у неё есть высокий берег и низкий. На высоком берегу я и каталась на санках, а прабабушка Люся ловила меня внизу, чтобы я не уплыла по течению. Всё это происходило у дома Верки Рыжей. Тут-то она и вышла на улицу.
– Ай, какая большая девочка! – посмеялась она надо мной. – Про все салаты знает, а её бабушка на саночках возит!
Я насторожилась, а Верка продолжила:
– Бабушка-то старенькая, у неё ножки болят, у неё ручки болят!
Я не очень понимала, к чему она клонит, а Рыжая развивала мысль:
– Посадила бы бабушку на санки и покатала! Ты ведь уже большая!
Саночки у меня были обыкновенные, советские – с алюминиевыми полозьями и деревянной решеткой сверху. А сзади у них была спинка, которая удерживала ребёнка.
Я с большим трудом вылезла из санок со спинкой. Зацепилась за верёвку, упала, встала.
– Садись, – говорю, – бабушка Люся!
Прабабушка решила поддержать шутку и под Веркино улюлюканье взгромоздилась на санки.
Я решительно взялась за веревку, но санки не сдвинулись с места. Я забежала со стороны спинки, решив, что буду толкать. Ни с места.
Верка расходилась пуще прежнего:
– Ой, каши мало ела!
Вокруг нас со всего берега собралась толпа старух с внучатами. Все пересмеивались, глядя на мои потуги.
– Ладно! – сказала наконец прабабушка Люся. – Придется мне, такой старой, тебя домой на саночках везти!
Впервые в жизни я была посмешищем. Пунцовая не то от смущения, не то от мороза, я взгромоздилась на санки, и меня повезли домой.
С тех пор смущение мне всегда неприятно. Уже давно нет ни Верки Рыжей, ни прабабушки Люси, а я всё ещё везу свои саночки.
А вот моего сына смутить в детстве было нереально.
Он не застал ни прабабушку Люсю, ни бабушку Нину, ни, тем более, старуху Прасковью. На его век хватило меня и моей мамы.
Вообще так сложилось, что наша семья – курятник: мужчин в ней мало, а женщин много. Поэтому у нас всех всегда были мамки-няньки. Сейчас гендерный баланс более-менее выровнялся, потому что старухи умерли, зато выросли мой брат и сын.
Моего сына зовут Дима, в обиходе – Котёночек. Сейчас Котёночку двадцать два года, это огромный мужичина, похожий на шахида, потому что не бреет бороду.
А в те времена, о которых пойдёт речь, Котёночку было лет пять. Дело, как водится, было в гостях. Как обычно, у бабушки – моей мамы.
Мама росла в Горелово. Видимо, оттуда у неё острый язычок.
И вот, сидим мы с Котёночком у неё в гостях, пьем чай из блюдечка, и тут мама говорит ни к селу ни к городу:
– Эх, шубки-то у меня нет… совсем бабушка замёрзла!
Котёночек и ухом не повёл, продолжая тянуть чай.
А моя мама, думая его смутить, заявила:
– Купил бы ты мне шубу, Котёночек!
Все думали, что ребёнок сейчас начнет суетиться – денег-то у него нет. Но Котёночек отложил блюдечко и важно сказал:
– Вот вырасту и куплю тебе шубу!
Но и от бабушки Иры не так-то легко было отвязаться:
– А какую шубу ты мне купишь? Чёрную или белую?
– Я тебе, бабушка, и чёрную, и белую шубу куплю! – снова важно ответил Котёночек. – Две шубы у тебя будет!
Сейчас он поражает реалистичностью своих взглядов на жизнь и не делит шкуру неубитого медведя. А тогда твердо верил в то, что говорит.
– И ножки-то у меня больные, – жалобно продолжила мама, думая о сапожках. – Мёрзнут, ходить холодно!
Но сапожки – это не масштаб Котёночка. Он с разбегу пообещал:
– Вырасту, машину тебе куплю, бабушка!
– Как машину? – опешила бабушка Ира. – Какую ещё машину?
Котя наморщил лобик и выпалил:
– Красный «Мерседес»!
В общем, неизвестно, кто над кем посмеялся. Мамина шутка не удалась.
Но один раз на моей памяти Котёночка удалось смутить.
Нас пригласили на день рождения маленькой девочки. Ну как маленькой? Ей исполнялось пять лет, а Коте уже исполнилось семь.
Это были невозможно тяжёлые годы, когда я уже болела, но прикладывала все усилия для того, чтобы работать. Очень глупое решение, но я боялась, что не смогу обеспечить Котёночку счастливое детство. Тогда я не понимала, что понятие счастливого детства не подчиняется законам денежного оборота, и несознательно делала детство Котёночка несчастным. Он просто имел мать, которая жила через силу и не имела возможности им заниматься. Из этой ситуации были разные выходы: например, получить инвалидность и заниматься посильным трудом. Но я этого выхода почему-то боялась.
В общем, у нас не было времени купить подарок, и, по старой советской привычке, я купила книжку. У меня было много нерешённых проблем, и проблема подарка была где-то на последнем месте.
Мы пришли в гости – чистые, нарядные, с книжкой. Но именинницу книжка совершенно не заинтересовала. Она скучно на неё поглядела и отложила в сторону.
Зато другой мальчик подарил ей туфли на каблуке. Его мама была тонким психологом и угадала с подарком. Именинница была на седьмом небе от счастья. Она в первый же вечер натерла себе туфлями кровавые мозоли, но ни на секунду их не снимала.
Котя чувствовал себя не в своей тарелке, и мы быстро ушли с праздника.
Я тогда подумала про эту девочку: «Вырастет – работать не будет!» Не хочу показаться старухой, которая всё время твердит «я же говорила», но так и случилось. Она выросла и не работает. Не тот менталитет. Может, и к лучшему. Всё-таки мы – железное поколение. Гвозди бы делать из этих людей! А новое поколение родило нежных девочек: матерей и домохозяек, никак не пригодных для хождения в робе.
С тех пор Котя уяснил, что в любом непонятном случае надо дарить женщине туфли.
Котёночек вырос очень трудолюбивым. В его подростковом периоде его минула наркомания, геймерство, и вообще никакие пороки современного мира нас не коснулись. Он рано, как только закончил Академию, отделился от меня и стал жить самостоятельно, своим умом. Я была строгой матерью, и в первое время его будоражила эйфория свободы. Он подолгу со мной не разговаривал, а при разговоре всячески подчёркивал, что я ему не указ. Но и это прошло. Сейчас ему хочется просто побыть Котёночком, и пока что есть один человек, с которым это возможно. И, пока я жива, этот здоровенный мужик для меня Котёночек.
Красных «Мерседесов» он больше никому не обещает.
Люди очень любят вспоминать свою первую минуту славы, и я люблю. У многих советских людей эти воспоминания одинаковы, как под копирку: табуреточка, Дед Мороз и стишок Агнии Барто или Фёдора Тютчева. Моя же первая минута славы связана с балетом.
Когда мне было два года, мы с мамой переехали из Горелово в центр Ленинграда и заняли одну комнату в коммунальной квартире. Квартира была на девять семей. Там же занимала маленькую комнату моя бабушка Нина (дочь прабабушки Люси). Наша семья всегда держалась вместе.
Так, внезапно, я перешла с попечения одной старушки на попечение другой. Хотя бабушку Нину старушкой в то время никак нельзя было назвать.
Она рьяно взялась за моё воспитание. У неё была масса идей по моему физическому и психическому развитию. Обычно родители имеют амбиции по развитию ребёнка – ровно такие, какие им не удалось реализовать в собственном детстве, и приписывают детям свои собственные детские мечты. Так и случилось: в возрасте четырёх лет меня отдали в кружок балета. В моём случае это было не очень актуально, тем более что я имела большой лишний вес. Но бабушку Нину ничто не могло смутить.
– Вот так балерины делают! – показывала она мне, широко разводя руки в стороны, растопырив пальцы и показывая нечто похожее то ли на знак «хэви метал», то ли на жест «идет коза рогатая».
Я его очень быстро запомнила. На кружке, едва встав в первую позицию пухлыми ножками, я развела ручонки и отожгла фирменный бабушкин знак.
Руководитель кружка меня терпеть не мог, считая совершенно бесперспективным ребёнком. И был прав.
На том же кружке занималась девочка из моего детского сада, которая как раз считалась очень перспективной. Она была стройной и мускулистой. В постановках «Лебединого озера» нашей самодеятельности она танцевала белого и чёрного лебедя.
Эта девочка – Лера – стояла у станка впереди меня, и ей невероятно высоко удавалось задирать ногу в батмане, в то время как моя нога едва отрывалась от пола на сорок пять градусов. Однажды, когда она делала батман, я обнаружила, что у неё дырка на колготках как раз на причинном месте. Мне доставляло удовольствие рассматривать её трусы и противно хихикать при этом. А что? Интересно же, у кого какие трусы!
Наш престарелый инструктор, казалось, никаких дурацких дырок не замечал. И в один прекрасный день важно сказал мне:
– Правильно смотришь! Смотри на неё внимательно и повторяй! У неё большой талант!
Но Лера-то прекрасно поняла, куда я смотрю и при этом противно хихикаю. Она покраснела и убежала в раздевалку. Педагог так ничего и не сообразил. Лера, вероятно, не могла самостоятельно зашить свои колготки, и её родители по неизвестным причинам не могли. Тогда я превратила каждую её репетицию в пытку, а она так и не научилась не обращать внимания на мои смешки.
Так я отзанималась полгода и ни одной роли мне не дали. Ни в одной постановке. На всех постановках нашей самодеятельности зал был пустой. Только я и билетёрша сидели в первом ряду. Наконец моей бабушке Нине это всё надоело: она жаждала моей славы, и между ней и балетмейстером состоялась маленькая сделка. Однажды я увидела, как пятирублевая купюра с дедушкой Лениным перекочевала из бабушкиной руки в руку инструктора, и он заговорщицки ей подмигнул:
– Не сумлевайтесь! Будет танцевать партию чёрного лебедя!
С того дня партии чёрного и белого лебедей разделили: белого лебедя танцевала Лера, а чёрного – я. Я разучила свою партию и с нетерпением ждала премьеры. А бабушка-то как ждала! Она пригласила на мой дебют всех своих знакомых пенсионеров. И в один прекрасный день мы с ней вручили пригласительный билет моей маме.
– Партия чёрного лебедя! – торжествующе произнесла при этом бабушка.
– Белядя! – подтвердила я.
В назначенный день нашего представления в зале был аншлаг. Там всего-то было мест двадцать, и все они были заняты. Я, волнуясь, выглядывала из-за кулис, и моя чёрная корона, сделанная из крашеного картона, сваливалась мне на нос.
Зрелище было не для слабонервных. Тут надо сказать, что в балете участвовал ещё один колоритный персонаж – сам балетмейстер. Из-за того что в самодеятельность шли одни девочки, он самолично танцевал партию принца. Балетмейстер был стар, и фигура у него была воистину лягушачья – тонкие ножки, худая сморщенная жопка и круглый живот. В колготках это выглядело очень живописно. Соответственно, от одного его выхода на сцену в зале начались смешки. И вот – мой звёздный час! На сцену, высоко подкидывая пухлые ножки, начисто забыв свою партию и растопырив за спиной пальцы в жесте «хэви метал», вылетел чёрный «белядь».
Сказать, что зал смеялся, – значит ничего не сказать. Зал рыдал со смеху. В первом ряду, корчась и утирая слёзы, выступившие от хохота, сидела моя мама. Бабушка Нина оглядывала всё это безобразие с оскорбленным видом. После представления гости должны были оставить отзыв на специально распечатанной афише, и все написали, что партия чёрного лебедя была бесподобна.
Вот тогда я впервые поняла, что рождена на радость людям.
Однажды, мама встала с утра, закрутилась у зеркала, подвила кудри и запела:
Колокольчики-бубенчики ду-ду,
На работу я сегодня не пойду!
Это означало, что у мамы на работе выходной, который мы можем провести вместе.
Я была в первом классе, и мне в такие дни разрешилась не ходить в школу – слишком редки они были.
Внезапно, мама повернулась ко мне и, слегка приобняв, спросила:
– Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
– Проституткой! – ни мало не сомневаясь, ответила я.
Мамина рука замахнулась и едва не опустилась мне на щеку:
– Кем?! – взревела мама.
– Проституткой! – снова ответила я, уже оробев.
– А кто такая проститутка? – после долгого молчания спросила мама.
– Та, которая учится в институте…
На самом деле, я хотела сказать «институткой», но почему-то на язык легло слово «проститутка», где-то услышанное ранее. Понятно, что мама не стала мне объяснять в таком нежном возрасте, кто такие проститутки на самом деле.
Но это была присказка, сказка будет впереди. Речь пойдет о первой лжи, которая у меня случилась очень поздно – в первом классе.
***
Мой вес мешал мне не только в балете, но и в школе, начиная с самого первого класса, меня считали некрасивой, и никто не хотел со мной дружить. Кроме одной девочки, которая была очень худой. С ней тоже никто не хотел дружить. Кроме того, она была двоечницей, и ее папа был алкоголиком. Не очень понятно, откуда было известно про алкоголизм ее папы, и какое это имеет отношение к дружбе между детьми.
Она жила рядом со мной – в общежитии прядильной фабрики имени Анисимова. Ее тоже звали Юля. Юля Безверхова.
Я не очень хорошо понимаю механизм возникновения сплетен, и среди детей, и среди взрослых, но моя бабушка Нина сразу заподозрила, что Юля из неблагополучной семьи.
К тому времени я освоила телефон, проведенный на кухне в нашей коммуналке, и принялась целыми днями по нему общаться. Коммуналка была велика, а телефон один. И соседи возмущались, что им надо говорить по делу, а драгоценный аппарат все время занят мной.
