Истории из штурманского портфеля
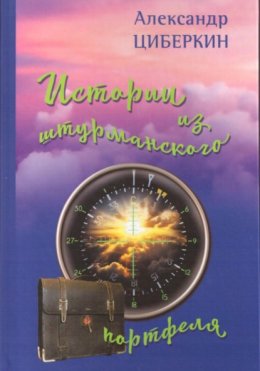
ШТУРМАНСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
Штурманский портфель! Руки десятков тысяч летчиков, штурманов, бортовых радистов авиации Вооруженных Сил СССР помнят его. Нам, курсантам-первокурсникам, выдали эти портфели перед началом занятий, как некий знак признания, негласный символ принадлежности, пропуск в мир мечты. В портфеле всегда находилось место для конспектов и специальной литературы (естественно, без грифа «секретно»), а также для штурманских принадлежностей: навигационной и масштабной линеек, навигационного расчетчика, всевозможных ручек, карандашей и ластиков. Ну и, конечно, не забывали мы и про художественную литературу, которую украдкой читали на скучных лекциях по марксистско-ленинской подготовке, военной психологии и педагогике.
Штурманский портфель с виду был неказист: черного цвета, из пупырчатой кирзы особой выделки. Внутри было три емких отделения, но как только они заполнялись бумагами и учебниками, боковины портфеля разъезжались в стороны гармошкой, а два саморегулирующихся ремня из быстро истирающегося кожзама по низу портфеля героически тщились придать всей конструкции более-менее приличный вид. Чтобы увеличить объем портфеля, некоторые предприимчивые рационализаторы обрезали ремни, благодаря чему он распухал до безобразия.
Особой гордостью было наличие в портфеле папки-вкладыша для карт и штурманских принадлежностей. Папка фиксировалась сверху специальной накладной скобкой. С внешней стороны папки имелись разнокалиберные фиксирующие карманы для навигационной и масштабной линеек, транспортира, ветрочета или расчетчика, небольшого компаса, ручек и карандашей. Запиралось все это богатство на две металлические пряжки с кожаными ремешками. Четыре нижних угла портфеля были усилены металлическими скобами, которые со временем отлетали, что приводило к быстрому появлению дыр на этих местах.
В командировках штурманский портфель нередко использовался и для «хозяйственных» нужд: его разбухший вариант вмещал двадцать бутылок – чего, догадайтесь сами. Проверено практикой! Правда, при этом портфель приходилось нести подмышкой, так как слабая его ручка не выдерживала тяжести ценного груза.
Но достаточно об устройстве этого славного авиационного снаряжения. Мои рассказы не о нем, а о том, что хранит он в своих недрах. Понемногу я буду извлекать из него разные истории. И первая как раз связана с самим портфелем.
Было это в начале 1977 года. Служил я тогда в Польше – Северная Группа Войск, 4-я воздушная армия РГК. Летал на транспортнике Ан-8 в 245-й отдельной смешанной авиационной эскадрилье, которая базировалась на аэродроме города Легницы. За год с небольшим я хорошо освоил свой первый строевой самолет и уже уверенно летал по воздушным трассам на многие аэродромы нашей необъятной Родины, не считая Польши и братских стран Восточной Европы. Трассовые полеты с посадкой на других аэродромах не обходились без «Сборников аэронавигационной информации». В то время все эти сборники и регламенты по связи имели гриф «секретно», хотя и содержали сведения всего лишь о гражданских аэродромах.
Данные о военных аэродромах находились в особых «Перечнях», которые категорически запрещалось брать на борт. И мы, штурманы, вынуждены были требуемые для полета данные заносить в специальную секретную тетрадь, которую хранили в своем штурманском портфеле. По этой причине и портфель считался секретным объектом. Он имел свой учетный номер в секретной части, и я его скреплял личной номерной металлической печатью.
Перед вылетом, расписавшись в секретной части, я получал портфель. Если же на промежуточном аэродроме приходилось остаться на ночь, сдавал его под роспись диспетчеру на КДП – там имелся объемистый сейф для нескольких распухших от избытка секретных документов штурманских портфелей.
Сразу после встречи Нового 1977 года наш экипаж отправили в очередную командировку. Пятого января мы прилетели в Кубинку, где базировался специальный истребительный полк, ориентированный на групповой демонстрационный пилотаж. Тогда они летали на МиГ-21. Там мы задержались на два дня в ожидании загрузки.
Я сдал свой штурманский портфель диспетчеру на КДП, и мы всем экипажем ожидали, когда нам оформят направление в гостиницу. Для перелетающих экипажей и служебных пассажиров в диспетчерской был предусмотрен небольшой зал ожидания, который в тот вечер из угла в угол рассекал невысокого роста крепкий генерал-майор в черной форме морской авиации. Был он белобрысым, с озорными внимательными глазами, а на груди над его внушительными орденскими планками сияли две Золотые Звезды! Я его сразу узнал: это был дважды Герой Советского Союза Алелюхин Алексей Васильевич, который воевал в прославленном 9-м ГвИАП под командой легендарного Льва Шестакова. Меряя шагами зал ожидания, он искоса поглядывал на нас – узнали его или нет. Алелюхин в то время занимал пост заместителя начальника штаба ВВС Московского военного округа и отвечал за показы авиационной техники. Так что Кубинка была его «вотчиной», а на КДП он, видимо, ожидал прибытия какогото важного лица.
Улетать из Кубинки мы собрались утром восьмого января. Нам предстояло перелететь на Чкаловскую, пройти там таможню и границу, а потом домой, в Легницу. Утро выдалось солнечным и морозным, стоял полный штиль, а термометр на метеостанции аэродрома уверенно показывал минус двадцать градусов. Особенностью аэродрома было то, что стоянка для перелетающих экипажей находилась по одну сторону полосы, а КДП и военный городок – по другую. Экипажи перелетающих экипажей доставляли от КДП к самолетам на специальном дежурном автомобиле по дороге вокруг ВПП. Этим автомобилем был трехосный армейский «Урал» с крытым брезентом кузовом.
У диспетчера уже было разрешение на наш перелет на Чкаловскую, мы быстро оформились и, забравшись в кузов «Урала», уехали на стоянку. Там подготовили самолет к вылету, заняли рабочие места и запустили двигатели. Устроившись в своей уютной штурманской кабине, я включил оборудование и потянулся левой рукой за штурманским портфелем, чтобы достать сборник с данными аэродрома Чкаловский. Лететь туда из Кубинки минут пятнадцать и надо было заранее подготовиться к посадке. Но моя рука нащупала только воздух! Обернувшись, я с ужасом обнаружил, что портфеля нет. Я забыл его у диспетчера!
Доложил командиру, тот скомандовал: «Давай вылезай и бегом за портфелем!» Двигатели выключать не стали, а меня выпустили через люк аварийного покидания в полу кабины экипажа. Выбравшись из самолета, я побежал по снежной целине к полосе. КДП находился аккурат напротив стоянки нашего самолета. Не такое уж и большое расстояние – наверное, метров 600700. Но для этого надо было пересечь ВПП, что категорически запрещалось без специального разрешения руководителя полетов. На мне была повседневная офицерская форма, а сверху – демисезонная летная куртка и шапка-ушанка. Запыхавшись и набрав полные ботинки снега, я подбежал к полосе. Остановился и огляделся по сторонам. Видимость хорошая, и самолетов на посадочных курсах нет. И вроде бы полеты в это время на аэродроме не планировались.
А, была не была! Я бросился бегом через «бетонку», а там уже и до КДП рукой подать. Мне повезло: возле диспетчерской стоял дежурный «Урал», и в него загружался перелетающий экипаж, чтобы ехать на стоянку. Не останавливаясь, на бегу, я попросил меня обождать: только портфель возьму! Слышу – за моей спиной кто-то спрыгнул с «Урала». Это был штурман. Оказывается, он тоже забыл портфель у диспетчера! Я спас его своим появлением, иначе он бы обнаружил пропажу портфеля уже в самолете.
Фу, слава Богу! С портфелем в руках я немного отдышался на деревянной лавке «Урала», пока он вез нас по объездной дороге. Самолет ждал меня с запущенными двигателями. Аварийный люк был открыт, и я наконец-то оказался на своем рабочем месте.
До Чкаловской, как и планировали, долетели без проблем за пятнадцать минут. Я же был весь мокрый: майка и форменная рубашка – хоть отжимай, а в ботинках растаял набившийся туда снег. Так что я еще долго обсыхал, пока мы оформлялись на вылет, а потом досыхал по дороге домой. И, как ни странно, после такого стресса и пробежки по снежной целине на морозе, даже насморка не схватил.
ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК
Когда мне было лет восемь, я всерьез и на всю жизнь «заболел» авиацией – запоем читал книги о летчиках и самолетах, по крупицам накапливал знания на эту тему, отчаянно завидовал тем, кто жил в больших городах, где были аэроклубы. Наш город Чайковский был далек от большой авиации, и приобщиться к ней я мог только в авиамодельном кружке на станции юных техников. Осенью 1969 года в городской газете «Огни Камы» я случайно наткнулся на объявление, в котором сообщалось о наборе желающих в парашютную секцию. Наконец-то! Свершилось: авиация пришла и к нам!
Показал объявление своим друзьям-одноклассникам, и в назначенное время мы оказались в помещении профкома «Воткинскгэсстроя». Желающих набралось более двадцати человек, но школьниками были только мы. Секцией руководили два парня лет восемнадцати-девятнадцати, которые прошли подготовку в Ижевском учебном авиационном центре и уже прыгали с парашютом. Время стерло из моей памяти имена и фамилии этих парней – как-никак, с тех пор прошло более полувека.
В профкоме под парашютную секцию выделили специальную комнату. Нашими учебными пособиями были плакаты по парашютной подготовке, соответствующие наставления, действующие парашютные приборы и два настоящих парашюта – ПД-47 и Д-18.
Перед началом занятий у нас потребовали медицинские справки о допуске к парашютным прыжкам. Пошли своей дружной командой одноклассников в городскую поликлинику, а там передо мной «опустили шлагбаум». В первом же кабинете попросили предъявить паспорт, так как парашютные прыжки разрешалось выполнять с шестнадцати лет. Мои друзья родились осенью и в школу пошли не со своим 1953 годом, а годом позже. И у них уже были паспорта. Меня же отправили восвояси: иди подрасти сначала! Казалось, не прыгать мне с парашютом. Но все же я нашел выход из тупика. Результаты медосмотра записывали на специальных бланках поликлиники, которые лежали в свободном доступе в регистратуре. Я взял один чистый бланк и аккуратно скопировал туда все записи с бланка моего товарища, а потом вложил его в общую кучу справок. В регистратуре все их проштамповали – и готово: я «прошел» медицинскую комиссию с допуском к парашютным прыжкам!
На занятиях в секции мы досконально изучали устройство парашюта, специальных приборов и учились укладывать парашют, постоянно совершенствуя свои навыки. Пристальное внимание уделялось действиям в особых случаях при выполнении прыжка. Весной, когда стало тепло, и земля подсохла, мы вытаскивали парашюты на пологий берег Камы. Там, надев подвесную систему и распустив купол, бежали навстречу ветру. Купол быстро наполнялся и тянул вверх. Иногда удавалось пролететь даже несколько метров!
Наши руководители и наставники обещали организовать парашютные прыжки летом на базе Ижевского УАЦ, но с конкретной датой ясности не было. В августе родители с младшими братьями уехали отдыхать в Крым, а я остался дома под присмотром двоюродной сестры Тони, которая в то время жила у нас и работала у папы в «Воткинскгэсстрое».
Долгожданный момент наступил в начале августа, и мы поехали в Ижевск. Весь день накануне исполнения нашей мечты мы провели в парашютном городке, где оттачивали действия при выполнении прыжка и в особых случаях, а также слушали инструктаж опытных парашютистов. Уже ближе к вечеру приступили к укладке парашютов. Каждый укладывал тот, с которым ему предстояло прыгать.
Ижевский УАЦ занимался подготовкой не только парашютистов, но и летчиков на вертолетах Ми-2. Целый день над головой тарахтели эти «маленькие стрекозы», летая друг за другом по бесконечному кругу полетов. С началом заката полеты закончились, и на аэродроме воцарилась тишина. К парашютному городку подошел полковник со значком военного летчика 1-го класса. Облокотившись о штакетник, он курил и с улыбкой наблюдал за нами. По солидным орденским планкам было понятно, что это фронтовик. Наблюдая за нами, он, видимо, вспоминал свою аэроклубовскую молодость.
После захода солнца нас принялись безжалостно атаковать полчища комаров. Отмахиваться от них не было никакой возможности, так как руки были постоянно заняты укладкой парашюта. Терпишь-терпишь, а потом как вскочишь и давай себя охлопывать – все ладони в крови.
Каждую операцию по укладке контролировали инструкторы, которые после проверки давали добро на продолжение работы. И вот парашют уложен, ранец зачекован и опломбирован бумажкой с твоей подписью – парашют готов к применению.
Прыжки были назначены на раннее утро, чтобы успеть завершить их до начала полетов. Встали перед восходом солнца – небо только-только начало сереть, а на востоке у горизонта обозначилась узкая багряная полоска. Летное поле аэродрома было укрыто тонкой пеленой утреннего тумана, стелящегося по мокрой траве. Было тихо – ни один лист на деревьях не шелохнется. От утренней свежести и понятного волнения тело пронизывала мелкая дрожь. Я шел, нервно позевывая и растирая предплечья ладонями, чтобы согреться. В парашютном городке нам открыли каптерку и предложили подобрать себе шлем и специальные ботинки на толстой подошве. Шлемы были двух типов: мотоциклетный и танковый. По размеру мне подошел только танковый.
Разобрали парашюты, взяли запаски и пошли на старт, который находился в центре летного поля. Стартом служил большой брезентовый квадрат, расстеленный на траве и закрепленный специальными колышками. На этом квадрате мы аккуратно, в ряд разместили свои парашюты с запасками.
Инструкторы построили нас, еще раз напомнив действия в особых случаях, и зачитали, кто в каком залете прыгает. Мне выпал второй. Тем временем из-за горизонта начало медленно выползать солнце. Его первые робкие лучи ласкали лицо, заставляли щуриться и унимали утреннюю дрожь. Туман, что стелился по траве, испарился, о нем теперь напоминала лишь обильная роса.
На краю летного поля проснулся дремавший Ан-2. Его мотор, пару раз недовольно фыркнув и выпустив облачко сизого дыма, басовито заработал, разгоняя утреннюю тишину. Пилот, опробовав мотор на различных режимах, подрулил к нашему старту. Первая группа парашютистов гуськом пошла к самолету. Выпускающий закрыл за ними дверь, мотор взревел, и Ан-2 сразу же пошел на взлет.
Пришла очередь нашего залета становиться на линейку проверки. Я влез в заранее подогнанную подвесную систему парашюта, который сам же и уложил накануне, застегнул карабины и прицепил запаску, а под нее запихал сложенную сумку своего парашюта. В нашем залете я прыгал вторым. Инструкторы проверяли парашюты вдвоем: второй следовал за первым, подстраховывая его. Ребята из первого залета уже висели под куполами, а Ан-2 крутой спиралью заходил на посадку. Когда он подрулил на исходную позицию, выпускающий открыл дверь, выбросил на траву оранжевые чехлы куполов, а потом махнул нам рукой: «Давайте сюда!»
За штурвалом самолета сидел командир отряда Ижевского УАЦ Пасынков, второго пилота не было. Одет он был в легкие брюки и футболку, на босых ногах – сандалии. Выпускающим назначали опытного парашютиста, так как он отвечал за безопасность на борту, и от него зависела точность выброски парашютистов. Самолет взлетел, и выпускающий начал цеплять карабины вытяжных фалов наших парашютов к специальному тросу под потолком салона. Мы, притихнув, сидели на откидных сиденьях вдоль бортов. Дверь в пилотскую кабину была открыта, и я с интересом наблюдал за действиями летчика. За несколько минут Пасынков набрал положенные 800 метров высоты и занял боевой курс для выброски.
Выпускающий распахнул входную дверь – и передо мной разверзлась бездна, в которую предстояло прыгать. Я сидел через одного от двери и не мог оторвать глаз от земли, которая едва угадывалась далеко внизу. Опершись руками о дверной проем и высунув голову наружу, выпускающий определял момент начала выброски. Вот он отстранился от двери и махнул рукой нашей пятерке: «Вставайте!» Стоять было непросто, от волнения подкашивались ноги. Парень, что был передо мной, быстро исчез в дверном проеме. Теперь я! Как учили, оперся одной ногой о дверной порожек, руками плотно обхватил запаску и… Легкий хлопок по плечу: «Пошел!» Оттолкнувшись от самолета, я рухнул в бездонную пропасть.
Глаза не закрывал и в падении видел свои ноги, которые почему-то были у меня над головой. Свободное падение длилось всего три секунды, а потом – сильный рывок, ноги резко ушли вниз, и я закачался под куполом парашюта. Сразу же начал действовать, как учили: осмотрел купол – все нормально, он раскрылся полностью, без перехлестов и порывов. Удобнее устроившись в подвесной системе, начал осматриваться вокруг: не сближаюсь ли с кем-то. Попробовал разворачиваться под куполом – все получилось. И только потом задохнулся от необъятного простора, что был вокруг меня. Земля еще далеко внизу, и странно было видеть ее под своими ногами. Состояние безудержной эйфории захлестнуло меня, хотелось кричать, петь чтото радостное!
Парашют Д-18, с которым мы прыгали, был неуправляемыми и на авиационном жаргоне назывался «дуб»: куда тебя ветер унесет, там и приземлишься. А земля-то все ближе и ближе, и чем ниже я оказывался, тем быстрее она приближалась. Меня несло боком, поэтому я развернулся в подвесной системе так, чтобы земля набегала на меня. Ноги плотно вместе, подошвы параллельно земле. Перед самым касанием энергично потянул за задние лямки, перекашивая купол, чтобы уменьшить поступательную скорость. Удар! Я крепко приложился подошвами ног и сразу повалился на бок, но тут же вскочил и забежал за купол, чтобы его загасить.
Отцепил запасной парашют, расстегнул карабины и освободился от подвесной системы. Собрал купол и стропы в парашютную сумку, закинул ее за спину и с запаской в руке пошел к старту. Приземлился я в метрах трехстах от него. Состояние после прыжка – неописуемый восторг! Хотелось немедленно прыгнуть еще, но, к сожалению, прыжок нам полагался только один. Командир отряда Пасынков поздравил нас и вручил каждому удостоверение парашютиста и значок – парашютик на голубом фоне.
Это славное событие случилось шестого августа 1970 года, за двенадцать дней до моего шестнадцатилетия. Следующий прыжок с парашютом я совершил через два года, когда был уже курсантом Челябинского штурманского училища, где парашютная подготовка являлась обязательным элементом учебного процесса.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Нас, курсантов Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов имени 50-летия ВЛКСМ, учили высококлассные преподаватели, профессионалы своего дела, многие из которых прошли суровую фронтовую школу Великой Отечественной войны. Они были для нас примером служебного и воинского долга.
Осенью 1973 года, когда после отпуска начались занятия на третьем курсе, у нашего 343-го классного отделения восьмой роты появился новый преподаватель на кафедре БПСП – боевого применения средств поражения, или просто бомбометания. Прежний преподаватель уволился в запас по возрасту. Когда началась пара, в аудиторию зашел подполковник. Командир классного отделения Валера Наливайко скомандовал:
– Встать! Смирно! – и четко отрапортовал ему, как положено перед началом занятий.
Новый преподаватель был невысокого роста, с заметным круглым животиком. На его пухлых губах играла легкая улыбка, а молодые глаза сверкали озорными бесами.
– Подполковник Раппопорт Борис Элевич! Буду вести у вас практические занятия, – представился он. – Воевал. Всю войну пролетал в полку ночных бомбардировщиков на У-2. После войны служил в частях ВВС, окончил академию, был старшим штурманом полка. Постараюсь сделать из вас настоящих бомбардиров!
Пока подполковник Раппопорт говорил, я внимательно рассматривал его солидные орденские планки. Первые две, это понятно: ордена Красного Знамени, а вот что за планка светло-зеленого цвета с тремя красными полосками по краям? То, что это орден, было ясно по планке ордена Красной Звезды, которая была сразу за ней.
– Есть ко мне вопросы? – спросил преподаватель.
Я встал:
– Курсант Циберкин! Товарищ подполковник, что за орденская планка у Вас сразу за орденами Красного Знамени?
Лицо Бориса Элевича расплылось в довольной улыбке, ему понравился мой вопрос. Коснувшись планки пальцем левой руки, он сказал:
– А это мой «Герой Советского Союза»!
– Как это?! Товарищ подполковник, расскажите! – попросил я.
И Борис Элевич с явным удовольствием начал рассказывать. В феврале 1945 года его уже в третий раз представили к званию Героя Советского Союза за выполнение ряда специальных заданий и более пятисот боевых вылетов. В этот раз его представили по личному указанию командующего 3-й танковой армии генерал-полковника танковых войск Рыбалко. Командующий 16-й воздушной армией генерал-полковник авиации Руденко позвонил Раппопорту и поздравил с присвоением высокого звания Героя Советского Союза.
Это представление должен был утвердить Маршал Советского Союза Жуков – командующий Первым Белорусским фронтом, в составе которого воевал Раппопорт. Представление-то он подписал, но вот только зачеркнул слова «…к званию Героя Советского Союза», а сверху надписал: «Наградить орденом Суворова III степени».
– Так что это орден Суворова III степени, вот так! – закончил свой рассказ подполковник Раппопорт.
По статуту этого ордена третьей степенью награждались командиры рот и батальонов (а Раппопорт на момент награждения был старшим лейтенантом), второй степенью – командиры полков и начальники штабов дивизий, а первой – от командира дивизии и выше, вплоть до командующего фронтом. Орден первой степени был платиновым, второй – золотым, а третьей – серебряным.
За время войны Бориса Элевича наградили двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны и медалями без счета. А было ему в победном 1945 году всего-то двадцать три года!
В дальнейшем, когда подполковник Раппопорт проводил занятия с нашим классным отделением, он особо выделял меня, ставя в пример, и говорил при этом: «Это будущий старший штурман воздушной армии!»
Дело не в том, что ему понравился мой вопрос: я хорошо учился и закончил училище с отличием. Старшим штурманом воздушной армии я не стал, так как ушел на летно-испытательную работу, но до полковника дослужился, что по званию соответствовало старшему штурману воздушной армии.
Борис Элевич был человеком скромным и не любил рассказывать о своем боевом прошлом. А мы по молодости не особо интересовались – у молодости свои интересы…
Уже много лет спустя, в наше время, из книги Артема Драбкина «Я – бомбер!» («Эксмо», 2011) я узнал много интересного о фронтовой судьбе своего преподавателя. В этой книге есть глава о Раппопорте, в которой он отвечал на вопросы автора. Вот несколько удивительных фактов его фронтовой биографии.
В конце апреля 1945 года вместе с летчиком Александром Овечкиным он совершил пятнадцать боевых вылетов на бомбардировку Рейхстага и Бранденбургских ворот в Берлине. 3 мая 1945 летчики эскадрильи, в которой служил Раппопорт, поехали в павший Берлин и там, возле стен Рейхстага, Александр Овечкин разыскал воронки от сброшенных ими бомб. А самое главное – он нашел в зале заседаний Рейхстага стабилизатор от бомбы с выбитым личным номером Бориса Раппопорта! Всегда и во все времена штурман выбивал или процарапывал на стабилизаторе каждой сбрасываемой им бомбы свой личный номер (так делали и мы, еще будучи курсантами).
Так что Борис Элевич Раппопорт закончил войну победной бомбой, поразившей Рейхстаг!
Интересная встреча произошла у него в 1968 году, во время отдыха с семьей в Адлере в санатории Министерства Обороны «Кудепста». Борис Элевич в то время был уже подполковником и старшим штурманом полка. В этом санатории находилась тренировочная база ЦСКА, на которой в то время проходили сборы знаменитой хоккейной команды. Как-то раз во время обеда за столик к Раппопортам подсел прославленный хоккейный тренер Анатолий Тарасов. Разговорились, Тарасов поинтересовался, чем Раппопорт занимается. Узнав, что тот авиатор, штурман, сказал, что уважает летчиков, так как в войну они спасли его отца – вывезли тяжело раненого из-за линии фронта. Когда же выяснилось, что Борис Элевич – тот самый человек, который вместе со своим летчиком спас его отца, Тарасов встал и крепко пожал Раппопорту руку. С того дня началась их многолетняя и искренняя дружба. А история спасения отца Тарасова такова.
В феврале 1942 года экипаж летчика Игоря Маруса и штурмана Бориса Раппопорта получил приказ на выполнение специального задания. Надо было с двумя гондолами под крылом, которые использовались для перевозки людей и грузов, перелететь в распоряжение командования Северо-Западного фронта. В штабе фронта их ввели в курс дела: юго-восточнее Демянска был выброшен десант в количестве 2700 человек во главе с подполковником Тарасовым. Но что-то пошло не так, десант уже в течение трех суток не выходит на связь, и его судьба неизвестна. Экипажу была поставлена задача найти десант в тылу врага и произвести там посадку.
Только во время третьего вылета за линию фронта Марусу и Раппопорту удалось заметить огни костров в Демянском лесу. Неподалеку от этих костров на поляне они выполнили благополучную посадку. Выяснилось, что десант был разбит, и его остатки укрылись в лесу, а командир десанта подполковник Тарасов тяжело ранен. Первым рейсом Марус и Раппопорт вывезли Тарасова к своим, а за последующие десять дней выполнили 22 посадки в немецком тылу, вывезя сорок раненых. Также они доставляли десантникам боеприпасы и продовольствие. В свой завершающий рейс боевой экипаж привез десантникам письменный приказ о выходе к своим. В итоге из 2700 человек из-за линии фронта вернулось всего 342 десантника. За это спецзадание спустя два месяца Игорь Марус и Борис Раппопорт были награждены орденами Красного Знамени. Это была первая боевая награда Бориса Элевича Раппопорта.
Вот с таким замечательным человеком подарила мне встречу судьба!
О ПОЛЬЗЕ ВЕЧЕРНИХ ПРОГУЛОК
В начале октября 1974 года мы, молодые двадцатилетние парни, отдохнув в отпуске, прибыли в город Кустанай. Здесь нам предстояла учеба на четвертом, завершающем курсе и полеты на фронтовых бомбардировщиках Ил-28. А потом, уже в Челябинске – государственные экзамены, лейтенантские погоны и интересная летная работа в боевых частях ВВС.
Кустанай в то время, хотя и был областным центром Казахской ССР с населением сто тысяч человек, по сути, оставался провинциальным городом. Его историческая часть, застроенная симпатичными зданиями начала века, перемежалась невыразительными кирпичными коробками 50-х и 60-х годов, а новые микрорайоны были царством панельных пятиэтажек. Магазины города, однако, приятно удивляли богатым ассортиментом продовольственных и промышленных товаров. В Челябинске, да и вообще в РСФСР, снабжение было значительно хуже. Но такова тогда была внутренняя политика руководства страны – «умасливание» союзных республик за счет России.
Прошла неделя нашего пребывания в Кустанае, жизнь на новом месте вошла в привычную колею – учеба и служба. В воскресенье мы с Володей, моим другом, собрались в увольнение. Хорошая погода, что стояла всю неделю, куда-то подевалась: резко похолодало, солнце спряталось за плотным слоем облаков, задул пронизывающий степной ветер, который иногда швырял в лицо иглы мелкого моросящего дождя. Воскресенье выпало на тринадцатое октября, а еще на это число пришелся День работников сельского хозяйства.
Добравшись до центра города на автобусе, мы около часа бесцельно бродили по улицам. Пойти особо было некуда, в кино не хотелось, а единственный ресторан располагался в гостинице «Целинная». Иные «очаги культуры» отсутствовали. Было холодно, сильный ветер продувал наши шинели насквозь, так что быстро пришло понимание того, что делать здесь нечего. Решили возвращаться домой, то есть обратно к себе в казарму. Рядом с автобусной остановкой был гастроном, занимавший первый этаж пятиэтажки. В винном отделе купили бутылку вина «Солнцедар» емкостью ноль семь литра и плавленый сырок «Дружба». Спрятались от ветра и любопытных глаз за угол магазина, где громоздились у служебного входа пустые деревянные ящики. Вино пили по очереди прямо из горлышка, заедая его сырком. Было противно, и до конца эту бутылку мы так и не осилили, но «Дружбу» съели всю. Нас спас подъехавший автобус. В казарму вернулись задолго до ужина.
Когда же после ужина вышли из столовой, то увидели, что погода налаживается. Ветер начал стихать, а в разрывах облаков показались звезды. И мы с Володей решили прогуляться по городку: а вдруг, нам повезет, и мы познакомимся с хорошими девчонками! Для прогулок в военном городке были всего две улицы – Зеленая и Спортивная. Зеленая тянулась от нашей казармы к Спортивной и пересекала ее под прямым углом. Дойдя до Спортивной, мы повернули налево. Навстречу шли две девушки. Вот бы познакомиться с ними! Но как? На помощь пришла черная кошка, вернее не пришла, а пробежала между нами и девушками.
– Дальше вам идти нельзя! – засмеялись девушки.
– А мы тогда пойдем вместе с вами! – И дальше пошли уже вчетвером.
Сразу же завязался оживленный разговор. Возбужденные встречей, да еще и вспомнив какой сегодня праздник, мы начали «валять дурака». Я представился трактористом Гришкой, взяв имя отца, а Володя поддержал меня, назвавшись механизатором широкого профиля Мишкой.
Девчата рассмеялись, им понравилось наше дурачество, и они продолжили в том же ключе:
– Ну, а мы тогда – доярки!
– А вообще-то вас зовут не так, – уже серьезнее продолжили они.
– Раз так, то угадайте наши имена, – предложил я.
Мы шли в ряд, занимая почти всю ширину улицы. Я был крайним на правом фланге, а левофланговой шла симпатичная девушка, лицо которой мне было трудно разглядеть при скудном уличном освещении. В центре находились Володя и остролицая брюнетка. Симпатичная девушка все время выглядывала из-за своей подруги, пытаясь меня разглядеть. Она вдруг сказала:
– Ты – Сашенька!
Брюнетка, окинув моего друга взглядом сверху донизу, уверенно произнесла:
– А ты Володя!
Что и говорить, мы были поражены их проницательностью. Девушки представились. Та, что назвала меня Сашенькой, оказалась Аночкой, а ее подруга Таней. Так мы и познакомились, после чего наше общение стало легким и непринужденным.
Это знакомство быстро переросло в дружбу, мы начали часто встречаться, гуляя вечерами по городку или посещая танцы в гарнизонном клубе. Обе девушки были из офицерских семей, жили в городке и учились в местном пединституте на преподавателей английского языка. Нам всегда было интересно общаться и находилось, о чем поговорить.
Зимой, когда властвовали морозы, мы устраивали шутливое фигурное катание на льду, который намерзал вокруг уличной водонапорной колонки, что находилась на пересечении Зеленой и Спортивной улиц. Иногда, когда степной ветер был особенно безжалостен, мы прятались от него с торцевой стороны дома, в котором жили наши подружки.
Чем дольше мы гуляли, тем больше мне нравилась Аночка. Я надеялся, что и у Володи все сложится с Таней, но оказалось, что его сердце уже давно занято одноклассницей, на которой он и женился сразу после окончания училища.
Мои отношения с Аночкой развивались по нарастающей, не прошло и года, как я сказал ей: «Я тебя люблю!». Это случилось, когда на мне уже были лейтенантские погоны. Аночка тогда так и не ответила ничего конкретного, она призналась в своих чувствах только в письме, которое я получил уже в части, где начинал свою офицерскую службу.
Любимая стала моей женой тринадцатого февраля 1976 года – опять счастливое число тринадцать! Так случайная встреча на улице стала определяющей в нашей судьбе. Мы вместе сорок восемь лет, и еще долгие годы у нас впереди. А две взрослых дочки и внуки – следствие той самой встречи.
Было же когда-то благословленное время, когда не существовало виртуального пространства, и для того, чтобы узнать, что-то новое и интересное, мы брали в руки книгу, а не щурились в монитор своего компьютера. Когда люди, встречаясь, смотрели друг другу в глаза, а не пялились в экраны смартфонов, когда не было всяких гаджетов и прочих цифровых игрушек, уводящих человека из реального мира в капканы разнообразных сетей.
Молодые люди! Не сидите дома, выбирайтесь из цепких лап цифрового мира и выходите почаще на улицу. Встречайтесь с друзьями, гуляйте, наконец, просто оглянитесь вокруг: может быть, ваша судьба где-то рядом? Живите полноценной жизнью и дышите полной грудью, а главное – чаще читайте хорошие книги.
И будьте счастливы!
НОЧНОЙ ПОЛЕТ НА БОМБОМЕТАНИЕ
Курсантские полеты – как давно это было! На Ил-28 мы начинали летать с инструктором. Штурманская кабина этого бомбардировщика была большая, места хватало для двоих. Инструктор сидел сразу за моей спиной в катапультном кресле, а я на специальном круглом стульчике возле прицела. Вернее – на ранце своего парашюта, который находился на этом стульчике.
К маю 1975 года мы уже довольно уверенно летали и бомбили, как днем, так и ночью. Пора было выпускать нас в самостоятельный полет. Конечно же, он мог состояться только днем. Я знал, что в следующую летную смену меня выпустят самостоятельно, и с нетерпением ожидал этого момента. Но накануне командир роты поставил меня в наряд дежурным. На мои возражения он авторитетно заявил, что завтра полетов не будет. Пришлось заступить в наряд.
Когда же утром следующего дня я пришел в столовую, то сразу понял: полеты будут. В день полетов курсантов кормили по «реактивной летной норме», это было видно сразу по наличию на наших столах двух вареных яиц для каждого, шоколада и сока или фруктов.
После завтрака к нам в казарму заскочил командир эскадрильи майор Павличко:
– Будешь летать, если тебя заменят?
Мне не хотелось вот так сумбурно и бегом мчаться на полеты, и я ответил командиру, что не отдыхал, а нес службу и всю ночь не спал. Павличко тяжело вздохнул и, ничего мне не сказав, вышел из казармы.
Следующая летная смена состоялась через несколько дней и была полностью ночной. Опять не удастся слетать самостоятельно! Для меня был запланирован один полет с инструктором, штурманом звена капитаном Бряндиным.
На стоянке у самолета, уже перед самым вылетом, Бряндин вдруг спросил меня:
– Сам сейчас полетишь?
– Полечу! – не колеблясь ответил я.
Техник закрыл за мной крышку люка, и я впервые оказался в кабине один. Поудобнее устроился на стульчике. Кресло катапульты штурманы Ил-28 использовали только по прямому предназначению – для катапультирования, а основным рабочим местом в полете был тот самый стульчик. Развернув полетную карту с маршрутом, я разместил ее на чашке кресла, а навигационный расчетчик НРК-2 положил рядом с собой на пол кабины.
В кабине было темно, и лишь рассеянный свет от фонарей на стоянке очерчивал контур оптического прицела передо мной. По СПУ командир экипажа капитан Анисимов спросил меня:
– Готов?
– Готов! – бодро ответил я.
Запустили двигатели, и заработала бортовая электросеть самолета. Я включил освещение приборной доски и отрегулировал светильники на рабочем месте так, чтобы они не отражались на остеклении фонаря и не мешали вести визуальную ориентировку. Подсвеченные «уфошками», таинственно озарились зеленым шкалы и стрелки приборов, делая знакомый мирок штурманской кабины особенно уютным.
Летчик выпустил рулежные фары, и их свет выхватил из темноты бетон стоянки. Вырулили и покатились по магистральной рулежной дорожке на исполнительный старт. На полосе командир запросил разрешение на взлет и вывел двигатели на взлетный режим. Поехали!
Самолет, словно нехотя, тронулся с места и начал разгоняться – белые боковые огни все быстрее и быстрее проносились слева и справа от меня, а потом вдруг начали медленно уплывать под самолет. Мы в воздухе! Хлопнули створки шасси, погасли фары. Перед следованием по маршруту набираем высоту по схеме аэродрома. От руководителя полетов получили команду на занятие четного эшелона – значит, нам лететь на полигон Тобол, это юго-западнее Кустаная. На нечетных эшелонах борты следовали северо-восточнее, на Татьяновку.
Волнение, связанное с взлетом, прошло, и дальше я действовал по хорошо отработанной технологии: вел визуальную и радиолокационную ориентировку, по измеренным углу сноса и путевой скорости определял параметры ветра. Погода была простая – безоблачное небо и звезды над головой. Луна еще не показалась из-за горизонта, и земля скрывалась в бархатной темноте, но огни знакомых ориентиров вселяли уверенность в точном выдерживании маршрута. Кустанай остался сзади по правому борту: его скопление огней еще можно было увидеть, прильнув к боковому остеклению фонаря штурманской кабины. Мы летели по маршруту на эшелоне 4200 метров с крейсерской скоростью 500 километров в час.
Отдельная забота штурмана в полете на бомбометание с ПСБН-М – это его калибровка. Прибор слепого бомбометания и навигации был одним из первых отечественных радиолокаторов с минимальным уровнем автоматизации. В полете его надо было специально готовить к применению: калибровать масштабы отображения, регулировать уровень шумов отраженных сигналов и выделять на их фоне отметки от цели. От всего этого зависела точность бомбометания. Для калибровок по левому борту кабины находился специальный блок БО – блок отметчика, размером с хороший ящик. В него была встроена небольшая электронно-лучевая трубка, по которой и выполнялись все калибровки. Делали мы это, регулируя соответствующие шлицы на блоке специальной отверткой.
Боевой путь на полигоне Тобол выполнялся с магнитным курсом 270 градусов. С удаления 60–70 километров нужно было «высветить» на экране радиолокатора отметки цели и маркеров. Вместе они выглядели как треугольник, где целью была его вершина, обращенная навстречу самолету. В режиме бомбометания на экране отбивались курсовая метка и метка дальности, которые образовывали электронное перекрестие. То, что на экране отображалось как яркостные отметки, в действительности было тремя группами деревянных столбов, на вершинах которых крепились уголковые отражатели.
На высоте 4200 метров мне удалось обнаружить отметку цели и маркеров с удаления 50 километров.
– Цель, маркеры вижу! Выполняю прицеливание!
Капитан Анисимов доложил руководителю полетов на полигоне, что мы работаем по 20-й цели. Двадцатой целью назывались уголковые отражатели, а второй – вспаханный на земле крест в круге, для бомбометания с оптическим прицелом.
На первом этапе прицеливания выполнялась боковая наводка. Если отметка от цели «сползала» строго по курсовой черте, то боковая наводка считалась выполненной. При сходе цели с курсовой метки влево или вправо я останавливал это перемещение вращением рукоятки «Снос» на ОПБ-6СР, после чего подворачивал самолет рукояткой «Разворот» на оптическом прицеле так, чтобы курсовая метка снова легла на отметку цели. Обе эти рукоятки находились на одной оси, причем «Разворот» была внешней, а «Снос» – внутренней. Управление самолетом производилось через автопилот АП-5, сопряженный с оптическим прицелом ОПБ-6СР.
Перед выходом на боевой путь я рассчитывал угол сброса по высоте полета и уточненной путевой скорости и устанавливал его на оптическом прицеле рукояткой «Угол сброса». Метка дальности на экране ПСБН-М изначально соответствовала максимальному углу визирования прицела 78 градусов. В момент прихода отметки цели на метку дальности включал тумблер «МПС» (мотор путевой скорости) на ОПБ. С этого момента помимо боковой наводки начиналось прицеливание по дальности, то есть уточнялся угол сброса. Текущий угол визирования начинал уменьшаться со скоростью, пропорциональной путевой скорости самолета, при этом метка дальности все время должна была совпадать с отметкой цели. Если отметка цели сползала с метки дальности вверх или вниз, то рукояткой «Угол сброса» я останавливал этот сход (при этом уточнялся и угол сброса), а рукояткой «Угол визирования» накладывал метку дальности на цель.
На боевом пути о всех своих действиях докладывал командиру, который контролировал мои действия по специальной палетке. Когда боковая наводка и прицеливание по дальности были успешно выполнены, мне оставалось только подтвердить это коротким докладом:
– Цель в перекрестии!
И он был спокоен, и я: все идет по плану, бомбы упадут туда, куда надо. В хорошую погоду для летчика дополнительным подтверждением правильности захода были огни железнодорожной станции Тобол – левее и чуть ближе, чем полигон. Нам рассказывали, что были случаи, когда при бомбометании с оптическим прицелом огни станции путали с огнями цели на земле.
Немного отвлекся, а момент сброса все ближе и ближе! Двадцать градусов до сброса! На щитке бомбовооружения включил «Главный», «Селекторы» и доложил командиру:
– Главный, селекторы! Цель в перекрестии!
Десять градусов! Открыл створки бомболюка, а на ЭСБР (электросбрасывателе) уточнил порядок сброса – по одной или залпом сразу две – и доложил:
– Бомболюк открыт! Сброс залпом!
Пять! Взвел рычаг «Автосброс» на ОПБ:
– Автосброс!
Ноль! Текущий угол визирования совпал с уточненным углом сброса.
– Сброс! – Бомбы парой вывалились из бомболюка.
Сразу же закрыл створки и припал к фонарю кабины, стараясь разглядеть, как падают бомбы.
– Сработал двумя по двадцатой! – доложил руководителю Анисимов.
При ночном бомбометании у практической бомбы П5075 из донного очка начинает гореть магниевая смесь, подожженная специальным взрывателем. По этому огненному хвосту можно проследить за падением бомбы.
После сброса бомб наступают две минуты напряженного ожидания результата бомбометания. Наконец руководитель полетов сообщает:
– Азимут такой-то, удаление такое-то, – все относительно цели. В этот раз обе бомбы упали на оценку «отлично».
– Молодец! – похвалил меня командир. – А теперь пора домой!
На стоянке наш борт встретил Бряндин. Он, хоть и был уверен во мне, но тоже волновался. То, что я полетел один и сразу ночью, без дополнительной контрольной проверки, было грубейшим нарушением летных законов. Поэтому в моей летной книжке все записано «правильно»: и контрольную проверку я якобы прошел, да и первый самостоятельный полет из ночного чудесным образом превратился в дневной. Все как надо!
Капитан Анисимов, похлопав меня по плечу, сказал Бряндину:
– Толковый штурман, уверенно летает!
Дальше до самого выпуска из училища я летал только самостоятельно.
Штурман звена капитан Бряндин был высоким, крепко сбитым и добродушным, уверенным в себе человеком. Он у меня ассоциировался с Волком из мультфильма «Ну, погоди!» Даже подшлемник у него был эксклюзивный, сшитый на заказ из цветастого ситчика.
Как-то раз во время полетов мы стояли рядом на стоянке и, задрав головы, наблюдали, как над нами, басовито гудя и оставляя за собой инверсионный след в голубом небе, величаво проплывал Ту-114, выполнявший рейс из Алма-Аты в Москву. Бряндин долго задумчиво смотрел ему в след, а потом повернулся ко мне:
– Вот на таком самолете будешь летать!
– Нет! – ответил я ему. – Хочу летать на Як-28, а еще лучше, на Су-24.
Мой инструктор в чем-то оказался прав: мне пришлось много летать на Ту-142, военном аналоге Ту-114, и на других тяжелых кораблях. Но и Як-28 с Су-24 также не обошли меня стороной.
ГОСПОЛЕТ
Венцом летной подготовки в военном авиационном училище был государственный экзаменационный полет. Его отлетывали в конце восьмого семестра, когда завершалось теоретическое обучение. После госполета впереди были только выпускные государственные экзамены или, как мы их называли – «госы».
У нас, кустанайцев – тех, кто учился и летал на четвертом курсе в Кустанае, все вышло иначе. В конце мая 1975 года нам сообщили, что летную программу мы должны закончить в июле и сразу же выполнить государственный экзаменационный полет. После чего нас отправят в Челябинск, доучиваться по программе восьмого семестра. Причина этих радикальных изменений в нашей курсантской жизни была в том, что кустанайский учебный авиационный полк расформировывался, а его самолеты передавались в Оренбургское летное училище. Сюда же перебазировался боевой бомбардировочный полк дальней авиации на самолетах Ту-16 из Калинина (ныне Тверь). Этот полк становился учебным авиационным полком нашего Челябинского штурманского училища. И уже в октябре он должен был принять новых курсантов четвертого курса и приступить к полетам с ними. Поэтому и возникла такая спешка с завершением нашей летной программы.
