Под прусским орлом над берлинским пеплом
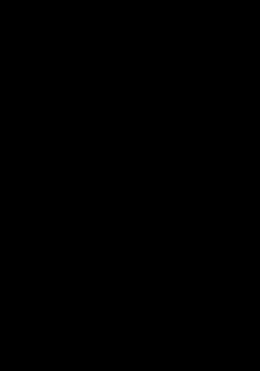
Часть 1
Запись 1
Первое воспоминание, яркой вспышкой озаряющее мрак моего безоблачного детства, – это полосатая коробка, увенчанная пышными бантами, чьи шёлковые язычки змеились по мозаичной поверхности журнального столика. Мелодия La Campanella Фрица Крейслера, льющаяся из-под изящного смычка мадам Жюли – нанятой моими родителями скрипачки, наполняла просторный зал. Родители считали эту музыку идеальным аккомпанементом для бала в честь моего пятилетия.
По периметру зала, словно экзотические птицы, расселись дамы в разноцветных кринолинах. Их шеи и руки, усыпанные драгоценностями, блестели, словно приманивая ворон. Они беззаботно обмахивались кружевными веерами, погруженные в мир сплетен и интриг. Лишь некоторые из них изредка бросали взгляды на своих отпрысков, которых мне великодушно предоставили в качестве компаньонов. Но эти бледные, скучающие дети вызывали во мне такую тоску, что даже полосатая коробка казалась намного интереснее.
Я кружил вокруг неё, подобно акуле, выбравшей свою жертву. Пытался заглянуть внутрь, незаметно стянуть тугой бант, приоткрыть соблазнительную крышку. Но бант, завязанный крепкой рукой, не поддавался моим пухлым детским пальчикам. Ему требовались не слабые ручонки, а острые лезвия ножниц. И это ещё больше разжигало моё любопытство.
Я извивался и дёргался, пытаясь высвободиться, но дедушка поймал меня в свои крепкие объятия и усадил на колени, лишив всякой возможности движения. Ну что ж, по крайней мере, это было лучше, чем наблюдать за кучкой ползающих, вопящих и сопливых детишек.
– Адам, знаешь ли ты, что всякое терпение вознаграждается? – прозвучал бархатный голос дедушки, полный мудрости.
– Но это же мой подарок! Я хочу его открыть! – воскликнул я, устремив на дедушку умоляющий взгляд.
Эдвард Кесслер, мой дедушка, был старым офицером, и, как и подобает всякому офицеру, несмотря на преклонный возраст, обладал великолепнейшей военной выправкой, которой позже обучил и меня. Наша семья, вероятно, никогда бы не познала несметных богатств, если бы дедушка не вытащил с поля боя своего командира, Зигмунда Эриха – последнего потомка древней династии, служившей ещё старым императорам.
Зигмунд был тяжело ранен. Долгий путь до форта лишь усугубил его состояние, и к моменту прибытия он был на грани жизни и смерти. Его крики, вызванные сильнейшей физической болью, были настолько ужасны, что солдаты, слыша их, невольно крестились и прижимали к губам крестики и образки. Лишь Эдвард не дрогнул перед лицом страданий командира. Он неустанно ухаживал за ним: поил, переворачивал, обрабатывал раны. Так прошли три мучительных дня, прежде чем Зигмунду стало немного легче.
Боль, будь то физическая или душевная, способна изменить человека до неузнаваемости. Кто—то ожесточается, кто—то, наоборот, проникается благодарностью к тем, кто остался рядом в трудный час. Командир, прежде славившийся жестокостью и беспощадностью к своим солдатам, теперь, съедаемый муками совести, плакал навзрыд. Дедушка рассказывал, что глаза Зигмунда часто наполнялись слезами, когда он смотрел на бойца, который вот уже три дня проявлял к нему столько милосердия. Поначалу он отталкивал Эдварда, становился невыносимым, надеясь, что тот бросит его на произвол судьбы. Но Кесслеры никогда не бросали начатое дело на полпути (эти слова следует произносить с нескрываемой гордостью!). И Эдвард не сдался.
На четвёртый день состояние Зигмунда резко ухудшилось. Видимо, был задет жизненно важный орган, или начинался сепсис. Осознавая приближение конца, он попросил:
– Позовите канцеляра.
Командир был последним представителем своего рода. Его мать умерла, когда ему едва исполнилось десять, а отец погрузился в пучину безумия. Ни братьев, ни сестёр, ни детей у Зигмунда не было, а значит, и наследников тоже. Так, после смерти Эриха, Эдвард Кесслер стал владельцем многомиллионного состояния.
– Я помню Вашу историю об Эрихе, дедушка, – отозвался я, всё ещё размышляя над услышанным.
– Это самый явный пример того, как терпение щедро вознаграждается, – подтвердил дедушка, и его слова повисли в воздухе, мерцая гранями мудрости и опыта. В них не было ни капли сомнения, ни тени колебания – лишь непоколебимая уверенность, рождённая годами испытаний и побед.
Я разглядывал его седые бакенбарды, похожие на заснеженные горные склоны, и густые белые брови, согнутые крыльями альбатроса на круглом лице, «парящие» будто над бушующим океаном. Ещё не так давно они вызывали во мне трепет, как, возможно, и у всех остальных, граничащий со страхом, придавая старшему представителю Кесслеров грозный, даже зловещий вид.
Теперь же это был признак мудрости, благородная патина, подчёркивающая задумчивый взор, полный пережитого опыта и глубоких размышлений. Взор, который видел и поля сражений, и роскошь дворцовых залов, и безмолвные знания старинных книг. Взор, который проникал в самую суть вещей, разгадывая тайны человеческих душ.
– Не наследник он, – произнёс дедушка, словно делясь сокровенной тайной, и я, проследив за его взглядом, увидел Ганса, моего брата, погруженного в созерцание канареек. Хмурым, отстранённым взором скользил он по лимонному оперению птиц, беспокойно прыгавших по жёрдочкам в золотой клетке.
Гансу было всего десять. Но его лицо, бледное и худощавое, уже отображало всю философию его жизни, полную меланхолии и отрешённости. Грустный взгляд, тонкие губы, сомкнутые в узкую линию, худощавое болезное тело.
Но рядом с ним порхало другое лицо – одухотворённое и живое, словно солнечный зайчик был художником его. Яркое, веснушчатое, с горящими зелёными глазами, как два изумруда. Мичи, или Микаэла моя сестра, в отличие от Ганса, была воплощением жизнерадостности и авантюризма. И даже сейчас она что—то живо объясняла брату, активно жестикулируя, совсем не так, как подобает юной светской леди. Её рыжие кудряшки вздымались вверх, как искры над костром, вторя шёлковой юбке, трепещущей от её энергичных движений. Высокий голосок Мичи доносился и до моих ушей, но не слова – их я не разбирал, убаюканный монотонным щебетанием канареек и дыханием дедушки.
– Почему не наследник, дедушка? – спросил я, продолжая неотрывно следить за братом и сестрой, будто они были двумя персонажами захватывающей пьесы.
Ганс, погруженный в свои мысли, лениво постучал ногтем по прутьям клетки, заставляя птиц снова вспорхнуть и защебетать с новой силой возмущённые вторжением в их маленький мир.
В этот момент мой взгляд перехватила Мичи, поправлявшая растрепавшиеся волосы. Её улыбка, извечно широкая и лучезарная, слегка дрогнула, и уголки губ опустились. Взяв под руку Ганса, она кивнула на дверь, приглашая его в другое, более безопасное пространство.
– Потому что, – ответил дедушка, словно подводя итог своим наблюдениям, – в нём нет стержня. Нет собственного «я» и умения выражать свои интересы. Он дохляк, таких даже в армии всерьёз никто не воспринимает. А ещё глупец, который не хочет учиться.
– А я? – моё внимание снова полностью принадлежало герру Кесслеру, как только рыжее пламя со смехом скрылось в вестибюле.
– А тебя я ещё не раскусил, – услышал я в ответ, и в голосе дедушки послышались нотки лукавства.
Общество дедушки, пахнущего сердечными каплями и воспоминаниями о прошлом, наконец, мне наскучило, и я, найдя взглядом родителей, отправился к ним, в поисках более живого и понятного общения.
Задыхаясь и путаясь в бесконечных юбках дам, спотыкаясь и налетая то на одни руки, то на другие, под ахи, вздохи и нескончаемую скрипку, я, наконец, добрался до маминой жёлтой юбки и спрятался за неё.
Она держала в своей тоненькой, изящной ручке фужер, так легко, будто родилась с ним, и премило беседовала с толстым, коротконогим банкиром Диттмаром, удивительно похожим на бульдога из-за своей выпирающей нижней челюсти и тяжёлого, пристального взгляда.
Она как бы вслепую приобняла меня за плечи, будто, не замечая моего присутствия, и продолжила обсуждать денежные операции, которые, казалось, интересовали её куда больше.
– Таким образом, выигрышнее ставить на «Метцгера и Ко», чем на кого-то другого из брокеров, – скучающим тоном ответил Бульдог, покачивая в руке бокалом с янтарной жидкостью.
– Метцгер? Я бы не доверяла… – скептическим тоном ответила мама, её брови слегка приподнялись. – Увидите, он тот ещё обманщик.
Кто такой Метцгер, что такое брокеры и почему этот человек обманщик, я так и не понял. Мама, увлечённая разговором, даже не отвлеклась на меня, и я снова обратил внимание на коробку.
Она продолжала так же гордо стоять на столе, словно королева бала, ожидающая своего выхода. Огромная, тяжёлая, очень красивая и примечательная, она манила к себе, будоража воображение и разжигая любопытство. Интересно, что бы там могло быть?
Может, велосипед, о котором я так давно мечтал, чтобы мчаться на нём по аллеям нашего парка, обгоняя ветер? Или армия оловянных солдатиков, с которыми можно было бы устраивать настоящие сражения на полу в детской? А может, железная дорога, о которой я мечтал весь год и не раз говорил всем, даже прислуге, представляя, как маленькие паровозики будут мчаться по рельсам, унося мои фантазии в далёкие миры?
И вот, родители, будто заметив мои треволнения и нетерпение, подошли к коробке. Отец, деловито насупившись, с видом исключительной торжественности достал ножницы.
– Я хочу видеть здесь всех моих детей. Микаэла, Ганс и Адам, – провозгласил отец, и его голос, обычно строгий и сдержанный, сейчас звучал необычайно мягко и торжественно.
Я почувствовал, как мама берёт меня за руку и ведёт к столу, и сердце моё в тот момент разрывалось от предвкушения. Насколько же великолепной должна быть эта железная дорога, что все с таким интересом собрались на неё посмотреть? И я понял, насколько я счастливый ребёнок, что мне дарят такие игрушки, о которых другие дети могут только мечтать.
Отец разрезал ленту, и все встали ещё кучнее прежнего, желая поскорее прикоснуться к тайне, скрытой в коробке, и разделить радость момента со мной.
– Альберт, что ты из всего делаешь интригу и шоу? – вздохнула мама, закатывая глаза, и я мысленно поддержал её, потому что мне не терпелось поскорее заполучить свою железную дорогу и отправиться в увлекательное путешествие по миру игрушечных рельсов и станций.
Я оглядел толпу. Все стояли с исключительно благоприятными, слегка натянутыми улыбками, изображая заведомое удивление. Даже скрипачка в углу зала на мгновение прервала свою мелодию, боясь помешать торжественности момента.
Бросив на маму долгий, красноречивый взгляд, полный немого укора, отец с важным видом поднял крышку коробки, и я, не в силах сдержать волнение, зажмурился, ведь дедушка всегда говорил, что терпение вознаграждается.
– Адам, иди скорее, читай, – сказал отец, желая похвастаться перед гостями тем, что я в своём возрасте уже преуспел в чтении по слогам. Разве нужно читать железную дорогу? Или это настоящий договор с домом игрушек, который нужно подписать перед тем, как отправиться в путь?
Я открыл глаза, и тут же мой взор устремился к коробке. Вопреки ожиданиям, там лежали всего несколько предметов: шкатулка из тёмного дерева, украшенная резьбой, подзорная труба, блестящая медными деталями, и листок бумаги, исписанный незнакомыми буквами.
– Читай—читай, Адам, – улыбнулась мама так широко, что её глаз почти стало не видно, и я почувствовал, как её рука слегка подталкивает меня вперёд.
Ганс и Мичи смотрели на меня неотрывно, с какой—то насторожённостью, будто я представлял угрозу их маленькой семье, хотя был её частью, как и они.
Я подошёл к коробке, взял листок под умиляющиеся взгляды гостей, затаивших дыхание в ожидании моего выступления, и начал читать, с трудом складывая буквы в слова:
– До—го—вор ку—пли – про—да—жи. Дан—ный до—го—вор гла—сит, что, с э—то—го дня ос—тров Фра—нца… – я смочил рот, потому что читать было тяжело, и я ничего не понимал.
– Ост—ров Фра—нца—Ла—вре—нтия со всем со—дер—жи—мым, а им—ен—но с зам—ком Луи—Вер—саль при—над—леж—ит тро—им по—том—кам Кес—слер: Ми—ка—эле Кес—слер, Ган—су Кес—слер и Ада—му Кес—слер.
Я поднял глаза, чтобы посмотреть на членов своей семьи. Каждое лицо выражало радость, удивление, даже восторг. Вот уж потеха! В день рождения одного дарить подарки всем. Но я смолчал об этом, поскольку родители воспитали меня не капризным мальчиком, а дед и вовсе учил быть бойцом, умеющим принимать любые вызовы судьбы.
Почему я вспомнил именно этот день из детства? Потому что это воспоминание всегда чётко отображало мою роль в семействе Кесслер – роль статиста, наблюдателя, а не главного героя. Ты учил меня, дедушка, что терпение вознаграждается, только вот, ты упустил один важный момент. Вознаграждается только то терпение, когда к цели приложена собственная рука, воля, упорство. Но цель, созданная другими людьми, даже самыми близкими, пройдёт только мимо, неважно, сколько терпения к ней приложено.
Запись 2
Завести этот дневник меня побудила внутренняя, почти маниакальная любовь к наблюдениям, к фиксации мельчайших деталей окружающей действительности. Ведь память – вещь коварная и изменчивая: чтобы запомнить что—то новое, надо забыть старое. А я хочу детально отобразить всё, что происходило и происходит в моей семье, в моей жизни, будто бы создавая точный слепок ускользающего времени.
Недавно умер Эдвард Кесслер, патриарх нашего семейства, человек с железной волей и ледяным спокойствием. Он полностью передал своё наследство – движимое и недвижимое, материальное и духовное – во владения моему отцу Альберту, как бы передавая ему эстафетную палочку в бесконечном марафоне главенства. Я бы не сказал, что с господином Кесслером мы были в идеальных отношениях. Он никогда не лицемерил со мной, был по—военному прямолинейным, говорил правдву в глаза и ругал исключительно за дело, но я не мог открыться ему полностью. По каким причинам… Сам не знаю. Возможно, между нами стояла невидимая стена из разных поколений, и, соответственно разных взглядов на мир.
Он умер тихо, без стонов и жалоб, в своём любимом кресле напротив камина, снова зачитавшись до поздней ночи французскую книжку, точно в последний раз погружаясь в мир изящной словесности и философских размышлений. Никто из нас не шумел, не рыдал навзрыд, не рвал на себе волосы от горя. Все мы были готовы к этому исходу, поскольку дедушке стукнуло уже за восемьдесят лет, и его жизнь, подобно старинным часам, отсчитывала свои последние секунды.
Слуги, с печальными лицами обмыли старика, одели на него саван, готовя его к последнему путешествию, и до самого утра отец не отходил от него, молча сидя рядом, охраняя покой ушедшего командира. Может быть, он вспоминал все те дни, когда Эдвард дарил ему отцовскую ласку или же порол до боли в рёбрах, вкладывая в него силу духа и непоколебимую дисциплину.
Восприимчивая к темам смерти и похоронных процессий Мичи, заперлась в своей комнате с Гансом, и он долго убаюкивал её на своих коленях, точно маленького ребёнка, читая ей стихи и романы, отвлекая от мрачных мыслей и наполняя её душу красотой и гармонией.
Мама появлялась редко, и напоминала приведение, блуждающего по коридорам дома. Она как бы пряталась от неизбежности судьбы. Я видел её в кабинете отца, согнувшейся под бледным светом свечи, читающей документы, на остальное отвлекаться, видимо, ей не хотелось. Она обхватила голову руками, так что едва было видно её бледное, измученное лицо, точно она пыталась удержать в себе всё то горе и отчаяние, которые грозили разрушить её изнутри. (Или мне так казалось)
Я же шагал по дому туда—сюда, из комнаты в комнату, всё снова и снова возвращался к телу, точно магнитом притягиваемый к эпицентру скорби. Пару раз заставал отца, спящим на собственной руке, прижатой к холодному боку гроба, будто бы он пытался передать часть своего тепла ушедшему отцу. Я никогда не был суеверным или верующим в полном смысле этого слова, но почему—то всё ожидал, что дедушка резко откроет глаза, будто пробуждаясь от тяжёлого сна, или сядет в гробу, озираясь по сторонам с недоумением, или выглянет в дверной проём из тёмного коридора, как бы проверяя, все ли на своих местах. К его комнате я и вовсе боялся подходить, точно там таилась какая—то неизвестная опасность, чтобы не услышать его бормотание, шелест страниц документов или странные скрипы старой мебели.
Необъяснимое ощущение пустоты и нереальности повисло в воздухе, будто мир вокруг потерял свои привычные очертания. Его энергия ещё не покинула дом, она витала в каждом уголке, в каждой вещи, которой он касался ещё пару часов назад: в кресле, где он сидел и изредка покачивался, как бы убаюкивая свои мысли; в книгах, что он читал; в картинах на стенах, которые он так долго и внимательно. Всё вокруг было наполнено ожиданием, что он сейчас спустится со второго этажа в своей бархатной робе и сядет в кресло снова, возьмёт в руки книгу и продолжит своё чтение. Но потом мой взгляд возвращался к неподвижному мертвецу в гробу, и я тягостно вздыхал, осознавая необратимость происходящего.
Так прошла первая ночь, полная тяжёлых мыслей и неопределённых предчувствий. На следующий день приехали знакомые и друзья семьи, чтобы отдать последнюю почесть ушедшему патриарху. Поскольку была зима, и дорога до церкви была засыпана снегом, священника решили пригласить в дом. Под двадцатиминутное отпевание, полное церковных песнопений и молитв, нам был дан шанс проститься с с любимым Кесслером в последний раз, поцеловав его холодный лоб. И в этот момент бедняжка Мичи, не выдержав напряжения и горя, потеряла сознание, подобно огоньку на тоненькой свече, погасшему от порыва ветра. Я внимательно наблюдал за толпой скорбящих, их лица были искажены масками печали и сочувствия, в том числе и за матерью, которая лишь нервно дёрнула пухлыми, будто нарисованными, губами, как бы скрывая свои истинные чувства под маской неприступности.
Клэр Кесслер, моя мать, графиня фон Ведель, терпеть не могла, когда на публике кто—то из нашей семьи попадал в неловкие ситуации, точно это было личным оскорблением её безупречной репутации. Будь то выбившаяся прядь из косы Мичи, неровный воротничок Ганса, или, что было чаще всего, перепутанные по детской глупости комнаты или коридоры в нашем огромном доме. Контроль был для матери всем, её стихией, её религией. Всегда строгая, требовательная, всегда державшая руку на пульсе, она впадала в быстрое разочарование в нас от малейшей ошибки и от любого отклонения от её идеала. Мы должны были быть куклами, фарфоровыми статуэтками в её коллекции, без единого пятнышка и царапины. Мы не должны были громко пить чай или есть ягоды исключительно так, чтобы на губах не оставалось ни одного пятнышка от сока. Я представляю, как она торопливо проходила мимо меня, морщась от отвращения, когда я, будучи малышом, подобно варвару, с пятнами от каши на щеках, требовал от служанки новую ложку. Дедушка рассказывал, что мама не брала меня на руки в младенчестве, в страхе, что я срыгну на её дорогой кашемировый платок.
Я расписал всё это так подробно, чтобы в дальнейшем внимательно наблюдать, как она безжалостно будет отчитывать мою сестру за её обморок, едва только мы вернёмся домой с похорон. Её гнев будет страшен, как гроза, её слова – остры, как кинжалы. Мичи придётся несладко.
Священник, закончив отпевание, перекрестил гроб, обшитый чёрным сукном, напоминающим ночное небо. Крепкие, широкоплечие носильщики из слуг молча подняли гроб, мысленно прощаясь со старым хозяином, который всегда относился к ним совсем неплохо. Они ещё полностью не встретились с контролирующей натурой матери, вступающей в хозяйки дома с этого дня, но доводилось мне часто слышать перешёптывания слуг, что графиня фон Ведель – та ещё демоница в юбке, способная превратить жизнь своих подчинённых в ад.
Моё перо скрипело по тонкому пергаменту, оставляя за собой извилистый след чернил. За окном стыдливо пряталось солнце, и серые сумерки, шалью, окутывали старый особняк. В воздухе ещё витал горьковатый запах ладана и воска, ставшими эхом ушедшего дня. И я, принюхавшись, снова погрузился в воспоминания.
Итак, моё прощание оборвалось резко. Костлявые, узловатые пальцы приходящей учительницы Ирмы Хомбург, похожие на ветви старого дерева, сомкнулись на моих плечах, увлекая в душную тишину кабинета. Там, среди тяжёлых шкафов и пожелтевших страниц, меня ждал холодный мрамор немецкой поэзии – «Ночная песнь странника», которую я должен был декламировать, несмотря на тяжесть, давившую на сердце.
Учёба стала для меня спасением в траурном доме. Книги распахивали передо мной двери в иные миры, где герои сражались, любили и страдали, философы освещали запутанные тропы бытия, а психологи шептали на ухо, что одиночество – не приговор, и любовь к себе – единственный маяк во тьме.
И пока я, склонившись над листом, выводил буквы, в доме, как я и предчувствовал, разыгрывалась буря. Мама, сдерживавшаяся при посторонних, теперь сорвала с лица маску равнодушия, и обратилась в разъярённую гарпию, обрушив свой гнев на Микаэлу.
Слова долетали до меня обрывками. «Зачем пошла на прощание, если знаешь, что падаешь в обморок?!» – голос звенел, как церковный колокол. «Но это мне неподвластно…» – тихо отвечала Мичи, её же голос дрожал, как тонкая ножовка от лишнего движения. «Ты отвратительная мерзавка!» – взревела мать, ожидая, видимо, покорного молчания. Но Микаэла с пламенным сердцем, вновь и вновь бросала в лицо матери горькое «Я ненавижу Вас!», пытаясь пробить броню маминого равнодушия.
Резкий шлепок рассёк тишину, а затем раздался грохот. Нет, Мичи не упала. Это был Ганс, ворвавшийся в комнату, чтобы защитить свою любимую погодку. «Убирайтесь, мама! То, что папа получил наследство, ещё не значит, что вы тут единственная владычица! Убирайтесь, я вам говорю, и никогда больше не трогайте Мичи!» – его голос гремел, как гром, перекрывая рыдания Микаэлы, умевшей доводить любую драму до трагического апогея.
Я слушал, чувствуя, как щеки горят от неловкости и стыда. Но вскоре неловкость отступила, уступив место другому чувству. Разве не затем я и веду этот дневник, чтобы запечатлеть не только факты, но и эмоции, что они вызывают? И я бы солгал, если бы сказал, что во мне ничего не дрогнуло, когда мать ударила Микаэлу. Я был бы чёрствым камнем, если бы не встал и не пошёл к ней, движимый детским сердцем, полным любви и сострадания.
Я нашёл их в комнате Мичи. Она сидела на кровати, утонув в объятиях Ганса, её рыжие локоны, растрёпанные после пощёчины, лежали на его руке, пока он нежно гладил её хрупкую спину. «Ох, Ганс, за что она так жестока со мной?» – всхлипывала Мичи. «Ей удачная сделка с каким—нибудь банком намного важнее родных детей, Мишель, пора к этому привыкнуть» – горько ответил Ганс. «Она тебя любит, а меня ненавидит. Она занимается с тобой французским, а я…а я..?!» – жаловалась сестра, и её слёзы катились по веснушчатым щекам
В этот момент Ганс заметил меня. Его тело напряглось и сжалось пружиной, он застыл, превратившись в изваяние из плоти и крови. Мичи оторвалась от него и повернула ко мне голову. В её глазах, красных от слёз, я прочитал немой вопрос… и ещё что—то, может быть презрение.
– Что тебе здесь надо, Адам? – резкий, как пощёчина, голос Ганса заставил меня вздрогнуть. Он выделил моё имя, и всегда его очень сильно выделял, даже с издёвкой. – Ты разве не помнишь, что я говорил тебе: никогда не посещать наши комнаты.
Его худощавая фигура заслонила собой проем двери, и я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Мичи сидела на кровати, с поджатыми ногами, обхватив себя руками, и дрожала бледная в надвигающейся панике. Её лицо, красное от слёз, исказилось в злобе, и когда она заговорила, её голос завибрировал от ненависти:
– Иди доложи мамочке, как я тут плачу и страдаю! О—о—о, мне не описать словами, как я тебя ненавижу! Извечно всего добиваешься! Но теперь твои праздные деньки кончились! Дедушка умер и тебя больше никто защищать не будет! Тебя хоть раз они били? Хоть шрамик на твоём уродском теле есть?!
Она вдруг вскочила с кровати и бросилась ко мне, пальцами вцепляясь в мою рубашку и сжимая ткань и кожу вместе с ней до боли. Я попытался освободиться, но она трясла меня, как тряпичную куклу, круглые глаза горели зелёным едким безумием.
– Ты не права, Мичи, – тихо сказал я, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри всё кипело от гнева.
– Не права? В чём? Опровергни, ублюдок! – она сжала мою сорочку ещё сильнее, её дыхание обжигало мне лицо. Челюсть Микаэлы тряслась, и заметив моё замешательство, её хозяйка плюнула мне прямо в лицо.
Я молчал, чувствуя, как воздух застревает в горле от обиды. И тогда вперёд выступил Ганс. Он подошёл ко мне вплотную, его взгляд был холодным и презрительным, таким же взглядом он смотрел на насекомых, не достойных даже внимания. Мичи засмеялась, её смех был похож на звон разбитого стекла, он резал слух и заставлял меня съёживаться от отвращения и ужаса. Я с остервенением стёр с себя сестринскую слюну, платком, вытащенным из кармана, и бросил этот платок через Ганса, прямо ей в лицо.
– Ты ничем не лучше неё, – сказал я, наконец обретая дар речи, и мой голос звучал ровно и жёстко, как сталь. – Ты – полная копия матери, считающая своё состояние высшим проявлением благодетели и различия. Ты также, как и она, считаешь собственное эго превыше чувств других, и поэтому ты, дорогая Мичи, сталкиваешься с матерью. Потому что она слишком любит и жалеет себя, а ты – себя.
В тот же миг меня грубо оттолкнули, и я вылетел за дверь, словно ненужный сор. Дверь захлопнулась с грохотом, оставляя меня наедине с пульсирующей болью в груди и горьким ощущением обиды.
Рука дрожит, выводя неровные строчки, и в голове снова и снова звучат обрывки разговора, раскалённого до предела ненавистью и отчаянием. Я ненавидел эти скандалы, бесконечную ненависть, которая пропитала каждый уголок нашего дома. Я хотел лишь тишины и покоя, но в этих стенах их не было, и я чувствовал себя чужим, затерянным и ненужным.
Запись 3
Люди, взращённые в шелках излишеств и роскоши, воспринимают мир сквозь призму привычной красоты. В окружении совершенства, любое отклонение от идеала кажется не просто несовершенством, а уродством, обрекая его на изгнание в тёмный ящик с яркой надписью «Гадкий утёнок».
Чтобы отфильтровать мутную жидкость, достаточно сложить бумажный лист в конус, опустить его острием в пробирку и ждать. На пористых стенках останется весь осадок, а в пробирке заблестит чистая, прозрачная субстанция, соответствующая всем требованиям эстетики.
Недаром я сравнил Мичи с матерью. Обе требовательны, хоть и с разными приоритетами. Для матери важна чистота и культурность, а Мичи жаждет окружить себя исключительно красивыми людьми.
Как же оценить себя в этой системе координат? Все твердили, что я – копия отца и бабушки. От отца мне достались густые чёрные волнистые, как у испанца волосы, бледная фарфоровая, кожа и большой, прямой нос, острым кончиком, слегка загнутым вниз, из-за него я заслужил у родственников прозвище «Воронёнок». От бабушки – глубокие, тёмные озера карих глаз, худощавое телосложение и улыбка, редкая и нежная.
Прозвище определило мой вкус. Я одевался в тёмные тона, намеренно подчёркивая свою инаковость на фоне ярких, как тропические птицы, брата и сестры. Впрочем, вряд ли они замечали мой мрачный гардероб. Их интересы вращались в совершенно другой орбите.
Сегодня я гулял в саду. Вчерашний снег укрыл мир пушистым, белым одеялом. Деревья, окутанные снежными шалями, горделиво выставляли напоказ кружевные узоры на своих ветвях. Дом, обведённый тонким, белым контуром, казался сказочным теремом, с окнами и верандой выделяющимися на снежном фоне с особой выразительностью. Под ногами тихо похрустывал липкий, мокрый снег, его поверхность, тронутая солнечными лучами, вспыхивала золотистыми искрами.
Я вспомнил, как однажды, в гостях у папиной кузины Юдит Штибер, её четверо детей, звонко смеясь, катали по саду снежные шары. Снег налипал, превращая небольшие комки в огромные глыбы.
– Ноги готовы! – крикнул старший сын Юдит, Хайо, и вместе с братом Гербертом они покатили гигантский шар, размером чуть ли не с них самих, к старому дубу.
Настала очередь девочек. Аннелиза и Хелла усадили на санки «туловище» – шар поменьше, – и повезли его к братьям, которые уже приставили к «ногам» лесенку.
– Хелла, милая, поищи украшения, и обязательно возьми шарф у бабушки! – скомандовал Герберт, водружая «туловище» на «ноги».
Детский смех был настолько заразительным, что я невольно улыбнулся.
– Воронёнок, не стой там! – раздался властный голос маленькой Хеллы.
– Я? – удивлённо переспросил я, чувствуя себя совершенно потерянным. Разве я существую в этом мире лишь для того, чтобы кто—то другой отводил мне роль в своей игре?
Конечно, я не стал озвучивать свои мысли, не желая омрачать детскую радость. Я лишь растерянно хлопнул ресницами, глядя на Хеллу, её лицо, розовое от мороза и смеха, казалось сияющим. Каштановые кудри выбивались из-под шапки, лихо сдвинутой набекрень, пальто и варежки были в снегу, а шарф лениво болтался на шее. И при всем при этом она выглядела такой же грозной и властной, как дедушка Эдвард.
– Делай голову снеговику! – негодующе воскликнула Хелла, и её голос, горничным колокольчиком, прозвенел в морозном воздухе. – Или мы вчетвером должны тут надрываться?
Я поспешно натянул варежки и, скатав снежок, начал катать его по саду, формируя голову для будущего снежного исполина. Хелла тем временем увлечённо искала морковку, пуговицы и шарф, необходимые для завершения образа.
– Неси сюда эту чудесную круглую голову! – Герберт одарил меня тёплой улыбкой, и я, гордый своей работой, приблизился к ним.
Герберт был старше меня, но разница в возрасте казалась незначительной, когда он легко поднял меня на руки, чтобы я сам смог водрузить голову на снежное туловище. Я с нежностью наблюдал за юным семейством Штиберов, в чьих сердцах жила такая же безграничная любовь к зиме, как и во мне. Именно здесь, в их обществе, я чувствовал себя по—настоящему счастливым.
Тёплое воспоминание вызвало на моих губах улыбку. Тётушка Юдит и её дети были мне дороги, и порой я мечтал родиться в этой семье, познать то безмятежное детское счастье, которым они были окружены. С Хеллой мы были ровесниками, и сейчас, вероятно, она училась в гимназии вместе с Аннелизой, которая была старше неё на пару классов. Герберт, должно быть, уже поступил в военное училище, а Хайо выбрал путь науки.
Собрав в пригоршни горсть снега, я принялся лепить шар, а затем, опустив его на землю, начал катать, подражая Штиберам. С каждым оборотом снежный ком рос, превращаясь в массивные "ноги" будущего снеговика. Он вёл меня по саду, увлекая по извилистым тропинкам, а мысли мои тем временем погрузились в глубокую задумчивость. Оцепенение спало лишь тогда, когда я оказался возле беседки.
– Она хочет, чтобы я вышла замуж за Максимилиана Дресслера, – выдохнула Мичи, и её голос дрожал от напряжения.
– Зачем? – спросил Ганс, и в его голосе послышалась лёгкая нервозность. Я замер, прислушиваясь к их разговору.
– У него годовой доход пятьдесят тысяч марок. Отец его вот-вот умрёт, и он станет самым богатым человеком в Германии, – пояснила Мичи.
– Ты не выйдешь за него, – твёрдо отрезал Ганс. – Ты не выйдешь, потому что это всё разрушит.
– А ты считаешь это правильным? – Микаэла нервно усмехнулась, и в её глазах мелькнули слёзы.
Ганс опустил голову, и повисшее молчание отныне, даже мне казалось тяжёлым и давящим. Я подошёл ближе, прячась за камнями, чтобы лучше видеть и слышать.
– Вот именно, Ганс, это неправильно! Ни твои действия, ни моя реакция на них. Ты тоже должен подумать, как устроить свою жизнь. Я помню, она советовала тебе присмотреться к Аннелизе…
– Не помню! И не хочу помнить! – воскликнул Ганс, и Микаэла вздрогнула от неожиданности. – Я не воспринимаю её как мать и не собираюсь плясать под её дудку! И ты, Мичи, ты учила меня бороться, почему же ты ведёшь себя так трусливо? Неужели тебя так разволновали слова этого Воронёнка?
– Будто мне есть дело до маленького уродца, – Мичи повела плечом, отгоняя от себя неприятные воспоминания обо мне.
– Ты не она. И никогда не будешь ей, – Ганс обхватил её лицо ладонями, заставляя посмотреть ему в глаза. – Ты другая. Ты красивая, настоящая, живая, и ни одна женщина никогда не сравнится с тобой. Мишель, ты мой маяк. Я очерствею… Я погибну без тебя.
Ганс опустил руки на плечи Мичи и встряхнул её, пытаясь таким образом донести свои слова. Сестра подняла на него глаза и крепко обняла, зарываясь носом в тощую грудь.
Они стояли так ещё несколько минут, а я с ужасом смотрел на них, молясь, чтобы первое же предположение, посетившее мою горящую голову, оказалось ложным. Слишком уж горячие слова они произносили друг другу. Неправильные. Скверные.
Когда я одержу победу над собой и своими моральными принципами, то смогу беспрепятственно слушать даже самые безумные высказывания. Но я знал, что непрошенный опыт порой оказывается куда полезнее, чем любой урок.
Я не стал больше лепить снеговика. В этот раз Кесслер не смог дойти до цели. Ему нужно было всё обдумать. И то, о чем он думал, я постеснялся переносить на бумагу.
Блуждая по закоулкам нашего холма, вдыхая свежий воздух с еловыми нотками, доносившимися от пихт, выстроившихся вдоль забора, я наткнулся на сарайчик подмастерья. Из-за стен доносился звон ударов молотка по железу. Недавно я вспоминал, как мечтал о железной дороге, но родители решили, что остров мне намного нужнее. Но я стал подростком, мои силы и знания прибавились, как и понимание того, что для исполнения своих желаний в этом мире существует только я сам. И этот же самый я – единственный, кто защитит себя. Ведь, родившись без друзей в лице семьи, это единственный способ выйти в открытый океан.
Нужно лишь довести свой жизненный корабль до автоматического управления, собирая опыт, недоступный от родителей, но рождённый наблюдением за чужими ошибками и общением с теми, кто познал жизнь. Я получу свою железную дорогу, как и ту жизнь, которую жажду, – жизнь без границ, что так упорно отказывается мне даровать эта среда.
Не я стал инициатором того необъяснимого, премерзкого отношения, что обрушили на меня сестра и брат. Их взгляды, их самовоспитание – вот истинный источник. И когда я достигну желаемого, ни одному из них не позволю прикоснуться к моей жизни.
Слуга по имени Бернд, пряча папироску в уголке рта, выпрямлял молотком дверную петлю, странно изогнутую, будто сломанную пополам. Горячий воздух сарая обжёг моё замёрзшее лицо, и оно тут же заныло от холода. Маленькую войну противоречивых ощущений на щеках я прекратил, потерев лицо ладонями. Шмыгнув носом, я подошёл ближе.
– Зря суётесь, барчонок, – бросил он мне через плечо грудным, низким голосом.
– И почему же зря? – спросил я, снимая шапку и тут же отряхивая с неё налипший снег.
– Испачкаетесь, мать ругать будет, – хмыкнул он, не отрываясь от работы.
Я подошёл ближе, аккуратно выглядывая из-за его мощного туловища, закрывавшего обзор на печку. Начало щипать бедра и кожу на руках, и я понял, что начинаю замерзать от мокрого снега, пропитавшего одежду. Обойдя Бернда, я подошёл к печке и вытянул руки, пытаясь согреться.
– Она ругает не за испачканную одежду, а за то, что мы вообще появились в её жизни, – я приглушил голос, будто отвечая самому себе, но рабочий все же услышал, и я пожалел о том, что приоткрыл ему завесу тайны, знать которую ему вовсе необязательно.
– А отец? – он положил молот на чурбак и повернулся ко мне, в его глазах читалось не праздное любопытство.
Я вспомнил Альберта Кесслера, извечно отсутствующего в нашей жизни и появляющегося лишь в те моменты, когда кто—то из нас совершал нечто, выводящее из себя госпожу Кесслер. Он не был суров или жесток, но, казалось, дети не играли в его жизни никакой роли.
– Я хочу, чтобы ты научил меня, как обращаться с железом и деревом, а ещё хочу, чтобы ты научил меня физическому труду, – я не захотел отвечать на его вопрос о господине Кесслере.
– Зачем вам это? Вы же можете нанимать таких, как я, – удивлённо спросил Бернд.
– Пётр Первый, российский император, имел целое царство подданных, однако не брезговал со слугами строить корабли, – парировал я, чувствуя, как во мне закипает упрямство.
Бернд не пытался казаться тем, кем не являлся. Будучи рабочим, он знал своё место, уважал свой труд и труд других и требовал этого от всех. Поэтому его речь всегда была пропитана лёгкой надменностью. Он был прямолинейным и честным, и я убедился в этом на примере скамейки, которую мы вместе собирали. У меня вышла кривая скамейка с ножкой чуть короче остальных, и он прямо сказал мне, что такая скамейка не годится, вместо того чтобы разразиться лживой похвалой.
Я так утомился за день, что у меня не осталось сил на наблюдение за членами своей семьи. Заходя в комнату, я лишь мельком услышал странный плач матери, но не придал ему значения, зная, какой талантливой актрисой она может быть, не хуже любой театральной дивы.
Запись 4
Все моё свободное время уходило на учёбу. С утра до четырёх часов я поглощал труды великих классиков и учёных, а с четырёх до восьми меня ждал Бернд. С первого нашего занятия и до сих пор меня тревожила мысль, что я нахлебничаю за счёт его усталости, ведь платить я был не в состоянии. Долгое время я терзался этой мыслью, пока она, наконец, не сорвалась с моих губ, когда мы вместе рубили дрова.
О, клянусь, как же болели мои руки от непривычки к тяжёлому физическому труду! Но как же сладко я уставал! В эти моменты сон мой был гораздо крепче и избавлял меня от извечных семейных склок и драм.
И вот, Бернд назвал цену, которая показалась мне сущими грошами. Я должен был научить его чтению и письму.
– Вы, барчонок, дадите мне то, что знаете вы, а я вам – то, что знаю я, – объяснил он. И мы договорились, что занятия по металлу и дереву отныне будут занимать три часа, а уроки Бернда – один час.
В доме царила тяжёлая, все ещё траурная обстановка. Родители общались вполголоса, обсуждая способы нового вложения большого состояния и возможности обрести ещё более влиятельных друзей. Возвращаясь домой с охапкой маленьких железных реек, выкованных в мастерской, я стал невольным свидетелем их разговора. Отец сидел спиной к дверям, у которых я замер. Он расположился в дедушкином кресле, напротив камина, и пил чай, держа блюдце на весу и периодически опуская на него кружевную чашку. Мама вышивала, но находилась чуть поодаль от отца. Я стал замечать, что они не так уж часто взаимодействуют друг с другом, как любящие супруги. Раньше я этого не замечал, а теперь почему—то стал присматриваться. Нет, не то, чтобы я заострял своё внимание на проявлениях любви, и, быть может, они просто стеснялись слуг, но в памяти возникал образ Юдит и её мужа Эрнста, как они сидели в обнимку около очага и как она болезненно переживала его смерть. А может, мои родители были просто компаньонами по жизни, не знающими, что такое нежность? В любом случае, они ссорились реже, чем мама и Мичи.
– Ты знаешь, Альберт, – мама оторвалась от полотна, и в её голосе послышались новые, деловые нотки. – Я узнала, что сейчас развивается новое направление, и развивается оно очень быстро.
– О чем ты? – отец оторвал взгляд от тлеющих углей, и в его голосе послышалось ленивое любопытство.
– Об автомобилях, – мать подалась вперёд, и в её глазах загорелся азартный огонёк. – Ты только представь, купить завод сейчас за небольшие деньги, нанять мастеров и со временем стать лидером на рынке! Это же золотая жила!
– Не сомневаюсь, что твой любимый Салуорри уже выкупил всё, начиная с восемьдесят пятого, – саркастично усмехнулся отец, и в его голосе прозвучала неприкрытая издёвка.
– Не смей вспоминать этого ужасного человека! – вскрикнула мать, и её голос прорезал тишину комнаты.
Дьявол был одним из самых полезных знакомств для моих родителей, вот только он никогда не желал иметь дел с Кесслерами. Он был для всех старых графов и баронов бельмом на глазу, ведь как это, сын, доведший имущество отца до разорения, вдруг резко поднял его на огромные высоты, отбирая имущество у тех, кто над ним насмехался. Трое друзей матери потеряли все в схватке с ним. Вызывал он ажитацию не только своими сокрушительными успехами, но и самим именем. В слое верующих богачей вскоре начали ползти слухи о том, что Дьявол – это не просто ироничное прозвище, а самый настоящий властитель Ада. Дочь банкира Баумгартнера – так звали известного бизнесмена—монополиста была его женой и вела дела покойного мужа ничуть не хуже его самого. При этом она растила маленького наследника – Альберта Салуорри и по всем документам являлась его представителем.
Сколько раз мои уши касались маминых рыданий из-за него и его семьи! Какими только эпитетами она его не награждала! В итоге она считала себя его непримиримым врагом и отказывалась слышать любое упоминание о всём их семействе. Но, думаю, тайком она все—таки наблюдала за его успехами, ведь нужно держать врагов близко.
– Мне неважно, чем это семейство владеет, – мать дёрнула подбородком, и в её голосе зазвучала сталь. – Но, если я сказала, что у нас будет автомобильный завод, значит, он будет!
Большие синие глаза матери сделались ещё круглее и шире, будто она уже вообразила себе отказ отца, который, кажется, отказываться и не собирался, но она быстро успокоилась, снова отвлёкшись на вышивку.
Стараясь не звенеть железом, я поднялся в свою комнату и теперь сидел за столом, записывая то, что услышал. Читая эти записи, можно понять, что моя семья не отличается болтливостью друг с другом, поскольку кто—то привык растрачивать лексические извержения на партнёров, а кто—то – оставлять их на бумаге. Мне хватает диалогов с учителями, а те, с кем я возжелал бы вести бесконечные беседы обо всем на свете, либо мертвы, либо находятся далеко.
Теперь о важном. Я сегодня набрал нужные балки уменьшенного размера для создания цепи железной дороги, проходящей по периметру моей комнаты. В мастерской я выкрасил их в черный цвет и теперь буду соединять их со шпалами. Их я напилил предостаточно. На каждой балке я сделал надрезы и выгнул их под нужное, точное расстояние шпал. Я закреплю их на винтики; для этого из мастерской я взял отвёртку. Нужно полностью или частично освободить пол от всей мебели, чтобы я смог прикрепить рельсы к паркету.
Я загорелся новой идеей, и теперь мне не терпится её воплотить. У меня даже рука дрожит от предвкушения!
Запись 5
Долго же я здесь не писал. Слишком плотный график у меня образовался. Да и в доме было тихо: две недели Ганс гостил у Вайсманов, это его друзья и родительские, о которых я мало что знаю, родители были заняты покупкой автомобильного завода, а Мичи нашла нового друга в лице Максимилиана Дресслера. Видимо, она увидела в нем что—то «симпатичное», раз подпустила ближе, чем на метр. Из библиотеки доносился смех и бодрые разговоры о вкусах, философии, музыке и прочем, что интересовало бы девушку нашего времени.
Подслушивая их, я заметил, что Мичи не говорит ему того же, что говорит Гансу, рассуждая о вкусах. Ганс знает, что она любит Гомера, Данте и Шекспира, но для Дресслера Мичи внезапно полюбила Дюма, Шелли и Золя. Маленькая борчиха за женские права внезапно оказалась традиционалисткой и почитательницей архаичного патриархата, с радостью обсуждая с Дресслером место женщины в доме. И здесь не нужно быть гением мысли, чтобы понять: все делалось исключительно специально, для того чтобы потом говорить Гансу: «Вот видишь, я не могу быть с ним искренней, как с тобой».
Чем больше я наблюдал, тем сильнее находил в ней то, о чем читал. Мичи импульсивна, при этом капризна и своенравна. Взбалмошная, неуправляемая натура, любящая выводить всех из себя. Она любит держать Ганса в извечном эмоциональном напряжении, а он боится сказать ей лишнее слово, зная, как сильно может её обидеть. Мичи ветрена, это проявляется в её поступках. У неё непостоянное поведение, она не любит доделывать свои дела и быстро меняет увлечения. В том числе увлечения людьми. Она прекрасный манипулятор, но, в отличие от матери, не такой опытный. Если бы Клэр была немного проще, Мичи крутила бы ею, как хотела.
Своим соблазнительным поведением и милым личиком она приманивала к себе внимание Максимилиана. Её умение смущённо посмотреть из-под полуопущенных ресниц, покраснеть, кокетливо улыбнуться, казалось, не оставило Дресслеру никаких шансов, и, кажется, он бесповоротно влюбился в неё. Если все происходит так, как я думаю, мне жаль его.
Бернда сегодня не было, и я весь вечер провёл у камина в гостиной за чтением греческой мифологии. Я и не заметил, как на моё плечо опустилась рука Мичи, бездельно слонявшейся по дому.
– Ты меняешься, – сказала она, садясь на подлокотник кресла и заставляя меня убрать книгу. – Стал молчаливее, я тебя почти не вижу в доме.
В памяти до сих пор была жива та шуточная истерика, перепугавшая меня до дрожи в руках. Она проявлялась каждый раз, когда я смотрел на эту несносную девицу.
– В этом особняке природа прекраснее людей, – устало выдохнул я. – Я предпочитаю, чтобы она составляла мне компанию, чем кто—либо из вас.
– Адам, ты очень несправедлив, – возразила Мичи, и в её голосе послышалась обида. – Мы с Гансом любим тебя, просто, понимаешь, мы всегда были вместе, с самого детства, а ты намного моложе нас. У нас сложились общие интересы, темы для разговоров, и даже… – Микаэла понизила голос до шёпота, – …и даже сплетни. Разве тебе будет интересно слушать про то, какие у Аннелизы дурные уши?
Мичи небрежно поправила сползающий с округлых плеч платок и посмотрела на меня с той нежностью, что всегда оставляла моё сердце равнодушным.
– У Аннелизы хорошие уши, – ответил я, глядя в сторону окна, словно высматривая там что—то более интересное.
– Вот видишь? – в её голосе проскользнула горечь. – Мы слишком по—разному смотрим на мир. – Рука Мичи потянулась к моим волосам, но я отстранился, словно от крапивного куста. Не смутившись, сестра тут же обняла меня, крепко прижав к себе.
Я оставался бесчувственным к её объятиям и улыбке, просто наблюдал за разыгрываемой на сцене пьесой. Полотна великих мастеров вызывали во мне куда больший трепет, чем родная сестра. Единственное, чего я желал в этот момент – вырваться из её объятий и оказаться как можно дальше.
– Нельзя быть таким дикарём, Адам, – Мичи не убирала руку с моего плеча, – Скажи мне, что ты чувствуешь к матери?
– Ничего, – ответил я резко, – Впрочем, как и ко всем вам. Вы для меня не более чем мебель – вот эта софа или книжный шкаф в кабинете.
– Это слишком жестоко для двенадцатилетнего ребёнка! – воскликнула Мичи, и в её голосе послышалось искреннее возмущение.
Она собиралась что—то добавить, но дверь распахнулась, и в комнату вошла мать. Её густые каштановые косы уже были распущены, и на ней была лишь одна длинная нательная рубаха. Её, казалось, нисколько не смущал собственный вид. Я же, не желая видеть её такой, тут же уткнулся в книгу, делая вид, что увлечён чтением.
– Письмо получила от Юдит, – начала она, не обращая внимания на моё демонстративное безразличие. – Она собирается приехать в гости с дочерями, Хеллой и Аннелизой. Только их нам здесь и не хватало! Впрочем, малышка Хелла не так уж и дурна. Видит Бог, она станет чудесной женой для Ганса, – мать всплеснула руками, затем сложила их на груди. Я почувствовал, как напряглась Мичи, стоявшая рядом со мной.
– Вы хотите женить его на Хелле? – возмутилась она. – Но она же ещё совсем ребёнок!
– Всего—то каких—то три года подождать… – отмахнулась мать, опускаясь на софу и раскрывая книгу. – Да, рановато, но ничего страшного.
– Почему Хеллу нельзя выдать замуж за Адама? – Мичи повернулась ко мне, и я, подняв глаза, увидел, как она побледнела.
– Потому что Адаму мы найдём другую невесту, – ответила мать, не отрываясь от чтения.
– А почему тогда не Аннелиза? – не унималась Мичи.
– Потому что она обещана другому человеку, – отрезала мать, перевернув страницу.
– Разве у Аннелизы не дурные уши, Мичи? – спросил я тихо, так, чтобы мать не услышала.
Губы сестры скривились, будто она только что обнаружила в тарелке с супом мерзкую гусеницу. Но она всё ещё не отстранилась.
– Ну что ты такое говоришь? – Микаэла выдавила из себя смешок. – Это же просто шутки.
Наши невидимые препирательства нисколько не интересовали мать, полностью поглощённую чтением. Она уже решила судьбы своих детей, поставив очередную галочку в списке важных дел, которые следовало выполнить.
– Ты поправилась, Мичи, – мать оторвалась от книги, и её взгляд, острый и оценивающий, скользнул по дочери. – Тебе необходимо похудеть. Видишь, платье уже облегает. Максимилиан не любит толстых женщин, – она покачала головой, и в этом жесте сквозило явное неодобрение. – Уксус пей, а то совсем зарумянилась. И зонтик надо заказать, чтобы на солнце не перегревалась. И ты не улыбайся, Адам, – взгляд матери переместился на меня. – Ты тоже странно почернел. И что это за груда мусора в твоей комнате?
– Моё увлечение, в котором нет места женщинам, – я усмехнулся. Нет, дело было не в том, что я был против женщин. Просто это был единственный способ избежать долгих и нудных разговоров о моём новом пристрастии.
– Вот как… – губы матери дрогнули, затем уголки их бессильно опустились. В отражении оконного стекла я видел лицо сестры, довольной моим ответом.
– Вы правда считаете, маменька, что Максимилиан – самая подходящая партия для меня? – спросила Мичи. И спрашивала она не по глупости, а для того, чтобы мать дала твёрдый и однозначный ответ.
– Да, считаю, – отрезала мать. – Максимилиан – серьёзный человек, и он будет держать тебя в ежовых рукавицах. Может быть, тогда ты, наконец, станешь серьёзной и не опозоришь нашу семью.
– Нашу семью, матушка, позорят только ваши заискивания перед людьми богаче вас, – возразила Мичи, и в её голосе зазвенела сталь. – Госпожа Салуорри верно сказала.
– Бог наградил госпожу Салуорри за её мерзкий язычок, – лицо матери исказилось от гнева. – Он воспитал её во мраке, лишив самого дорогого. И я очень жалею, что в своё время не приложила должного усердия к твоему воспитанию, и ты выросла такой безобразницей! Но, если ты думаешь, что я стерплю твою дерзость…– мать отбросила книгу и резко поднялась с софы. Она позвала Гидеона, нашего старого мажордома. Впервые я увидел в ней столько ярости, столько презрения в её глазах. Она быстро и уверенно преодолела разделявшее нас расстояние и, схватив Мичи за волосы сильными, по—мужски крупными руками, повалила её на пол.
– Да как ты посмела, мерзавка?! – закричала мать, и её голос сорвался на крик. – Думаешь, если тебя однажды защитил Ганс, я не доберусь до тебя? И он впредь получит за свой острый язык! Какая избалованная дура выросла! Я к ней со всем человеческим отношением, выбрала ей самого лучшего, молодого и красивого жениха, а она дерзить посмела! – мать таскала Мичи по полу, как тряпку. Лицо сестры стало пунцовым, она могла лишь беспомощно водить руками по воздуху, пытаясь оказать хоть какое—то сопротивление. Мать, несмотря на свои тридцать семь лет, была в самом расцвете сил. Я же, не вмешивался в конфликт, лишь безмолвно наблюдал. Читатель, что однажды найдёт мой дневник, может осудить меня за такой подход, но моя позиция – наблюдателя, а не участника шекспировских трагедий.
И в этот момент я снова увидел, насколько похожи они между собой, хотя обе упрямо избегали этого сходства. Обе нападали, как кошки, дождавшись, когда добыча потеряет бдительность. У Мичи начался приступ истерии, и только тогда мать её отпустила, медленно отступая, тяжело дыша.
Гидеон не приходил, но матери, кажется, уже было неважно. Гостиная, ещё мгновение назад наполненная лишь тяжёлым дыханием матери и приглушенными всхлипами Мичи, вдруг взорвалась пронзительным, нечеловеческим криком. Это был не плач, а именно крик – дикий, перерастающий в хрип, из самых глубин израненной души вырвался наружу весь накопленный гнев на мать, из-за жалости её положения. Этот крик отражался от стен, множился, превращаясь в нестерпимый гул, от которого закладывало уши. К нему примешивались рыдания, прерывающиеся заиканием, невнятные обрывки слов, проклятия, обращённые то ли к матери, то ли к жениху, то ли к жестокой судьбе. Бессвязная речь, полная негодования, звучала как латинское заклинание. В сумбурной несусветице угадывались обвинения, упрёки, проклятия, но все это было так перемешано, так искажено истерикой, что разобрать отдельные слова было практически невозможно. Мать, ещё мгновение назад торжествующая победительница, застыла на месте, её глаза округлились от неожиданности и испуга. Она явно не ожидала такой ужасной реакции на свои, казалось бы, вполне разумные доводы. Мичи металась по полу, её тело извивалось, как у подстреленной лисы. Она впивалась ногтями в дорогой паркет, оставляя на нем глубокие царапины, брыкалась, отбивалась от попытавшихся приблизиться слуг, не подпуская к себе никого. В её глазах плескалось безумие, а лицо было искажено гримасой самого страшного безумия.
– Пустите ко мне Ганса! – кричала она, захлёбываясь слезами и слюнями. – Мне нужен Ганс! Ганс!
Едва на пороге показались испуганные лица слуг, мать, все ещё тяжело дыша и пылая гневом, резко прервала свою тишину. Её голос, хотя и слегка охрипший, звучал властно и беспрекословно. Она отдавала распоряжения отрывисто, чётко, как полководец на поле боя, не терпящий никаких возражений.
– Заберите её! – кивнула она в сторону Мичи, которая все ещё билась в бешенстве – Немедленно унесите наверх! И прежде… – она на мгновение замолчала, словно подбирая наиболее подходящее наказание, – Окатите ледяной водой. Как следует!
Слуги, привычные к подобным сценам, немедля ни секунды, бросились исполнять приказ. Двое крепких лакеев, стараясь не причинить Мичи боли, но и не давая ей вырваться, подняли её с пола. Сестра все ещё вырывалась, кричала, но её голос уже не был таким пронзительным, он слабел с каждой секундой, шторм истерики начинал понемногу утихать. Третий слуга уже спешил следом, неся тяжёлое медное ведро, из которого валили клубы пара, смешиваясь с морозным воздухом, проникавшим в дом. В нем булькала ледяная вода, с кусочками льда, блестевшими в свете камина.
Процедура оказалась действенной и быстрой. Едва на разгорячённое лицо и тело Мичи обрушился ледяной водопад, она резко замолчала. Её тело выгнулось дугой, глаза закатились, и она обмякла в руках прислуги, потеряв сознание. Истерика была подавлена в самом её зачатке. А к матери вернулось былое равнодушное спокойствие. Теперь Мичи была безжизненной куклой, которую слуги без труда подняли и унесли наверх, оставляя за собой мокрый след на отполированном паркете.
Я не пошёл следом за ними, отдав предпочтение теплу каминного огня и увлекательной книге. Сердце всё ещё билось от внезапности увиденной картины, и стакан воды, заботливо принесённый одной из горничных, успокоил меня, позволив взять своё состояние под контроль. Но, несмотря на это, я всё же решил выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.
Тьма уже успела полностью окутать Берлин, набросив на город свою густую, непроницаемую пелену. Она стелилась по улицам, заползала в переулки, проникала в каждый дом, в каждую щель, стремясь поглотить всё живое. На наш особняк, стоящий особняком на окраине, тьма опустилась особенно плотно, скрыв его от посторонних глаз. Исчезли последние отблески заката, померкли огни в окнах соседних домов, и только луна, холодная и равнодушная, смотрела с высоты на заснеженный город. Морозный воздух, пропитанный запахом хвои и дыма из печных труб, пробирал до костей. Он проникал в дом через неплотно закрытые окна и двери, тонкой ледяной струйкой, сражаясь с тёплым, натопленным воздухом, который ещё хранил в себе отголоски уходящего дня. В этой борьбе рождались маленькие облачка пара, танцующие в воздухе призрачными фигурами, видимыми лишь в тусклом свете луны, проникавшем сквозь оконные стекла. Дом затих, погрузившись в ночную дрёму. Всё живое, следуя законам природы, уже спало, укрывшись в своих постелях, в надежде найти там покой и забвение от дневных тревог. Только изредка, издалека, со стороны деревни, доносился приглушенный лай собак, эхом разносящееся по заснеженным просторам, напоминание о том, что жизнь, пусть и затаившаяся, продолжается.
Я любил такую зиму. Окутанную непроглядным мраком, когда ночь наступает рано, забирая страну у короткого зимнего дня. Зиму, когда повсюду лежат воздушные, нетронутые снега, скрывающие под собой неровности земли, придавая миру чистоту и первозданность. Зиму, пронизанную ледяным спокойствием, когда всё замирает и погружается в глубокую спячку, ожидая пробуждения весны. Зиму, когда ночь властвует безраздельно, наполняя мир таинственной и немного пугающей красотой.
Набрав пригоршни холодного, рыхлого снега, я растёр им пылающее лицо. Мороз обжигал кожу, но это жжение было приятным, отрезвляющим, выжигающим изнутри необъяснимый стыд, жгучим узлом, спутавшимся в моей груди. Щеки, горевшие ещё несколько минут назад от смущения и гнева, теперь покалывало от холода, но стыд никуда не уходил, он лишь затаился где—то глубоко внутри, готовый в любой момент вспыхнуть с новой силой. Я ещё более остро и болезненно ощутил всю тягость родственных уз, связывающих меня с этой странной, чуждой мне семьёй. Семьёй людей, живущих исключительно в рамках своей выгоды, зацикленных на собственном благополучии и совершенно не способных испытывать ни единой живой, искренней положительной эмоции. Их мир был скуден и холоден, как эта зимняя ночь. В нем не было места любви, состраданию, взаимопониманию. Только ненависть, скрытая или явная, друг к другу, или, что было ещё хуже, глубокое, беспросветное равнодушие. Они были связаны кровью, но духовно были далеки друг от друга, как совершенно чужие люди, вынужденные делить один дом, один быт, одну фамилию. Я чувствовал себя чужаком среди них. И чем дольше я наблюдал за ними, чем глубже погружался в атмосферу этого дома, тем сильнее становилось моё отчуждение, тем яснее я понимал, что никогда не смогу стать одним из них, никогда не смогу принять их ценности, их образ жизни, их отношение к миру. И от этого осознания становилось ещё более горько, одиноко и стыдно за то, что я имею к ним отношение, что ношу ту же фамилию, что вынужден называть их своей семьёй.
Погруженный в свои мысли, я бесцельно брёл по заснеженной террасе, взгляд мой был устремлён куда—то вдаль, за черту города, туда, где мерцали далёкие огни деревень. Мои шаги были медленными, машинальными, а сознание заполнено горькими размышлениями о семье, о несправедливости мира, о собственной ненужности. В этом пограничном состоянии между сном и явью, я совершенно не заметил, как из отверстия между резными балясинами перильной ограды медленно выросла голова. Обросшая, неухоженная, с путаными волосами, она появилась так внезапно, выплыв из самой тьмы, словно призрачное видение, порождённое моим расстроенным воображением. Незнакомец не издавал ни звука, лишь с нескрываемым любопытством разглядывал меня своими маленькими, блестящими глазками. Они буравили меня, пытаясь проникнуть в самую глубину души. И вот, в какой—то миг, наши взгляды встретились и меня ударило током. Резкий, пронзительный ужас парализовал всю волю и сковал движения. Сердце заколотилось в груди с такой силой, что мне показалось, оно вот-вот выпрыгнет наружу. Ноги подкосились, и я, не удержав равновесия, начал падать назад, на ледяные плиты террасы. В последний момент, подчиняясь инстинкту самосохранения, я судорожно выбросил руку вперёд и успел ухватиться за холодную металлическую ручку двери, ведущей в дом. Это спасло меня от падения, но не от ужаса и не от пронзительного взгляда незнакомца, который все ещё, как порождение Ада стоял в темноте.
Он был жутким. Длинные, сальные каштановые волосы, тронутые сединой, раскинулись по его плечам небрежными, спутанными волнами. Казалось, они не знали гребня уже много лет, и в них запутались обрывки листьев, мелкие веточки и, возможно, что—то более зловещёе. Борода, густая и неухоженная, как дикий кустарник, закрывала большую часть лица, оставляя видимыми лишь бледный лоб и пронзительные глаза. Густые, черные брови, сросшиеся на переносице, почти налезли на маленькие, глубоко посаженные щёлочки глаз, придавая ему соколиный вид. Открытая часть лица, то немногое, что не скрывали волосы и борода, была гипсово—бледной. Такая бывает у тех, кто давно не видел солнечного света. Глаза, обрамлённые неожиданно пушистыми и длинными для мужчины черными ресницами, метали гнев, безумие, пугающее своей пустотой. Что—то, что я тогда не смог определить, но что позже, вспоминая эту встречу, я назвал бы безжизненностью. Взгляд его был тяжёлым, пронизывающим, видящим насквозь все страхи и тайные пороки. В нем не было ни капли человеческого тепла, лишь холодная, бездонная тьма. Все в нем – от спутанных волос до землистого цвета лица – кричало о нездоровье, о разложении. Нигде и никогда я ещё не видел таких людей. Он был похож на восставшего мертвеца, блуждающего по безлюдным полям и заснеженным площадям зимней Пруссии, ищущего свою следующую жертву. И эта жертва, как я с ужасом осознал, был я.
Холодный пот выступил на лбу. Внутренний голос кричал об опасности, и я попятился, но мгновение уже было упущено. Резкая боль пронзила ногу, когда грубые пальцы сомкнулись на моей лодыжке. Я запыхтел, пытаясь высвободиться, но меня тянули назад, в темноту, в неизвестность. Камень террасы царапал колени, воздух выбили из лёгких. И в этот момент беспомощности и отчаяния рот мне зажала рука. Запах ударил в нос: едкий дым, горький табак, запах чужой силы и надвигающейся беды.
Тьма переулка сомкнулась вокруг меня, как пасть голодного зверя. И из этой тьмы выплыл голос, хриплый, надтреснутый, словно сквозь вековую пыль пробивающийся: «Ай да маленький воронёнок…» Слова эти, пропитанные запахом сырости и чего-то тленного, ударили по слуху, как плеть. «Весь в отца, окаянного, выдался…» Я вздрогнул, пытаясь разглядеть говорившего, но видел лишь неясный силуэт.
Он был с меня ростом, сухопарый, даже хрупкий на вид, но в тот же миг, как его руки сомкнулись на моих плечах, я понял, что внешность обманчива. Пальцы жёсткие и сильные, впились в плоть, как крючки, лишая меня всякой возможности движения. Я дёрнулся, пытаясь вырваться, но тщетно, его хватка была подобна тискам. Тело моё сковало, словно невидимыми цепями, и я осознал с леденящим ужасом, что попал в ловушку.
– Не узнаёшь дядьку? —в темноте блеснули белые, слишком ровные для такого человека зубы. Смех его прозвучал как скрежет металла по камню, режущий слух и вселяющий ещё больший страх. Эта улыбка, неестественно широкая, натянутая на лицо мертвеца, казалась ещё страшнее, чем его хриплый голос и мёртвая хватка.
Я не знал никаких «дядек». В моей памяти не было ни одного лица, которое могло бы соответствовать этому голосу, этим рукам, этой ужасающей улыбке. Все, что я мог, это беспомощно покачать головой, надеясь, что чудовище лишь видение, и оно, вдруг исчезнет. Но хватка на плечах лишь усилилась, и я понял, что мои надежды тщетны.
– И неужели тебе мать ничегошеньки не говорила? – голос его, прежде хриплый, словно проржавевший засов, теперь звучал с лёгкой издёвкой, будто он обращался к малышу. Он склонился надо мной, и в тусклом свете фонаря я увидел его лицо полностью – худое, с запавшими щеками и глазами, горящими недобрым огнём.
Я снова мотнул головой, чувствуя, как по спине расползается ледяной страх. Мы знали, что мать не из знати. Но она всегда говорила, что все её родственники мертвы, что она одна на всем белом свете. И мы верили, не смея сомневаться в её словах.
– Неблагодарная, – он расхохотался, и смех этот, резкий и злой, эхом отразился от стен домов. – Видит Дьявол, я не хотел такой судьбы для вас. Я ведь пришёл с миром, хотел по—родственному… Но обман я не стерплю. Ложь, как ржавчина, разъедает душу, и нет ей прощения.
Он отпустил моё плечо и отступил на шаг, давая мне возможность рассмотреть его. Одет он был просто, но добротно, на поясе висел кинжал с рукоятью из тёмного дерева, а на пальце поблёскивал массивный перстень с изображением какого-то странного символа.
– Так вот знай, маленький барин, – он подчеркнул слово «барин» с едва уловимой насмешкой, – что мать твоя должна мне. И долг, давеча бывший денежным, пустяковым, перерос в долг кровный. Видишь ли, Адам, деньги – это всего лишь бумага, пыль, а вот кровь… Кровь – это жизнь, это сама суть человека. И никак теперь она его не отдаст. Долг этот, как камень на шее, теперь на вас висит, на всём вашем роду.
Он замолчал и шум ветра ворвался в тишину вместе с далёким лаем собак. Я стоял, оцепенев от ужаса, не в силах произнести ни слова. В голове крутились обрывки мыслей, воспоминания о матери, её расчётливой улыбке, её хитром взгляде. И все это теперь казалось таким далёким, таким нереальным, будто сон.
– Жди своей очереди, Адам Кесслер, – наконец произнёс он, и слова эти прозвучали как приговор. – Жди, когда придёт и твоё время платить по долгам. Время не терпит, и Дьявол ждёт свою плату.
Его смех, резкий и колкий, разрезал тишину опустевшего вечернего двора. Я не успел даже вскрикнуть, как потерял равновесие, и мир опрокинулся, закружившись в вихре белых хлопьев. Жёсткий удар о землю выбил дух, и я судорожно вдохнул ледяной воздух, чувствуя, как снег забивается за воротник и тает на горячей коже. Следом за мной, прочертив в воздухе короткую дугу, в сугроб упало что—то маленькое, тяжёлое, почти незаметное.
– Передай ей это, – он говорил спокойно, словно ничего не произошло, отряхивая снег с тёмного пальто. В его голосе не было ни злости, ни раздражения. – И скажи, чтоб лучше приглядывала за своими детишками, – добавил он, и смех, короткий и сухой, снова рассыпался по двору, словно кто—то бросил горсть ледяных камешков. Я поспешно поднялся, отряхивая снег с коленей, и бросился к тому месту, где упал неизвестный предмет. Пальцы почти мгновенно нащупали в снегу что—то холодное и металлическое. Это было кольцо. Простое, без украшений, но странно тяжёлое, словно сделанное не из золота, а из какого-то другого, неведомого мне металла. Я сжал его в ладони, оглядываясь по сторонам, но двор был пуст. Незнакомец исчез так же внезапно, как и появился, оставив после себя лишь следы на снегу да леденящее чувство тревоги в груди.
Маму я нашёл в гостиной. Она сидела в кресле, окружённая привычной роскошью, и наблюдала за тем, как суетливая прислуга наводит порядок после истерики Мичи. Её лицо было бесстрастно, и в поведении не было ни тени волнения. Она вела себя так, будто ничего не произошло, будто крики и слезы сестры, недавний визит незнакомца и мой собственный страх были лишь плодом воспалённого воображения.
В груди клокотала буря смешанных эмоций: страх, недоумение, гнев. Я сжал в ладони холодное кольцо, якорем, цепляясь за эту единственную вещёственную улику произошедшего. Забрав с кресла книгу, я подошёл к матери, чувствуя, как тяжесть молчания давит на меня, свинцовой плитой. Мне нужно было говорить, рассказать обо всем, но слова застревали в горле, и я лишь сжал кольцо.
– Ты что здесь делаешь? – голос матери прозвучал как отточенный клинок, скользнувший по льду. Она сидела вполоборота к окну, и свет, падающий из-за её спины, очерчивал её силуэт строгим, холодным ореолом. В каждом изгибе тела чувствовалось напряжение, которое она, казалось, изо всех сил пыталась скрыть. Я заметил, как пальцы рук крепко сцепились, сдавливая ткань юбки, и понял, что эта внешняя невозмутимость – лишь хрупкая маска, за которой скрывается что—то тревожное и пугающе.
Я пропустил её вопрос мимо ушей. Слова, готовые сорваться с языка, казались вдруг неуместными, недостаточно весомыми, чтобы пробить стену отчуждения, между нами. Вместо ответа я просто подошёл ближе и вложил кольцо в её холодную ладонь. Металл коснулся кожи с лёгким щелчком, и в этот момент тишина в гостиной стала такой плотной, что, казалось, можно было потрогать её рукой.
Без того бледное лицо матери в одно мгновение потеряло все краски. Она повернулась, и я увидел, как глаза её, обычно такие ясные и спокойные, расширились от ужаса, а губы побелели и дрогнули. И только мелкая дрожь, пробегавшая по скулам, свидетельствовала о том, какой шторм бушует внутри.
– Ты где это взял?! – вскрикнула она, и голос её, сорвавшись, разлетелся эхом по комнате. Она резко встала, и кольцо, звякнув, упало на пол, оставив на полированном паркете едва заметный след. Мать сделала шаг ко мне, и в её движениях появилась какая—то дёрганая резкость. – Немедленно ответь! – повторила она. – Где ты взял это кольцо?
Её напор был таким сильным, что я невольно отступил назад, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Страх, затаившийся в глубине души, вырвался наружу, овладевая всем моим существом.
– Мне его дал человек, – мой голос звучал чуть громче шёпота, но в тишине гостиной он прозвучал как выстрел. – Назвавшийся моим дядей. Я специально выделил слово «дядей», наблюдая за её реакцией. – Он сказал, что твой долг из денежного перерос в кровный, – я передал слова незнакомца, стараясь ничего не упустить, ничего не изменить. И добавил последнюю, самую страшную фразу, глядя прямо в её полные страха глаза: – И просил передать, чтобы ты лучше следила за детишками.
Мать резко отшатнулась, словно я ударил её. Руки взметнулись к голове, пальцы судорожно вцепились в волосы, и я увидел, как по её телу пробежала крупная дрожь. Лицо исказилось гримасой будто, это она увидела призрака, а не я. Она попятилась, спотыкаясь, и на мгновение мне показалось, что она сейчас упадёт. В её глазах застыл немой вопрос, и я понял, что мои слова разрушили невидимую преграду, выпустив наружу лавину, которую она так долго сдерживала.
– Где ты его видел?! – вскрикнула она, и голос её сорвался, превратившись в хриплый шёпот. В этом крике было отчаяние, будто она умоляла меня вернуть все назад, отменив то, что уже произошло.
– На крыльце, – ответил я, не отрывая взгляда от её лица. Каждое моё слово, казалось, усиливало её боль, углубляя пропасть, которая разверзлась, между нами.
– Зачем ты туда пошёл?! – она заметалась по комнате от окна к двери, от двери к картинам, слегка шаталась, и мне было беспокойно, что она на грани сердечного приступа. – О, Господи, только не это! Нет—нет… – Её губы побелели, на лбу выступил пот, и я впервые увидел её такой – сломленной.
Она продолжала нервно ходить взад—вперёд, шепча что—то несвязное, и её взгляд, блуждающий по комнате, ни на чем не останавливался. А потом, случайно наткнувшись на меня, она резко остановилась и улыбнулась. Но улыбка эта была совсем неестественной
– Это останется только, между нами, – сказала она, взяв себя в руки, уже решительно. – Не говори никому, и даже отцу. Особенно отцу! Никогда, слышишь? – она схватила меня за плечи, и её пальцы впились в мою кожу. Она трясла меня, и голова так закружилась, что перед глазами запрыгали тёмные пятна.
Я вырвался из её хватки и отшатнулся. В её глазах, все ещё горящих лихорадочным блеском, я больше не видел мольбу, это был взгляд императрицы, что с хладнокровием отдаёт приказ о казни. И в этот момент я понял, что она не просто боится, она что—то скрывает. Что—то важное, что—то опасное.
Не говоря ни слова, я развернулся и вышел из гостиной, оставив её наедине со своими страхами и тайнами. В груди росла тяжесть, словно туда положили камень. Я шёл в свою комнату, чувствуя, как что жизнь моя больше не будет прежней.
Запись 6
День ознаменовался приездом тёти Юдит, Хеллы и Аннелизы. Я не видел их целую вечность, настолько долгую, что с трудом узнал Хеллу. В детстве она была улыбчивой малышкой, с которой мы исследовали каждый уголок их усадьбы, превращая обычные прогулки в захватывающие экспедиции. Сейчас передо мной стояла высокая, красивая девушка с кудрявыми волосами. Время превратило её в настоящую красавицу.
На первый взгляд, Хелла казалась скромной и вела себя так же сдержанно, как и Аннелиза. Но стоило нашим взглядам встретиться, как в её серых глазах вспыхнули знакомые искорки детского задора и азарта, мгновенно дав мне понять, что дух приключений никуда не делся. Сердце наполнилось радостью от этой встречи. Я был безмерно счастлив видеть их всех снова. Предвкушал, что эти дни станут ярким пятном в моей жизни, источником тепла и приятных воспоминаний, к которым я смогу обращаться в серые будни, черпая из них силы и вдохновение.
В контрасте с этой радостной суматохой, Мичи продолжала своё затворничество. Уже неделю она не покидала пределов своей комнаты, принимая пищу лишь раз в сутки и не открывая никому, даже Гансу. Её молчание и добровольное заточение бросали тень тревоги на общую атмосферу дома.
Нас, встречающих тётушку Юдит и её дочерей, было четверо. Время, конечно, оставило свой след на тёте: виски тронула седина, на лбу и в уголках губ и глаз пролегли морщинки, но её глаза сияли всё той же привычной ясностью и добротой. Аннелиза расцвела, превратившись в стройную, высокую красавицу с роскошной, густой гривой каштановых волос. Она стала поразительно похожа на свою мать в молодости. И те самые уши, которые так часто становились предметом шутливых споров между Мичи и Гансом, вовсе не портили её, а, наоборот, придавали особый шарм.
Всё это время я наблюдал за братом. Бледность выдавала его внутреннее беспокойство. Взгляд был отсутствующим, рассеянным. Он часто переспрашивал, прежде чем ответить на самые простые вопросы, и бесцельно ковырялся ложкой в тарелке, не притрагиваясь к еде, чем вызывал заметное беспокойство у матери. Он избегал её взгляда и отвечал односложно и сухо.
Юдит, с присущей ей проницательностью, быстро оценила обстановку. Её карие глаза, в которых читалось лёгкое осуждение, скользили по лицам присутствующих, словно пытаясь сложить мозаику из отдельных деталей. Наконец, её взгляд остановился на мне, и на её губах появилась тёплая, ободряющая улыбка.
– Милый, поиграй с Хеллой, – предложила тётя Юдит, обращаясь ко мне. – Она как раз выучила новую мелодию, пусть сыграет тебе.
Мама, желая включить в общее времяпрепровождение и Ганса, добавила:
– Ганс бы тоже хотел послушать.
Однако тётя Юдит, по—видимому, имела другие планы.
– Боюсь, Ганс должен остаться здесь, – твёрдо сказала она. – Я хочу кое—что обсудить.
Когда мы с Хеллой перешли в соседнюю гостиную, я, движимый любопытством, выбрал место у окна. Эта позиция позволяла мне не только слышать разговор в соседней комнате, но и следить за Хеллой краем глаза, чтобы она не подумала, будто я равнодушен к её игре. Дождавшись, когда она сядет за фортепиано, я устроился спиной к стене, прижавшись к ней всем телом, от плеч до затылка, стараясь уловить хоть слово из разговора тёти с Гансом и мамой.
– Это произведение называется «Осенний лес», – объявила Хелла с таким выражением лица, словно выступала перед огромной публикой, а не передо мной одним.
– Ты хочешь женить Ганса на Хелле, – сухо констатировала Юдит, будто говорила о чём-то само собой разумеющемся.
– Да, этот брак выгоден для тебя, Юдит, – подтвердила мама, подчёркивая практическую сторону предполагаемого союза.
– Не с Гансом, – отрезала тётя, но тут же смягчила тон, обращаясь ко мне: – Не подумай, дорогой, что я против тебя. Но моя девочка выйдет замуж исключительно за хорошего, умного, надёжного мужчину, которого полюбит, – и в её голосе звучала непреклонная материнская решимость.
– Ты только что сказала, что не против Ганса, – заметила мама, и в её голосе проскользнул лёгкий смешок, – а в итоге получается, что ты не считаешь его умным, хорошим, надёжным.
– Да, Адам подходит ей намного больше, – ответила Юдит, не пытаясь опровергнуть слова сестры. – А что касаемо Ганса… я люблю его, как тётя может любить всех своих племянников. Но поставь себя на место девушки, – обратилась она к маме, придавая своим словам большую убедительность. – Разве бы ты согласилась выйти замуж за избалованного, несамостоятельного человека, который отдаёт предпочтение всему, что угодно, кроме своей женщины? В её интонации звучали и укор, и недоумение.
Из столовой донёсся смех отца. Я с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться тоже. На несколько мгновений повисло неловкое молчание, которое казалось наполненным невысказанными мыслями и эмоциями.
– Как же ты права, Юдит! – воскликнул отец, ещё не совсем справившись с приступом веселья. В его голосе слышались и одобрение, и скрытая ирония.
– Не смейте так говорить о моём сыне! – взвилась мама, с силой ударив ладонью по столу. Обида и негодование вибрировали в каждом её слове.
– Клэр, милая, – вмешался отец, стараясь сгладить острые углы разговора. Его голос звучал мягко и умиротворяюще. – Моя сестра хочет сказать, что Ганс слишком юн для брака, не только возрастом, но и умом. Ему ещё учиться и учиться. Может, стоит задуматься о поступлении в университет? Отправим его в Оксфорд, вернётся серьёзным человеком. В его интонации чувствовалась надежда на то, что удастся разрядить напряжённую атмосферу.
– В университет? Пожалуй, стоит об этом подумать, – произнесла мама, уступая под натиском аргументов. В её голосе слышалось и сомнение, и примирение с неизбежным.
В этот момент раздались шаги. Я поспешно отстранился от стены и взглянул на прямую спину Хеллы. Она играла неуверенно, делая ошибки, и каждая фальшивая нота заставляла её вздрагивать от досады. Видя её волнение, я решил поддержать кузину и подошёл к ней.
Мимо нас, не обращая ни на кого внимания, прошёл Ганс. Его шаги были решительными и твёрдыми. Я сразу понял, куда он направляется.
– Не бойся, Хелла, – сказал я, садясь рядом. – Почему ты стала так неуверенна в себе? Тебе кто—то что—то говорил?
Хелла прекратила играть. Она подняла на меня взгляд, и на её лице появилась робкая улыбка. Затем она неожиданно крепко обняла меня, как бы ища защиты и поддержки.
– Я в драку сразу лезла, – прошептала Хелла, и в её голосе прозвучала нотка ностальгической грусти. – Космы рвала, потом ругали…
В её глазах промелькнули воспоминания. Гимназия, судя по всему, вызывала у неё скорее тоску, чем приятные ассоциации. Там её постоянно исправляли, стремясь сделать из живой, непоседливой девочки образцовую благородную девицу, которой не подобает смеяться слишком громко и которая обязана безупречно играть хотя бы пару—тройку мелодий, чтобы заинтересовать потенциального кавалера.
– Да ты маленькая драчунья! – улыбнулся я, ласково проводя рукой по её спине, пытаясь хоть немного развеять грусть.
В воображении всплыл карикатурный образ её преподавательницы музыки. Я буквально слышал её назидательный тон:
– Не благородная институтка! – словно выговаривала она, а её бледные, тонкие пальцы, как порхающие бабочки, скользили по белым клавишам. Я заметил, как она смущалась под моим внимательным взглядом, но я не мог оторваться, заворожённый этим девичьим воплощением Эрота, такой воздушной и нежной.
– К чёрту это! – шепнул я, когда между нами повисла неловкая пауза. Чтобы скрыть смущение, я начал бесцельно осматривать окружающую обстановку, будто видел её впервые.
Мой взгляд блуждал по комнате, словно пытаясь найти ответы на невысказанные вопросы в окружающих предметах. Он скользил по тяжёлым шторам из темно—бордового бархата, складки которых, ниспадая к полу, напоминали застывшие волны бурного моря. Затем взгляд переместился на стены, где в позолоченных, витиеватых рамах, украшенных замысловатой резьбой, висели картины, изображавшие важные исторические события Германии. Битвы и триумфы, короли и императоры – безмолвные свидетели давно минувших эпох – казалось наблюдали за нами из глубины веков. Каждая деталь – от блеска золота до трещин на кракелюре – шептала истории о прошлом, создавая в комнате атмосферу торжественности и величественности.
– Могу ли я взять с тебя обещание? – спросила Хелла, и уголки губ дрогнули в полуулыбке. Её рука легко коснулась плеча в поисках опоры
– Да? – отозвался я, заинтригованный её просьбой.
– Ты сможешь пообещать сделать всё, чтобы не состоялась моя свадьба с Гансом? – выпалила она, слова вырывались сбивчиво, прорвав плотину сдерживаемой тревоги. В её голосе, прежде таком мелодичном, теперь отчётливо слышалось беспокойство. – Я не люблю его, – продолжала Хелла, и её голос задрожал, – и боюсь. Он… такой… непредсказуемый. То спокойный, почти безразличный, то вдруг вспыхивает, как порох, становится совсем диким и дурным. У меня мурашки по коже от одной мысли о том, что придётся провести с ним всю жизнь. Я лучше со скалы прыгну, – выдохнула она с отчаянием, – чем за него выйду! Последние слова она произнесла с такой силой и убеждённостью, с такой неприкрытой болью в голосе, что у меня не осталось ни малейших сомнений в её искренности. Стало понятно, что это не просто каприз или девичья изменчивость.
– Как же я могу такое пообещать? – спросил я, невольно скользя взглядом по её лицу, отмечая рассыпанные на нём крошечные родинки. – И вообще, откуда ты это узнала?
– Письмо дяди Альберта у мамы прочитала, – ответила Хелла, отводя взгляд, словно признавшись в чём-то постыдном. Щеки её слегка покраснели.
– Я думаю, что за эти годы всё решится и кардинально изменится, – начал я, стараясь придать своему голосу уверенность, которой сам не испытывал. – И думается мне, что тётя Юдит против. По крайней мере, в ближайшие лет пять ты точно не выйдешь за него замуж.
– Правда? – в её голосе послышалась надежда. – Почему? – спросила она, закрывая крышку фортепиано и полностью сосредотачиваясь на мне. В её взгляде читались и любопытство, и нетерпение.
– Потому что Ганс, наверное, уедет учиться в Оксфорд, – ответил я, стараясь говорить как можно более убедительно, хотя сам не был до конца уверен в этом.
В комнате повисла тишина. Хелла медленно запрокинула голову и, ища ответов в росписи плафона, принялась рассматривать потолок. Её молчание давало мне понять, что она обдумывает мои слова.
– Послушай, – продолжил я после непродолжительной паузы, – я не могу тебе пообещать, что именно сделаю, потому что не знаю, что будет даже через месяц. Но… если мне выпадет возможность как—то повлиять на ситуацию, я обязательно воспрепятствую этому браку. Обещаю тебе. Я нежно приобнял её за плечи, стараясь поддержать, и она тут же доверчиво зарылась носом в моё плечо, ища защиты и утешения.
Я всем сердцем понимал переживания Хеллы и разделял их. Мысль о её вынужденном браке с Гансом вызывала у меня глубокое неприятие. Хотелось верить, что всё разрешится само собой, ещё до того, как Ганс решит сделать ей предложение. Видя, как Хелла приободрилась после моего обещания, я почувствовал облегчение. Мне было важно дать ей хоть каплю надежды, защитить её от этого нежелательного союза.
В глубине души я надеялся, что за это время многое изменится, и наша семья наконец перестанет жить по тем гнилым, архаичным законам, которые душили и меня, и всех остальных. Неписаные правила, основанные на выгоде и социальном положении, казались мне устаревшими и жестокими. Я жаждал перемен, мечтал о том, что наступит время, когда личные чувства и желания будут цениться выше выгоды и общественного мнения.
Во второй половине дня мы с Хеллой отправились в конюшню. Несмотря на то, что обоих нас учили верховой езде, на этот раз целью нашего визита было нечто иное. Вооружившись корзиной, полной сочных фруктов и овощей, мы направились смотреть на новорождённых жеребят. Я хорошо помнил, с какой нежностью Хелла всегда относилась к животным. Она была настоящей любительницей братьев наших меньших и давно мечтала завести собаку. Стены её комнаты украшали картины с изображениями самых разных пород – от изящной басенджи до мощного ротвейлера. Там же красовался портрет Дэша – любимого пса королевы Виктории.
Едва переступив порог конюшни, Хелла сразу же заметила вороного коня отца и направилась к нему. Несмотря на свою грозную, угольно—чёрную окраску, конь обладал довольно мирным нравом. Впрочем, в нём чувствовалась доля хитрости. Он мог прижаться к стене, изображая испуг, вынуждая проявлять к нему особую ласку, и таким образом выманивать почти всю принесённую морковь. Сердобольное сердце Хеллы было готово отдать ему всё и даже больше. Она нежно чесала его за ушами и по шее, целовала в бархатистую морду и щедро угощала морковью и хлебом.
– Люди жестоко относятся к животным, – с горечью в голосе произнесла Хелла. – Собаку посадят на цепь и заставят сидеть в холодную или дождливую погоду. И дай бог, если будет будка, а то и вовсе под уголком крыши сидят, дрожат от холода. Кошечек пинают, бьют, не пускают в дом… Её голос дрожал от негодования.
– От нищеты свирепы, от богатства слепы, – философски заметил я, качая головой. – Дитя брошенного не накормят, а ртов много, так и бросят умирать, иль побираться пошлют. А ты животных жалеешь… Немец немцу не поможет, а арапа тащат, и все восторгаются диковинкой. В моих словах слышались и горечь, и ирония.
– Неужели люди будут всегда такими злыми? – спросила Хелла, поворачивая голову ко мне. В этот момент вороной конь отца легонько толкнул её носом в плечо, привлекая к себе внимание.
– Пока не научатся к себе подобным относиться с любовью, животное любви не увидит, – прозвучало где—то рядом. Слова повисли в воздухе, зацепившись за что—то внутри, острое и колючее. Я машинально запустил руку в плетёную корзину, полную сладкой, сочной моркови, вытащил увесистый корнеплод, но к Хелле так и не подошёл. Шаги сами собой направили меня к соседней лошади.
Внезапный гнев вспыхнул во мне горячей волной. Нет, не на Хеллу, конечно же. На что—то другое, большее, чем просто забытая морковка. Это было юношеское нетерпение, кипящий протест против взрослой, закостенелой несправедливости, пропитавшей, казалось, каждую клеточку этого мира. Я стоял на пороге того самого бурного расцвета, когда кровь кипит, а душа требует бунта против всего, что не вписывается в идеальную картину мира. Я думал: "Подростки – лучшие мятежники, истинные революционеры, вооружённые несокрушимой верой в свои идеалы, готовые с яростью защищать их, вплоть до последней капли крови, не останавливаясь даже перед тем, чтобы разорвать плоть несогласного оппонента".
А потом… Я представлял: "Потом, когда мне стукнет двадцать пять, сердце, израненное и уставшее от бесконечной битвы с невидимым врагом, обмякнет, сдастся. И я, утратив юношеский максимализм, начну смотреть на мир примиренческими глазами своих предков, приняв его таким, какой он есть, со всеми его изъянами и противоречиями".
Но Хелла… Я почти физически ощущал, как в ней, молодой и полной жизни, тоже зарождается дух бунтарства, неутолимая жажда справедливости. Это было видно по едва заметной дрожи, пробежавшей по её руке, когда мои слова, наполненные горечью и негодованием, долетели до неё. Эта дрожь, словно эхо моих собственных чувств, отразилась в её темных, глубоких глазах.
– И всё—таки мне кажется, что злиться мы можем по незнанию своему, – произнёс я, задумчиво глядя на Хеллу. – Часто большую роль в этом играет неосведомлённость. Людям свойственно отвергать всё непривычное, непонятное, встречая его с агрессией. Это как защитная реакция на что—то чуждое. «Но потом… – я протянул лошади морковку, – потом, когда начинаешь изучать вопрос, читаешь книги, знакомишься с мыслями философов, политиков, учёных, мир постепенно проясняется». Начинаешь хоть немного понимать истинную природу вещёй, причины и следствия происходящего.
Мой взгляд переместился на черно—белого жеребёнка, мирно лежавшего под ногами Хеллы. Малыш, ещё не знавший всех сложностей и противоречий взрослого мира, казался воплощением безмятежности и невинности. Возможно, именно эта незамутненность восприятия, отсутствие предубеждений и делает детей более открытыми к новому, менее склонными к гневу и агрессии.
– Благодаря тому, что все они читают этих гениев мысли, сами становятся надутыми жабами вроде них, и смотрят на мир их глазами, но никак не своими, – с жаром в голосе ответила Хелла. – Вот, я не терплю жестокости к животным. Ты только посмотри на это существо с добрыми глазами, – она кивнула на жеребёнка, – беззащитное, не может дать ответа… И я хочу их всех спасти, накормить, позволить им жить в тепле. А потом… – в её голосе послышалась тревога, – а потом, я прочитаю труды мыслителей, и… может, тоже возненавижу животных, как все эти толстосумы? Вдруг эти книги изменят меня, заставят отказаться от своих убеждений?
– Глупышка, – улыбнулся я, глядя на её взволнованное лицо. – Знать то, что знают образованные люди, – неплохой способ вести с ними войну. Один только ум, как и одно только образование, не способны свернуть горы. Сила – в их сочетании. И будучи образованной, дорогая моя Хелла, ты сможешь гораздо эффективнее бороться за то, чтобы люди любили животных. Ты научишься аргументировать свою позицию, опираясь на знания, а не только на эмоции. Ты сможешь понимать их мотивы, находить к ним подход и убеждать их в своей правоте. Образование – это инструмент, Хелла, и только от тебя зависит, как ты им воспользуешься.
Мои слова, похоже, действительно зажгли в Хелле какой—то огонёк. Её лицо просияло, глаза заблестели живым интересом. Она с новой энергией взялась за корзину и, решительно шагая от одной лошади к другой, быстро накормила всех до единой сочной морковкой. Затем, не теряя задора, вывела меня на улицу.
Мы брели по заснеженному холму, изредка останавливаясь под редеющими невысокими деревьями, словно ища у них защиты от лёгкого морозного ветра. Разговор лился непрерывным потоком. Я узнал, что Хелла живёт в одной комнате с двумя девочками, и отношения между ними, мягко говоря, натянутые. Причиной тому, как призналась сама Хелла, был её вспыльчивый характер.
– Они слишком правильные, – с некоторым пренебрежением произнесла она. – Слишком стараются угодить учителям. А те… – Хелла замолчала, подняла голову и посмотрела на густые облака, похожие на стадо белых овечек, медленно плывущих по небесной равнине. – А те, кроме жестокости, ничего не знают, – закончила она горько и неожиданно упала на спину в густой, пушистый снег. Я, державший её за руку, потерял равновесие и с глухим вскриком повалился рядом.
Мы лежали на снегу, размахивая руками и ногами, пытаясь вычертить в белой целине фигуры снежных ангелов. Смеялись, как и прежде, но в этом смехе уже чувствовалась какая—то новая, незнакомая нотка. В воздухе витало неуловимое ощущение взросления, перемены взглядов. То, что совсем недавно вызывало бурный, искренний восторг, теперь казалось наивной детскостью, чем—то уже пережитым и оставленным позади.
Вернувшись в спальню, я снова уселся за свою железную дорогу. Металлические рельсы, миниатюрные вагончики, стрелки, семафоры – все это манило, завораживало, открывая передо мной целый мир, полный возможностей и приключений. Мать не одобряла моего увлечения. Считала его пустой тратой времени, детской забавой, недостойной моего возраста. Но, к счастью, её интерес к моей жизни был настолько поверхностным, что она не вмешивалась в мои увлечения, предпочитая держаться в стороне. И это давало мне возможность самостоятельно постигать мир, без навязанных родительских оценок и суждений, формировать собственное мнение, основанное на личном опыте, анализе и рассуждениях. А значит, делать то, что действительно нравится, то, что откликается в душе, вроде этой железной дороги, которая для меня была не просто игрушкой, а целым миром, который я мог создавать и контролировать сам.
Она почти была готова, моя железная дорога. Замысловатая сеть металлических рельсов, змеясь по полу, уже почти образовала замкнутый круг. Маленькие алюминиевые станции, блестящие свежей краской, стояли на своих местах, готовые принять первых пассажиров. На каждой станции были установлены стрелки, позволяющие изменять направление движения поезда, создавая различные маршруты и сценарии. Я с увлечением возился с кисточкой, осторожно окрашивая крышу одной из станций в ярко—красный цвет, когда услышал тихий, сдавленный плач, доносившийся из комнаты Ганса. Это был не детский плач, не капризное хныканье, а настоящий, глубокий плач взрослого человека, полный отчаяния и тоски. И этот плач принадлежал самому Гансу.
Запись 7
Мичи упорно продолжала свою добровольную засидку в комнате. Дни шли, а она все не показывалась. Видимо, рассчитывала, что мать сдастся первой, придёт мириться и просить прощения. Но она прогадала. Мать держалась непробиваемо. За все эти дни она ни разу не поинтересовалась состоянием дочери, даже не попыталась узнать, как она там. Словно тогда, в гостиной, Мичи испытала не просто истерику, а самую настоящую агонию, после которой просто… скончалась. И теперь её больше нет.
Эта мысль не давала мне покоя. Что—то колыхнулось внутри, какое—то непонятное чувство, смесь беспокойства, любопытства и… даже, пожалуй, сочувствия. Я бы не назвал это головокружительными переживаниями, но Мичи стала занимать мои мысли гораздо чаще, чем обычно. В какой—то момент я твёрдо решил навестить её. И вот, наконец, утром, пока все спали, я с помощью служанки, которая без лишних слов согласилась помочь, тайком проник в спальню Мичи.
Микаэла спала, свернувшись калачиком и зарывшись похудевшим телом в гору одеял и подушек. Она казалась такой маленькой и беззащитной в этом огромном сплетении тканей. На прикроватной тележке стояла посуда с нетронутым завтраком и вазочка с увядшими цветами. Служанка, не обращая на меня внимания, проворно убирала вчерашнюю посуду и остатки еды, стараясь не шуметь.
Под ровное сопение сестры у меня появилась возможность внимательно рассмотреть её комнату. Мичи всегда обожала игрушки, и Ганс с отцом с удовольствием потакали этой её страсти. Комната была буквально завалена ими. Плюшевые медведи всех мастей и размеров толпились на кровати и креслах, куклы в различных нарядах сидели вдоль стен, деревянные лошадки скакали по полу, фарфоровые статуэтки выстроились на полках, рядом с коллекцией игрушечных машинок. Все это содержание больше напоминало детскую, чем комнату девушки её возраста. И если пару лет назад я бы проводил здесь время с удовольствием, разделяя увлечения сестры, то сейчас меня не покидало ощущение глубокой инфантильности хозяйки этих апартаментов. Все эти игрушки казались мне символом её нежелания взрослеть, прятаться от реальности в мире детских фантазий.
Внезапно лёгкий скрип кровати и сонный кашель прервали мои размышления. Я обернулся. Мичи проснулась. Она сидела на кровати, потирая заспанные глаза и глядя на меня с нескрываемым недовольством. Я в этот момент разглядывал висевшие на стене репродукции, в частности, картину Менгса.
– Что ты здесь делаешь? – её голос был хриплым от сна. – Пришёл позлорадствовать? Иди сообщи мамочке, что я здорова, но выходить не буду, – бросила она с вызовом, отворачиваясь к стене.
Я молча подошёл к кровати и остановился возле тележки с нетронутым завтраком. Провёл кончиками пальцев по холодной металлической поверхности, затем снял с тарелки серебряный клошер. Аппетитный запах свежего милькрейса с малиновым вареньем мгновенно наполнил спальню, перебивая ещё не ушедшую ночную духоту и сладковатый аромат духов Мичи.
– Мичи, я не злорадствую, – мягко ответил я, глядя на её спину. – Мне жалко тебя. Жалко, что ты тратишь время на истерики и на попытку доказать что—то той, для кого ты всего лишь… ресурс для выгодного обмена. – Я постарался произнести эти слова как можно спокойнее, боясь спровоцировать новую вспышку гнева. – Она не отстанет от тебя, пока ты не выйдешь замуж за Максимилиана. И чем сильнее ты будешь её злить, тем сильнее будешь получать за это. Это как замкнутый круг. Ты только мучаешь себя.
Мичи резко села на кровати, свесив босые ноги на пол, и неожиданно обняла меня, крепко прижавшись ко мне. Я чувствовал, как она всхлипывает, как её тело слегка дрожит от затаённых рыданий. Тонкая ночная сорочка не скрывала её хрупкости и того, как сильно она похудела за эти дни.
– Умоляю, скажи, что там происходит? – прошептала она, уткнувшись лицом мне в живот. Голос её был глухим и сдавленным от слез.
– Разве тебе Ганс не говорил? – спросил я, прекрасно зная ответ на заданный вопрос. Судя по её состоянию, Ганс не решился рассказать ей всю правду.
– Га—анс, Га—анс, – с горечью в голосе повторила она его имя. – Мой Га—анс… Видеть его нет желания! – В этих словах была не только обида, но и глубокая боль, словно Ганс предал её самым подлым образом.
– Ты винишь его? – спросил я осторожно, подвигая тележку с завтраком ближе к кровати. – Может, все—таки стоит выслушать его объяснения?
– Он виноват больше всех! – вскричала Микаэла, резко отстраняясь от меня. – Он не защитил меня! – И снова зарыдала, сжимая мои одежду в кулаках, словно пытаясь найти в этом хоть какую—то опору.
Ещё совсем недавно я видел в её глазах лишь холодное презрение. Ещё недавно я был для неё причиной всех несчастий и огорчений. А теперь она обнимала меня, искала утешения в моих объятиях. Но я не чувствовал ни капли её любви, лишь отчаяние и беззащитность. Это было скорее сближение двух одиночеств, чем проявление сестринской привязанности.
– Скажи, умоляю тебя, о чем они говорят? – прошептала она сквозь слезы, снова поднимая на меня полные мольбы глаза.
– Скажу, – ответил я, встретившись с её взглядом. – Но у меня есть условие, – добавил я, и, дождавшись, когда она слегка отстранится, кивнул на тарелку с милькрейсом. – Сначала поешь. Ты же совсем ничего не ела.
Мичи медленно, с видимым усилием, вытянула дрожащую руку и взяла серебряную ложку. Я же, чтобы не смущать её, отвернулся и принялся отодвигать тяжёлые бархатные шторы, впуская в комнату утренний свет. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь тонкий тюль, ложились на пол золотистыми пятнами, разгоняя мрак и создавая иллюзию тепла и уюта.
Я пытался вспомнить обрывки разговоров, случайно услышанных мной за последние дни. Старался выбрать такие детали, которые не выдали бы моего подслушивания. Но потом понял, что Мичи сейчас настолько поглощена своими переживаниями, что вряд ли обратит внимание на какие—то несостыковки. Она жаждала любой информации, любого намёка на то, что происходит за пределами её добровольного заточения. Поэтому я расслабился и, без опаски выдать себя, принялся ждать.
– Говори, я ем, – тихо сказала Мичи, не поднимая глаз.
– Юдит… против свадьбы Хеллы и Ганса, – негромко произнёс я, и, не поворачивая головы, взглянул на сестру. К её бледным щекам прилил яркий румянец, а в глазах вспыхнули огоньки радости. Она буквально расцвела на глазах. Но, похоже, заметив мой взгляд, она поспешно почерпнула ложку каши и снова опустила глаза, пряча свою внезапную радость.
– Ты как считаешь, Адам? – спросила Мичи, внезапно переменившись в лице. Радость исчезла так же быстро, как и появилась, уступив место задумчивости. – Хелла была бы хорошей невестой Гансу?
– Единственное, что я считаю, – ответил я, поворачиваясь к ней лицом, – так это то, что Хелла слишком юна для того, чтобы сейчас думать о браке. Пусть сначала повзрослеет, разберётся в себе и своих чувствах.
– Ты прав, – кивнула Мичи, соглашаясь с моими словами. Она снова погрустнела, и её пальцы нервно забарабанили по одеялу.
– И… видимо, из тех же самых соображений, родители собираются отправить Ганса в Оксфорд, – добавил я, не отрывая от неё взгляда. Мне было интересно наблюдать за тем, как она пытается совладать со своими эмоциями. Сначала её брови изогнулись дугами от удивления, затем лицо побледнело ещё сильнее, и наконец, приняло мраморно—безразличное выражение. Она отложила ложку и застыла, уставившись в одну точку.
Мичи, задержав дыхание, едва слышно прошептала:
– И когда он уедет?
– Предполагаю, что к началу учебного года, – ответил я.
В тот же миг её внимание ко мне испарилось. Она отвернулась, потеряв всякий интерес к разговору. Но вместо того, чтобы тактично удалиться, я сделал шаг к ней и, наклонившись, почти коснулся губами её уха.
– Замужество, дорогая сестра, – прошептал я конспираторским тоном, – открывает перед тобой несколько путей. Это шанс сбежать из-под опеки матери или, напротив, наконец завоевать её расположение, став любимой дочерью. Но есть и третий, более интересный вариант. Ты можешь использовать этот брак, чтобы отомстить ей.
Я сделал паузу, позволяя словам повисеть в воздухе, а затем продолжил:
– Заставив Максимилиана не сотрудничать с матерью. Часто в таких союзах, – мой голос стал ещё тише, – истинным главой семьи становится жена. Особенно если муж, как Максимилиан, отличается мягким характером и добр к тебе.
Я выпрямился и, улыбнувшись, заглянул в её изумрудно—зелёные глаза, ожидая реакции на свои слова.
– Не слишком ли ты юн, герр Кесслер? – уголки губ Мичи дрогнули, выдав смешанное чувство удивления и зарождающейся улыбки. Это был знак, несмотря на неожиданность моих слов, идея уже зажгла искру в её сердце.
Пусть я и был слишком молод для подобных интриг, но жгучее желание предотвратить нежелательное заставляло меня постигать «взрослые» вещи гораздо быстрее, чем полагалось по возрасту.
На этом мой визит был окончен. Проходя мимо комнаты Ганса, я заметил приоткрытую дверь. Ганс сидел к ней спиной и читал книгу. На его столе красовалась модель корабля с обнажёнными мачтами. Я не стал заходить, но по тому, как мгновенно напряглась спина Ганса, понял, что он заметил моё присутствие. Он не произнёс ни слова, лишь медленно перелистнул страницу, словно безмолвным жестом показывая, что мне пора уходить. Этот немой укор был понят, и я поспешил прочь.
Мы с Хеллой снова прогуливались, хрустя по замёрзшей земле. Сегодня она была совершенно погружена в свои мысли. Несколько раз чуть не упала, оступившись на неровной дорожке или споткнувшись о выступающий из-под снега корень, но каждый раз, словно машинально, восстанавливала равновесие, обходила препятствия или отодвигала мешающие ветки. При этом она не проронила ни слова о том, что её так занимало.
И я не торопил её с расспросами. Хелла принадлежала к числу тех людей, которые немедленно замыкаются в себе, стоит лишь проявить чрезмерное любопытство или начать настаивать на откровениях. Она всегда предпочитала рассказать все сама, когда будет готова, нежели отвечать на прямые вопросы. Но также я знал, что, если ей действительно хочется поделиться чем—то, она не станет долго тянуть. Поэтому мне оставалось лишь молча идти рядом, готовый поддержать её, если она снова потеряет равновесие.
Когда мы, наконец, спустились к подножию нашего любимого холма, Хелла вдруг горько вздохнула, выпуская из себя все невысказанные переживания, и закрыла лицо руками, покрасневшими от мороза.
– Я потеряю сестру, – произнесла она дрожащим голосом, и следом раздался тихий, приглушенный плач, словно где—то внутри неё разбилось что—то хрупкое и дорогое.
Сняв перчатки, я достал из внутреннего кармана пальто чистый носовой платок и протянул его Хелле.
– Она любит его, – продолжала Хелла, с трудом сдерживая рыдания. – А когда я выйду за него замуж, она возненавидит меня и навсегда захочет вычеркнуть меня из числа своих сестёр! Ох, Адам! Что же делать?
Я сразу догадался, о ком идёт речь. Аннелиза была влюблена в Ганса. В их характерах действительно было много общего. Аннелиза, как и Ганс, отличалась скромностью и молчаливостью, но также, как и он, могла вспыхнуть праведным гневом из-за любой, по её мнению, несправедливости. Однако я бы не сказал, что юная Штибер способна на глубокую и долговременную злобу. И вряд ли она поступила бы так радикально, как описывала Хелла, полностью разорвав отношения с сестрой. Скорее всего, это были преувеличенные страхи Хеллы, подпитанные её собственными эмоциональными переживаниями.
– Она тебе сама сказала, что возненавидит тебя? – мягко спросил я, пытаясь прояснить ситуацию.
Хелла отрицательно мотнула головой, не отнимая рук от лица, будто боялась, что я увижу её слезы и сочтёт её слабой.
– Но ведь ты не хочешь этого брака? – продолжал я свою линию допроса.
– Не хочу, – всхлипнула Хелла, и её голос прозвучал глухо из-за прикрывавших лицо ладоней.
– И ты не любишь Ганса? – задал я следующий, самый важный вопрос.
– Не люблю! Никогда не полюблю! – выкрикнула Хелла, и её плечи затряслись от рыданий. Она больше не пыталась сдержаться.
– Значит, и переживать незачем, – сказал я уверенно, стараясь придать ей сил. – Если тебя выдадут замуж за него, это будет вина наших родителей, но никак не твоя. Да и Аннелиза слишком любит тебя, чтобы из-за этого полностью отказаться от вашей связи. – Я аккуратно убрал её руки от лица и вложил ей в ладонь свёрнутый платок.
Я бы не хотел представлять Ганса злым и жестоким. Он таким не был. Более того, он пользовался заметным успехом на балах. Его задумчивое, аристократичное лицо с характерной бледностью притягивало внимание. Тонкие губы, правильной формы нос и густые, медно—рыжие волосы создавали впечатление утончённости и благородства. К тому же, Ганс отличался исключительной вежливостью, галантностью и доскональным знанием всех этикетных тонкостей. Все эти качества, безусловно, импонировали дамам, и он часто ловил на себе восхищённые взгляды. Поэтому меня ничуть не удивила симпатия Аннелизы. Меня скорее смущал необоснованный, на мой взгляд, страх Хеллы перед ним. Если у меня были свои причины относиться к Гансу с прохладой, то он всегда проявлял к Хелле исключительное дружелюбие и внимание.
Единственным логичным объяснением этого страха было, пожалуй, то, что Хелла считала Ганса неискренним в своих проявлениях. Но разве можно винить человека, выросшего в атмосфере лицемерия и постоянного порицания любых человеческих слабостей, в том, что он научился искусно скрывать свои истинные чувства и намерения? Возможно, его вежливость была лишь маской, защищающей его от окружающего мира, а не проявлением подлинного расположения.
До сих пор я намеренно не упоминал о том, что мысли о той странной и неприятной встрече с «дядей» не давали мне покоя. Они возвращались снова и снова, словно навязчивая мелодия. Несколько раз после этого инцидента меня мучили кошмары, после которых я подолгу ворочался в постели, не в силах уснуть. Мне все время вспоминался его хриплый голос, похожий на голос человека, страдающего тяжёлой хронической ангиной. Оскал белых клыков в полумраке казался ещё более устрашающим. И каждый раз, выходя на веранду, я непроизвольно бросал взгляд туда, откуда была высунута его голова, обмотанная какими—то грязными тряпками.
Мне не стыдно признаться, что он меня действительно испугал. И образ этого человека, прочно засевший в моей памяти, пугал ещё больше. Но я отчётливо понимал, что этот «дядя» – самый опасный скелет в мамином шкафу. И мне очень хотелось знать, что же она такого натворила, что теперь в долгу перед ним оказалась вся наша семья…
Я продолжал пополнять свой дневник новыми записями, когда услышал лёгкий шорох под дверью. Все моё внимание мгновенно сосредоточилось на маленьком клочке бумаги, который проталкивался в узкую, миллиметровую щель между дверью и полом.
Любопытство, смешанное с предчувствием чего-то важного, заставило меня тут же подняться со стула и подобрать записку. Я развернул её, немедля ни секунды. Возможно, её хозяин все ещё стоял около двери, ожидая моего ответа, но выяснять это я не стал.
В записке было написано: «Я знаю, что ты был у Неё. Скажи, как её самочувствие? Говорила ли она что—нибудь обо мне?»
Думаю, не стоит и пояснять, от кого была эта записка. Имя Ганса буквально висело в воздухе. Какое—то время я раздумывал над тем, чтобы написать что—нибудь язвительное в ответ, задеть его самолюбие, но эта мысль быстро исчезла, раздавленная тяжестью упавшей на плечи усталости. В конце концов, я написал лишь короткую фразу: «Мичи лучше». И все. Никаких лишних слов, никаких эмоций. Просто констатация факта.
Запись 8
Мне исполнилось тринадцать. Хелла, как всегда, была первой, кто поздравил меня с днём рождения. Она ворвалась в мою комнату вместе с первыми лучами солнца, которые пробивались сквозь щели в ставнях, и на мгновение замерла на пороге, удивлённо рассматривая замысловатую паутину из игрушечных железнодорожных путей, раскинувшуюся по всему полу.
Я уже не спал. Пробудившись от очередного ночного кошмара, я лежал на кровати, смотрел в потолок и вёл бесконечный мысленный монолог о собственном взрослении. Я видел в нем исключительно положительные стороны, поскольку уже давно считал, что моё детское тело – это своего рода многолетняя клетка для моего резко повзрослевшего сознания. А надзирателями этой клетки выступали взрослые, погруженные исключительно в собственные проблемы и обстоятельства, не замечающие или не желающие замечать моих переживаний и мыслей. И с каждым днём все отчётливее проступали в нашей семье особенности этих странных отношений: с одной стороны, коллегиальные, почти равноправные отношения между супругами, с другой – отношения начальства и подчинённых между родителями и детьми. Эта иерархия казалась мне несправедливой и удушающей.
– Это же самые настоящие рельсы! – воскликнула Хелла, её голос звенел от восторга. Это восклицание, наконец, заставило меня оторваться от своих мрачных размышлений и подняться с кровати.
Я ничего не ответил, молча наблюдая за кузиной, которая с нескрываемым интересом изучала мою необычную комнату. Казалось, ей было интересно абсолютно все: каждая книга на полках, каждая картина на стенах, каждый уголок этого небольшого пространства. Мне было приятно видеть её восхищение. Я действительно приложил много усилий, чтобы моя комната отличалась от других, при этом, чтобы она была отражением моего внутреннего мира. Я хотел вдохнуть в неё жизнь, наполнить её смыслом и индивидуальностью.
Я задумчиво рассматривал книжный шкаф, перебирая в памяти названия понравившихся произведений и размышляя о том, какие книги могли бы дополнить мою коллекцию, создать ещё более уютную и вдохновляющую атмосферу. Мой взгляд скользил по корешкам, от старинных книг в расписанных переплётах до современных изданий в ярких обложках. Каждый том хранил в себе целый мир, полный приключений, загадок и открытий. В этот момент я чувствовал себя настоящим исследователем, собирающим свою собственную библиотеку знаний и впечатлений. Именно в этот момент задумчивости Хелла оторвалась от своего исследования комнаты. Она подошла ко мне лёгкой, бесшумной походкой, словно не желая нарушать моё уединение. И, остановившись совсем рядом, неожиданно крепко обняла меня.
– С днём рождения, Адам! – прошептала она мне на ухо. – Я хочу, чтобы наша дружба оставалась крепкой ещё очень долго. Ты самый замечательный человек, которого я знаю. – Хелла не спешила размыкать объятия, уткнувшись лицом в мою жилетку. И я, тронутый её искренностью, тоже обнял её в ответ.
Мир не меняется в дни рождения. Не происходит никаких чудес, не сбываются заветные мечты. Даже само взросление наступает почти незаметно. Оно подкрадывается медленно, неуловимо, как тень, которая постепенно удлиняется с заходом солнца. И в один момент, совершенно неожиданно для себя, ты смотришь на своё отражение в зеркале и с грустью констатируешь сломавшимся голосом, что детство окончилось. Я был ещё далёк от этого дня, но не сомневался, что он наступит так же быстро, как я преодолел расстояние, отделяющее глупого, доверчивого мальчика от скрытного, молчаливого подростка.
Я не питал никаких иллюзий по поводу своего дня рождения. Не ждал подарков, не рассчитывал на праздник. Единственным моим желанием было, чтобы этот день прошёл спокойно, без семейных скандалов и выяснения отношений. Эта мысль казалась мне гораздо более привлекательной, чем любые праздничные сюрпризы.
Однако Хелла, лучась праздничным настроением, попросила меня спросить у мамы, будет ли сегодня какой—нибудь банкет по случаю моего дня рождения. И я, не желая её расстраивать, нехотя направился в сторону маминой комнаты. Предпочитая не афишировать цель своего визита, я старался делать вид, будто просто прогуливался по коридору, задумчиво рассматривая висевшие на стенах картины. В мои планы входило незаметно прошмыгнуть на горничную лестницу и, обойдя пару коридоров, оказаться в гостиной, где я мог бы случайно столкнуться с мамой и как бы между прочим задать ей вопрос Хеллы.
Но едва я заглянул в коридор, где располагалась родительская спальня, как заметил мелькнувший в полумраке силуэт Бернда. Он как испуганный кролик, стремительно нырнул в большую, массивную дверь единственной комнаты в этом коридоре – спальни моих родителей. Это показалось мне странным и заставило насторожиться.
Что он мог там забыть? Отец уже был в своём кабинете, я видел его, когда мы с Хеллой выходили из моей комнаты. На его лице не было ничего примечательного, только его обычная, привычная меланхолия, которая уже давно не вызывала никакого удивления и не заставляла обращать на себя внимание.
А вот Бернд шёл совсем по—другому – лёгкой, уверенной походкой, которая резко отличала его от всех остальных слуг, почтительно трепещущих перед моей властной матерью. В его движениях чувствовалась некая фамильярность, неприемлемая для человека его положения.
Не желая больше терзаться догадками и подозрениями, я решительно подошёл к массивным дверям родительской спальни и, стараясь двигаться как можно тише, осторожно приоткрыл их. Мама сидела за своим письменным столом, разбирая утреннюю почту. Она уже была при полном параде, в одном из своих изысканных платьев. Мама обладала удивительной способностью читать невероятно быстро. Ей достаточно было бросить беглый взгляд на страницу, чтобы понять содержание письма. И я был ей искренне благодарен за то, что, несмотря на всю свою строгость в воспитании, она обучила этому полезному навыку и меня.
Листы с государственными печатями, скорее всего, очередные благодарности за её щедрые инвестиции в городские проекты, лежали в одной стопке. Рядом с ними – письма от деловых партнёров, наполненные сухими фразами и цифрами. И, наконец, отдельной кучкой были отложены письма от «попрошаек», как презрительно называла их сама мама – людей, обращавшихся к ней с просьбами о финансовой помощи или покровительстве. Её пухлые, маленькие пальчики проворно перебирали каждое письмо, беспощадно рвали ненужное и откладывали в сторону то, что требовало её внимания.
А Бернд стоял молча, немного в стороне, словно смиренно ожидая, когда ему соизволят объяснить причину вызова. По моему опыту, сейчас он должен был легка покашлять, как бы ненавязчиво напоминая о своём присутствии. Мама, поглощённая чтением, скорее всего, не обратила бы на это внимания. А дальше все зависело от её настроения. Если бы он задал свой вопрос слишком тихо, и она бы его не услышала, ему пришлось бы повторить его громче. И тогда мама, раздражённая его настойчивостью, обязательно накричала бы на него за то, что он посмел повысить голос в её присутствии.
И вот, как я и ожидал, Бернд приглушённо кашлянул. Но, вопреки моим размышлениям, мама тут же подняла на него взгляд и отложила в сторону все письма.
– Звала? – спросил он ровным, спокойным голосом. Я даже невольно попытался прочистить уши, подумав, что их заложило. Мне показалось, что я ослышался. Бернд говорил с ней абсолютно на равных, без тени привычного страха и почтительности.
– Бернд, – заискивающе улыбнулась мама, и в её голосе прозвучали необычно мягкие, ласковые нотки. – Как твоей семье здесь? Расположились?
– Да, Марья вполне довольна, – ответил Бернд спокойно и уверенно, без малейшего намёка на то подчинение, которое он обычно проявлял по отношению к маме.
– Я всё ждала, когда ты придёшь, – мама встала из-за стола и подошла к Бернду. Мой отец был довольно щуплым и невысоким человеком, но даже на его фоне мама выглядела маленькой и хрупкой. А рядом с крупным, широкоплечим Берндом она и вовсе потерялась, словно нежный цветочек рядом с могучим дубом.
Они обнялись. Это было совершенно неожиданно и даже странно. Я привык видеть их отношения строго формальными, почти деловыми. Однако в этих объятиях не было ничего дурного, ничего такого, что могло бы навеять подозрение на нечто непристойное. Это было похоже на объятия родных брата и сестры, близких и дорогих друг другу людей. Ни в коем случае это не были объятия любовников.
– Так чего звала-то? – спросил Бернд, отстраняясь и встречая взгляд мамы спокойным, равнодушным взглядом. В его голосе не было ни малейшего признака подчинения или угодливости.
– Могу ли я тебе верить на все сто процентов? – мама наклонила голову, смотрит на него в лицо своим необыкновенно красивым, обезоруживающим взглядом. Мичи умела смотреть точно так же. Завораживающий и безусловно гипнотизирующий взгляд. Перед такой женщиной были бессильны все мужчины, у них просто отнимался дар речи.
– Конечно, – ответил Бернд коротко, голосом хриплым от недавнего молчания. В этом «Конечно» не было уверенности, только измученная покорность.
Мать сидела напротив, её лицо было бледным, но глаза горели тревожной искоркой. Она вглядывалась в своего кузена, стараясь прочесть правду на его лице, в глубине его глаз.
– Тогда, скажи мне, ты видел своего брата? Стэн, как он? «Вышел из тюрьмы?» —спросила она, её голос был спокойным, но в нем слышалась стальная твёрдость. Она не отводила от него своего взгляда, словно пыталась проникнуть сквозь его защитную оболочку.
Бернд замолчал, его взгляд ушёл в даль, в прошлое, полное горьких воспоминаний. Он с трудом произнёс: – Стэн? Это имя я лет десять не слышал. Его голос звучал задумчиво, растерянно, словно он пытался восстановить забытые фрагменты своей памяти. Но в его глазах мелькала скрытая вина.
Тишина сгустилась в комнате, тяжёлая и давящая. Только тихий скрип старого стула оживлял картину. Мать не отрывала своего взгляда от Бернда. Её лицо исказилось глубокой печалью, глаза наполнились слезами.
– Брат мой, – прошептала она, её голос срывался, словно на грани рыданий. – Только не лги мне. Я для тебя и твоих детей сделала так много добра. Ты знаешь, я боюсь и ненавижу этого человека. Он угроза мне и моим детям. Я даже представить не могу, что он сделает с Гансом и Адамом. Слезы потекли по её лицу, оставляя за собой следы горькой безысходности. Бернд обнял её, в его объятиях чувствовалась напряжённость.
– Я не лгу тебе, Клэр, – сказал Бернд, его голос был низким и хриплым. – Я ничего не знаю о Стэне. Фрици думает, что он погиб. Знаешь же, всякая чахотка, сырость, блохи… Кто от такого выживет? Да и всякие дурни там обитают. Тюрьма лишь калечит людей. Он говорил быстро, словно стараясь убежать от своих собственных переживаний. Но его слова звучали неубедительно, оставляя после себя тяжёлое чувство недоговорённости. В комнате снова воцарилась тишина, ещё более тяжёлая и пронзительная, чем прежде.
Мама нервно заметалась по комнате. Темные волосы, выбившиеся из строгой причёски, обрамляли лицо, словно растрёпанные перья. Руки, сжимавшие края платья, дрожали
– В том и дело, Бернд! – вскричала мама, голос сорвался на истеричный крик, слова вырывались из неё рывками, как из разорванного мешка. – Он здесь, я знаю это и чувствую! Он! Он сплошное зло! Он убьёт моих детей! Он… – Она замолчала, задыхаясь, руки прижаты к груди, защищая сердце за стеной рёбер. Её глаза были широко раскрыты, в них отражалась паника.
Бернд, наблюдавший за этим зрелищем с видимым безразличием, попытался успокоить её. Его тон был спокойный, даже немного издевательский.
– Почему он должен убить твоих детей? Благодаря Стэну ты здесь, уважаема и любима, – перебил он её внезапные вздохи, голос его звучал ровно и холодно, как звон стекла. Он опустил глаза, заметно улыбаясь уголками губ.
Этот комментарий подействовал на маму, как искра на пороховую бочку. Её рука с ударной силой вылетела вперёд, нанося Бернду резкую, звонкую пощёчину. Звук раздался резко и неприятно в тихой комнате. мама задышала тяжело, её грудь быстро поднималась и опускалась.
– Благодаря ему? Благодаря своим мозгам! И только им! – прошипела она, её глаза блеснули яростным светом. Красные пятна на щеках контрастировали с бледностью её лица, подчёркивая её бушующее возмущение. Она отшатнулась от него. В своей огорчённой она напоминала кобру, готовую к броску. Длинная шея вытянулась, тело приготовилось к атаке.
Бернд, нисколько не смутившись полученной пощёчиной, опустил глаза и тихо промолвил, в его голосе проскользнула колкая усмешка:
– Но ведь это он потратил деньги на твоё обучение, – его тон был спокойным, но в нем скрывалась жестокая ирония. Он наслаждался её страхом и бессилием, и это было видно в его спокойном лице. Слова парили в воздухе, отражая горькую правду о сложных и переплетённых отношениях между кузенами. – Он кормил тебя и воспитал, взял тебя к себе, хотя ты сама знаешь какой он человек по своей натуре. Ту же Марью вспомни. Или то, в каких условиях ты жила? Он обращался с тобой, как с принцессой, Клэр.
Бернд наслаждался моментом. Мама стояла, застыв от изумления, а он, словно хозяин кукольного театра, управлял её эмоциями. Его лицо выражало спокойное самодовольство, в его глубоко посаженных глазах блестело холодное удовольствие. Он получал явное удовлетворение от того, что присмирял её бушующие эмоции, напоминая себе и ей, благодаря кому у неё есть всё то, что она имеет. Он уверенно держал ситуацию под контролем, наслаждаясь её бессилием.
– Как ты смеешь?! Тебе показать твоё место? Стэн убийца и насильник! И ты такой же? Ты его оправдываешь! Ты тоже такой! – мама, с неистовым криком, толчком отбросила Бернда от себя, как ненавистного врага. Её тело дрожало от неконтролируемого гнева, вызванного внезапной правдой. Вот ещё один скелет – мать до ужаса боялась вернуться в прежнюю жизнь.
Отвернувшись к окну, она сжала кулаки, пытаясь сдержать бурю своими слабыми руками. Её план был простым и выверенным: разорваться в рыданиях, чтобы вызвать сочувствие Бернда, заставить его пожалеть её.
В холодной комнате повисло молчание. А затем прозвучало тихое, сдавленное рыдание. Плечи опустились, её фигура сжалась, словно она стала ещё меньше, ещё беззащитнее. Её хрупкость была удручающе явна. Она одиноко стояла напротив большого окна, задрапированного тяжёлыми темно—бордовыми шторами, обнимая себя за плечи и пытаясь согреться от ледяной несправедливости обвинений.
– Он насиловал меня на протяжении всего времени, что я жила у него. Бил. Таскал за волосы, пугал. Вот какой твой братец, Бернд. Разве не ты Марью выхаживал от этого чудовища? Теперь ты защищаешь его?
– Я не такой, – спокойно сказал Бернд, его голос прорезал тишину, словно тонкий нож. – Я… Я понял твой страх.
Но мама не ответила. Она даже не повернулась, продолжая вглядываться в темноту за окном. Её спина казалась бесконечно хрупкой. Бернд, с очевидной тревогой, наблюдал за ней. Определённо, его слова задели что—то глубоко запрятанное в её душе, что—то болезненное, пульсирующее. В этом молчании скрывалась горькая правда, о которой он, возможно, даже не догадывался. Определённо Мичи стоило бы ещё поучиться, ведь однажды даже Ганс перестанет верить в её истерики.
Бернд, смяв в руках шапку, проговорил с глубоким сожалением:
– Клэр, я не хотел. Ляпнул не подумав, прости.
Мама почти прошептала, и наш неожиданный родственник подался вперёд, чтобы расслышать:
– Уничтожь его. Убей, разорви, отрави чем-нибудь, но, чтобы я никогда больше его не видела. Никогда!
Бернд изумлённо прошептал в ответ:
– Убить? Отравить? Брата?
– Разве он когда-нибудь был твоим братом? – голос мамы звенел от сдерживаемой ярости. – Он только и мог, что лезть в самую яму, связываясь с никчёмными бандитами. Ни Фрици, ни ты ему никогда не были нужны, иначе он бы пришёл к вам, а не ко мне, и не начал бы пугать моего сына.
Я заметил, как Бернд замер. Видимо, мама не хотела этого говорить, но решилась, чтобы окончательно закрепить свою правоту. Бернд сразу понял, что речь идёт обо мне, и, судя по всему, за то время, что мы занимались с ним, он крепко ко мне привык, хоть и никак не обозначал этого.
– К-как? Адама? Он его трогал? – воскликнул Бернд.
– Мальчик отделался лёгким испугом, – проговорила мама, – но ты понимаешь, что в любой момент этот сумасшедший убьёт его?
Она радовалась, найдя слабое место своего кузена, но радость эту тщательно скрывала. Даже отражение в окне не выдавало её истинных чувств.
Бернд был молод и крепок, широкоплеч с лёгкой, едва пробивающейся бородкой на лице. Большие голубые глаза, обычно искрившиеся уверенностью и нахальством на грани вседозволенности, сейчас смотрели с непривычной серьёзностью. В них читалась прямота, граничащая с детской наивностью. Этот англо-немец, выросший в старой деревушке под Кёнигсбергом, своим появлением сразу вызвал переполох среди горничных. До этого единственным объектом их внимания был старый мажордом Гидеон, чьи ухаживания ограничивались скупыми комплиментами и постоянными обещаниями сладостей. (Гидеон, кстати, должен был выпороть Мичи несколько дней назад за ту провинность с матерью, но так и не появился, проспав зовы хозяйки в своей крохотной келье.) Конюший и садовник вызывали у девушек лишь смех и шутливые перешёптывания, а вот Бернд… Бернд был другим. Высокий, статный… Он обещал стать новым центром всеобщего девичьего внимания. Каково же было их разочарование, когда он, попросил одну из горничных отнести письмо на почту… своей жене. Меня же Бернд подкупил совершенно другим. Я искренне восхищался его знаниями о жизни, захватывающими рассказами о рыбалке на побережье моря, о том, как он босоногим мальчишкой бегал по пляжу, собирая крабов для семьи. За внешней грубоватостью Бернда Смита скрывался нежный, сочувствующий человек. И мне совершенно не хотелось, чтобы он ради меня или маминых манипуляций убивал своего брата, тем более что я знал: Стэн оказался в таком отчаянном положении из-за неё. Даже если это была правда, что сказала мама, умирать он был не должен. Но как предупредить Бернда? Как уберечь его от непоправимой ошибки?
Я совсем забыл о Хелле, о своём дне рождения. Все мысли мои обратились к Бернду.. Сердце бешено колотилось, гоняя кровь по венам. Я бросился в свою комнату, чувствуя, как по спине струится холодный пот. Нужно было что—то сделать, предотвратить трагедию. Я начинал писать, и слова сами собой складывались в строчки, словно рука сама вела перо. Письмо должно было быть простым, понятным, чтобы Бернд, с его прямолинейным характером, без труда понял его смысл.
Стэн Смит… Если он и был безумен, то это безумие было следствием нечеловеческого обращения, следствием жестокости и равнодушия. Виновница всего этого – мать. Она довела его до такого состояния, и теперь должна нести ответственность за свои действия. Стэн не может жить в холодной тени улиц, питаясь остатками с помойки. Он заслуживает тепла, заслуживает питательной, полезной пищи. Заслуживает лечения, а не расправы.
Вот что, наконец, появилось на бумаге:
«Бернд, то, что говорила Клэр, неправда. Она виновата в том, что Стэн оказался в тюрьме. Всё его безумие, вся его злость – это следствие того, что он сделал что—то для неё, а она не помогла ему. Не убивай его. Пусть он станет её наказанием. Ничто и никто не имеет права лишать человека свободы. Он сам отдал ей свою свободу, а ею просто воспользовались»
Рука дрожала, когда я ставил последнюю точку. В этих нескольких строчках была вся моя надежда, вся моя мольба о милосердии. Оставалось только надеяться, что Бернд поймёт, что услышит мой тихий крик о помощи.
Письмо, смятое и переписанное несколько раз, надёжно лежало под подушкой, словно живое существо, ждущее своего часа. Оно хранило в себе мою попытку предотвратить трагедию. Возвращаясь, я шёл, сжимая и разжимая кулаки.
День рождения? Хелла? Все это растворилось в тумане моих тревог, стало неважным, несущественным. Я совершенно забыл о нём, как забывал каждый год, не получая поздравлений. В нашем доме праздники были редким гостем, и я уже привык к этому одиночеству.
И тут, к моему удивлению, я наткнулся на Юдит. Она медленно бродила по коридору, погруженная в задумчивость, словно только что закончила тяжёлый, эмоционально напряженный разговор. Её фигура была окутана тихой печалью, она искала уединения, и мои постукивающие шаги с их гулким эхом, отражающимся от старого паркета, резко нарушили это хрупкое равновесие. Я уже собрался остановиться и обойти её, избегая ненужной встречи, но она остановила меня жестом, лёгким касанием тонкой руки к моему плечу. В этом жесте не было ни холода, ни отторжения, только тихое приглашение к разговору.
– Тебя сегодня не видно, Адам, – проговорила Юдит, её голос звучал обеспокоенно, – ты даже не завтракал.
Её взгляд, обычно искрящийся добродушием, был наполнен заботой, чуть смущённой и нежной. Это было приятно, даже несмотря на лёгкое препирательство, которое всегда сопровождало наши встречи.
– Доброго дня, тётя, – ответил я, – я ходил к маме, но меня по пути отвлекли.
– Сегодня твой день рождения, – Юдит нахмурилась, явно заметила, что—то неладное, – а в доме даже не готовятся к празднику. – Она подвела меня к окну, нежно взяв мою руку, – дай—ка взгляну на тебя, Воронёнок! Твои глаза… просто чудо какое—то! Я таких больших глаз у мальчиков не видела отродясь! А у тебя ещё и ресницы длинные, пушистые… Ну прямо кукла! Вот весу бы тебе набрать… а ты даже не завтракаешь!
Её прикосновения, были самым приятным из всех, что я испытывал, за исключением случайных, мимолётных касаний Хеллы. И это часто печалило меня, особенно когда я знал, что они скоро уедут, что это временное тепло скоро исчезнет. Это было как нежный подснежник, который ты держишь в руках, боясь сломать его хрупкие лепестки.
– Не переживайте о моём дне рождении, тётя Юдит, – проговорил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, хотя внутри бушевали чувства, которые я не умел выражать, – я никогда его не праздную. И не отвоёвывайте этот день как особенный. Достаточно того, что вы помните. А видеть неискреннюю радость… мне до того тошно, что кусок в горло не полезет.
В моих словах была горькая правда, о которой я не хотел даже думать.
– Тогда… позволь хотя бы подарить тебе подарок, – Юдит ответила со смирением, с тихой печалью в голосе, – он придёт уже после нашего отъезда, так как мы не очень давно узнали, что тебя интересует. Прими его и вспоминай о нас чаще. И, конечно, пиши письма.
Я обнял Юдит, крепко и нежно, так тепло, как сын может обнять мать, так, как я никогда не обнимал свою собственную. И в этом объятии я почувствовал свою вину, свою скупость на тепло и привязанность к тем, кто был мне дорог.
Запись 9
Отъезд тёти и кузин, подобно осеннему ветру, принёс с собой лёгкую, едва уловимую печаль и ощущение какой—то недоговорённости, словно недописанная мелодия оборвалась на самой высокой ноте. Благодаря тайне Хеллы, этому нечаянно подслушанному секрету, я заметил во время проводов редкие, украдкой брошенные взгляды Аннелизы на Ганса. Взгляды, полные неясной тоски и немого обожания. И то, как мгновенно розовело её лицо, словно бутон под первыми лучами солнца, когда брат, словно невзначай, дотрагивался до неё. Заметил я и другое – каким ледяным, обжигающе холодным взглядом награждал Ганс Аннелиза в ответ. Взглядом, в котором читалось нескрываемое раздражение и неприязнь.
Отец, обычно скупой на проявление эмоций, в этот раз превзошёл самого себя. Вместо привычной равнодушной маски на его лице расцвела неподдельная теплота и любовь. Он провожал дорогую сестру, словно королеву, осыпая её комплиментами и добрыми наставлениями. В руках он держал чек – щедрый подарок на дорогу, – и всё это под недовольный, испепеляющий взгляд мамы, которая, казалось, вот-вот взорвётся от негодования.
Юдит выразила искренние сожаления, что Мичи так и не вышла из комнаты, чтобы попрощаться. Она назвала её Рапунцель. Но сама заходить к ней не стала, соблюдая приличия и границы чужого личного пространства.
После их отъезда наши дни, как выцветшая от времени картина, снова стали рутинно—бледными и невыносимо скучными. Они тянулись медленно, мучительно, как густая, вязкая патока, обволакивая сознание липкой тоской. Порой, меня посещало странное, почти осязаемое чувство, что я нахожусь в некой временной петле, удушающей серости, из которой нет выхода. Я даже не знал, убил ли Бернд Стэна, исполнил ли он свой кровавый долг, или, быть может, письмо каким-то чудом подействовало на него, пробудив остатки совести. Но по довольному, сияющему лицу матери я понял две вещи: либо он действительно его убил, либо же нагло, бесстыдно солгал. И я искренне, всем сердцем надеялся на второе.
Весна в Пруссии пробуждается рано, словно робкий зверёк после зимней спячки. В феврале уже сходят снега, обнажая чёрную землю, и по дорогам весело бегут ручейки, словно серебряные змейки, сверкающие на солнце. Дети прислуги, маленькие сорванцы, пускают по ним самодельные кораблики, вырезанные из коры, вниз по холму и бегут следом за ними, сломя голову, оглашая окрестности своим заразительным гоготом и пронзительным визгом от переполняющего их маленького, но такого настоящего счастья. Вот же везунчики, – думал я с завистью, – умеющие находить радость в таких мелочах, в таких простых, незамысловатых вещах. Когда-нибудь и их жизнь неизбежно станет рутиной, наполнится грузом забот и тяжких обязательств перед уже их собственной семьёй, которую надо кормить, одевать и обеспечивать, забыв о беззаботном смехе и бумажных корабликах на весенних ручьях.
Детский блеск наивности в глазах, чистая, незамутнённая радость от каждого момента, со временем потускнеет. Затянется плёнкой взрослой усталости, тяжёлым грузом прожитых лет, разочарований и несбывшихся надежд. На смену искреннему удивлению придёт горькая обречённость, ощущение замкнутого круга, из которого нет выхода.
Кто-то, возможно, один из немногих, сумеет вырваться. Вырастет по-настоящему счастливым человеком, найдёт своё место под солнцем, обретёт гармонию и покой. Семья его будет источником радости и поддержки, а не тяжким бременем, как у многих. Он выберется из удушающей нищеты, вырвется из оков беспросветного существования, где каждый день – борьба за кусок хлеба. Больше никогда не будет надрывать спину на тяжёлых, изматывающих работах, ломающих здоровье и отнимающих последние силы. И, конечно же, никогда не позволит своим детям повторить его горькую участь.
Если будет нужно, ради достижения этой цели он станет самым честолюбивым, самым пробивным. Будет карабкаться вверх по карьерной лестнице, не гнушаясь ничем. Станет мелким чиновником, заискивающим перед начальством и презирающим тех, кто ниже. Или же ударится в бизнес, где выживает сильнейший, где царят жестокие законы конкуренции. Он научится предавать, сдавать своих коллег, идти по головам, лишь бы остаться при положении, лишь бы удержаться на плаву и обеспечить себе и своей семье достойную жизнь.
А пока… пока это всего лишь маленькие дети. Беззаботные, чумазые, вымазанные в липкой весенней грязи, словно поросята. Они носятся по двору, прыгают своими большими, до глупости неуклюжими сапогами на вырост по лужам, поднимая фонтаны брызг. Обливают друг друга позеленевшей на солнце, мутной водой, которая пахнет тиной и сырой землёй. Они смеются заливистым, звонким смехом, не подозревая о том, что ждёт их впереди.
Те, на которых сейчас смотрят с брезгливостью, с плохо скрываемым презрением взрослые люди. Те, кто ещё вчера сам барахтался в этой же грязи, сам носил эти же огромные сапоги, сам был таким же чумазым и беззаботным. Но теперь они вырвались, выбились в люди, и прошлое вызывает у них лишь отвращение и стыд. Они смотрят на этих детей и видят в них не будущее, а своё прошлое, от которого так отчаянно пытаются убежать.
Иногда, глядя на них, этих беззаботных сорванцов, я чувствую, как внутри поднимается волна зависти. Острая, обжигающая, почти болезненная. Зависть к их свободе и безграничной, ничем не омрачённой радости. К тому, чего я был лишён с самого раннего детства.
Меня слишком рано, слишком резко окунули в мир взрослых правил и условностей. Слишком рано научили тому, что человек моего круга обязан быть безупречным. Исключительно чистым, аккуратным, словно кукла, которую берегут от малейшей пылинки. Моя одежда, отутюженная до скрипа, должна была забыть, что такое складка или небрежность. Она должна была быть идеальной, как и все мои манеры.
Всегда нужно было помнить о сотне мелочей, держать в голове десятки правил. Следить за тем, как и куда садиться, чтобы не испачкаться, не помять костюм, чтобы не дай бог, не оказаться в неловком положении. На какую проталинку наступать, выбирая единственно верный путь, чтобы не замарать ботинки. Как обниматься, как здороваться – сдержанно, формально, чтобы, опять же, не смять идеально выглаженный сюртук и не нарушить безупречность образа.
И от этой необходимости ежесекундно следить за каждым своим мимолётным движением создаётся гнетущее ощущение неискренности. Все эти тщательно отрепетированные взаимодействия, лишённые тепла и спонтанности, кажутся холодными, безжизненными. На первом месте не порыв души, не искренний жест, а холодность рассудка, расчётливость.
Не то чтобы я был горячим поклонником импульсивности, неистовых страстей и необдуманных поступков. Вовсе нет. Но когда этого совсем нет, лишённых души, возникает мучительное чувство неправильности. Кажется, что эта беззаботная, искренняя, пусть и грязная, и неуклюжая жизнь – единственное настоящее и правильное, среди всего этого напыщенного, чопорного, искусственного, в котором я вынужден существовать.
И вот, в один из тех невыносимо промозглых, серых и тоскливых февральских дней, когда дождь, кажется, проникает не только под одежду, но и в самую душу, раздирая её унынием, к нашему дому подкатила повозка Максимилиана. Громыхая колёсами по мокрой брусчатке, она нарушила привычную тишину, царившую в нашем поместье.
Мы всем семейством, как это обычно и бывало в такую погоду (разумеется, кроме Мичи, которая уже вечно пропадала, следуя своей обиде в прохладных стенах её комнаты), расположились возле камина в гостиной. Царила гнетущая, гробовая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров. Каждый был погружен в свои мысли, вязкие и тягучие, соответствующие февральской слякоти.
Отец, погруженный в глубокую задумчивость, сидел уже в своём любимом кресле, устремив взгляд в пламя. Его глаза, обычно живые и проницательные, сейчас были подёрнуты пеленой усталости. Он задумчиво, почти машинально, постукивал указательным пальцем по резной ручке кресла, будто отсчитывая секунды, оставшиеся до долгожданного избавления от дневной тоски. Тяжёлые веки то и дело смыкались, выдавая его отчаянную борьбу с подступающей сонливостью, но он упрямо не сдавался, будто боясь пропустить что—то важное.
Мама, как всегда, расположилась рядом с отцом в кресле поменьше. В руках у неё была одна из тех толстых книг в потёртых переплётах – какая—то классика, которую она перечитывала уже в который раз. Её взгляд скользил по строчкам, но губы оставались безмолвными. Она лишь изредка, будто машинально, поправляла то шаль, небрежно накинутую на плечи, то складки на своей юбке из плотной шерсти. Эти маленькие, отточенные движения, казалось, были единственным проявлением жизни в её застывшей фигуре.
Ганс, изнывая от скуки, стоял у окна. Его взгляд был прикован к унылому пейзажу за стеклом. Серость, бесконечная почти сизая пелена дождя, сливающаяся с таким же серым небом. И мелкая, противная изморось, которая с каждым порывом ветра яростно билась в стекло, оставляя на нем мутные разводы. Казалось, он ищет хоть какое—то разнообразие в этом царстве уныния, но находит лишь отражение собственной тоски.
– Может быть, мне все-таки стоит уйти? – голос Ганса прозвучал неуверенно, почти робко. Он нервно теребил пуговицу на рукаве камзола, а потом и вовсе спрятал руки за спину, словно пытаясь скрыть своё волнение.
– Неужели ты не хочешь побыть со своими родителями и братом? – мама, не отрываясь от книги, произнесла эти слова спокойно, почти равнодушно. В её голосе не было ни упрёка, ни вопроса, лишь констатация факта, давно известного и не требующего обсуждения.
– Я не могу наслаждаться Вашим обществом, пока Мичи болеет, – в голосе Ганса прорезалась едва уловимая дрожь. Он явно пытался воззвать к материнскому состраданию, надеялся, что смягчит её сердце. Но мама даже не повела бровью и не подняла глаз от книги. Её лицо оставалось бесстрастным.
– Альберт, ты скажи что-нибудь, как отец! – не выдержав, мама резко захлопнула книгу. В её голосе зазвенело неприкрытое раздражение, граничащее с негодованием. Она буквально впилась взглядом в отца, требуя от него немедленного вмешательства, авторитетного отцовского слова.
– Он поедет в Оксфорд к началу учебного года. А сейчас, Клэр, будь добра, не трогай меня, – отец, не меняя позы, заговорил медленно, с расстановкой. Его голос звучал глухо, устало. Он достал из кармана жилета свою любимую трубку, принялся неторопливо набивать её табаком, тщательно разминая пальцами каждый комочек. Наконец, причмокнув губами, он поднёс трубку к тлеющему в камине угольку и с наслаждением затянулся, выпуская в воздух густое облако ароматного дыма. Его слова прозвучали как приговор, не подлежащий обжалованию. Решение принято, и точка.
Хотелось бы мне знать, что за мысли посещали его в тот момент. Что на самом деле скрывалось за этой усталой отрешённостью? Была ли причина его отстранённости той же, что терзала и меня?
Но в отце, в отличие от меня, чувствовалась не просто отчуждённость, а какая—то всепоглощающая, гнетущая усталость от жизни. Будто семья… Мама, вечно погруженная в свои книги и не замечающая ничего вокруг. Мичи, со своей загадочной болезнью, приковавшей её к постели. Ганс, с его юношеским максимализмом и бунтарским духом. И я, со своей неспособностью вписаться в эту чопорность, – все мы были для него не опорой и поддержкой, а камнем на шее, тянущим на дно.
Мне кажется, что глубокая, всепоглощающая апатия у него, началась после смерти дедушки. Будто со смертью Эдварда из жизни отца ушло что—то очень важное, что—то светлое и жизнеутверждающе, что поддерживало его на плаву все эти годы. И вправду, дедушка был самым светлым из всех нас, несмотря на офицерскую строгость. С его уходом этот свет погас, оставив отца наедине с его усталостью и разочарованием.
Ганс, казалось, уже смирился со своей участью. Он не проронил ни слова против решения отца, не стал спорить или возражать. Принял все как должное, как неизбежное. Более того, я стал замечать перемены в его поведении. Он все чаще и чаще сидел за учебниками, корпел над книгами, что раньше за ним не водилось. Его постоянные походы к Мичи, и все эти тайные визиты, полные «братской любви» и заботы, прекратились. Я надеялся, что Ганс понял, что его бунтарство ни к чему не приведёт, и решил покориться судьбе, по крайней мере, на время.
Он резко качнул головой, стряхивая с себя наваждение грустных мыслей. Взгляд его прояснился, и в следующее мгновение он увидел, как к дому подкатывает экипаж Максимилиана. Я тоже заметил его прибытие и не мог не отметить с каким аристократическим изяществом и врождённой грацией и лёгкостью он покидает карету, ловко спрыгивая на мокрую брусчатку. Сразу же, немедля ни секунды, он отдал чёткие, отрывистые приказания конюху, который почтительно склонился, встречая своего хозяина.
Максимилиан был рослым, статным молодым человеком, гораздо старше Ганса, уже не мальчик, но муж. Полнощёкое, почти круглое лицо, обрамлённое пышной копной пшеничных волос, придавало ему добродушный вид, но создавало обманчивое впечатление. Сам Максимилиан отнюдь не был толстяком, скорее, его можно было назвать крепким, плотно сбитым. Костюм, безупречно сидящий на его фигуре, и накинутый поверх него серый макинтош, сшитые, без сомнения, лучшими портными Пруссии, придавали его облику особый шарм исключительно аккуратного, педантичного человека, внимательного к деталям и ценящего качество.
Едва только звук подъезжающего экипажа донёсся до гостиной, как мама, сидевшая до этого без движения, словно статуя, вдруг ожила. Прежняя апатия слетела с неё, как по волшебству. Лицо мгновенно посветлело, на пухлых губах расцвела широкая, радушная улыбка. Книга, ещё недавно занимавшая все её внимание, была небрежно отброшена в сторону, забытая и ненужная. Теперь все её мысли, все её существо было устремлено к одному – к встрече дорогого гостя.
Она немедленно принялась действовать, отдавая распоряжения, как и подобает хозяйке дома. Сначала она заставила «проснуться» всех нас, словно мы все это время пребывали в глубоком сне, в оцепенении, и не могли пошевелиться без её команды. Нам было велено встретить господина Дресслера с подобающими почестями, как и следует встречать столь знатного и уважаемого человека. Затем, не теряя ни минуты, она зычным голосом приказала слугам немедленно подавать на стол, накрывать лучший сервиз, доставать из погреба самые изысканные напитки. Дом наполнился суетой и оживлением, как разбуженный утренним солнцем улей
– Примите наши соболезнования в связи со смертью господина Дресслера, – сказала мать.
– Спасибо, – кивнул Максимилиан. – Мы хоть и не были близки, я любил его. Ваши слова, правда, очень мне были необходимы.
Пока родители, рассыпаясь в любезностях, обменивались с Максимилианом приветственными комплиментами, я украдкой, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, рассматривал его. Взгляд мой, полный немого любопытства и едва скрываемого скепсиса, скользил по его просветлённому знаниями лицу. Я невольно размышлял о том, насколько же неискренним, насколько лживым должен быть человек, чья одежда никогда, ни при каких обстоятельствах не мнётся, оставаясь идеально гладкой, словно только что из-под утюга. Каждое его движение, казалось, были отрепетированы до мелочей, лишены всякой естественности и спонтанности.
Видимо, мой пристальный, изучающий взгляд не ускользнул от его внимания. Дресслер на мгновение прервал разговор с родителями и, повернувшись в мою сторону, окинул меня оценивающим взглядом. Взгляд этот был холодным, проницательным, проникающим в самую суть. Затем он коротко, едва заметно кивнул в знак приветствия, и этот кивок, лишённый всякой теплоты и радушия, был скорее формальностью, нежели искренним жестом.
И тут в моей памяти всплыло воспоминание о том дне, когда Максимилиан впервые переступил порог нашего дома. Единственным человеком, кто отреагировал на его появление не сдержанным почтением, а искренним, заразительным смехом, была Мичи. Её звонкий, почти детский смех, такой неуместный, он прозвучал тогда диссонансом, нарушив привычный ход вещёй.
Не удостаивая Кесслеров, то есть нас, долгими разговорами, которые, вероятно, казались ему пустыми и утомительными, Максимилиан, осведомившись о местонахождении Мичи, сразу же направился к ней. Он знал, что она уже давно не покидает свою комнату, прикованная к постели своей таинственной болезнью. Но, похоже, его ничуть не смущала возможность застать её не в самом лучшем виде, не в парадном платье, не с идеально уложенной причёской, а слабой, измождённой, возможно, даже не до конца одетой. Он шёл к ней не как к светской даме, а как к больному, страдающему человеку, которому нужна помощь и поддержка. И в этом, пожалуй, было больше искренности, чем во всех его безупречных манерах и гладких речах.
Целых сорок минут, показавшихся мне вечностью, мама, не в силах совладать с собой, металась по гостиной к лестнице на второй этаж и смотрела на неё снищу вверх. Она то и дело резко останавливалась, заламывала руки, а потом снова начинала свой беспокойный путь из одного конца комнаты в другой. Все её внимание было занято одним – визитом Максимилиана и его последствиями.
Она громко, не стесняясь присутствия слуг, рассуждала вслух о том, какая Мичи неблагодарная, бессердечная дочь. Как она посмела не выйти к столь важному гостю! Не спустилась вниз, едва заслышав стук колёс его экипажа, едва завидев его приближение ещё за горизонтом! Ведь это был, возможно, её единственный, последний шанс на удачное замужество. И какой же господин Дресслер необычайно терпеливый, великодушный человек, что не развернулся на пороге, не уехал восвояси, оскорблённый таким пренебрежением. Он дал Мичи огромнейший, поистине бесценный шанс сделаться госпожой Дресслер, войти в его семью, получить положение в обществе.
Отец тем временем, полностью отрешившись от происходящего, погрузился в чтение книги, той самой, которую мама в порыве чувств небрежно бросила на столик. Он вновь обрёл своё привычное спокойствие. Дым от его трубки поднимался к потолку, создавая причудливые узоры, а сам он, устроившись поудобнее в кресле, мерно покачивал носком ботинка, как часы с маятником. Казалось, что громкий, полный негодования монолог мамы ничуть его не отвлекает, погруженного в глубины увлекательного повествования.
Ганс же, наоборот, ещё больше сник и потускнел, словно свеча, которую забыли зажечь. Он занял самое незаметное место в комнате – угловое кресло, почти полностью скрытое от посторонних глаз высокими вазами с раскидистыми крупнолистовыми растениями. Там, в своём импровизированном убежище, он сидел, затаившись, стараясь стать как можно меньше, незаметнее, словно надеясь, что это поможет ему избежать неминуемой участи. Он безмолвно, с обречённостью в глазах, ждал, когда решится судьба Мичи, а вместе с ней и его собственная.
Ганс был единственным из нас, кто по—настоящему боялся этого брака и, всем сердцем не хотел, чтобы Мичи стала женой Максимилиана. В его глазах во всю бушевал немой протест, который он не смел озвучить, понимая всю бесполезность любых возражений.
Внезапно, нарушив гнетущую тишину, раздались шаги. Легкие, стремительные, почти неслышные, но безошибочно узнаваемые. Кто—то торопливо спускался по лестнице, и этот звук, казалось, эхом отозвался в каждом уголке дома, заставив всех замереть в ожидании.
А затем послышалось нежное, едва различимое перешёптывание, прерываемое вздохами и тихим смехом. Два голоса, мужской и женский, сплелись в неразрывную мелодию:
«Осторожнее, Микаэла, прошу вас, будьте внимательнее, вы же так давно не выходили, так легко оступиться… Не дай бог, шею свернёте,» – голос Максимилиана звучал взволнованно, в нем слышалась неподдельная забота.
«Не бойтесь, Максимилиан, прошу вас, не тревожьтесь, уверяю вас, я совершенно бодра, легка, как пёрышко, и совсем—совсем уклюжа,» – голос Мичи, напротив, был полон веселья, задора, в нем звенела та самая, давно забытая нами, беззаботная радость.
И вот, словно видение, Мичи появилась в гостиной. Ганс, сидевший до этого неподвижно, как изваяние, тут же вскочил на ноги, потрясённый увиденным. Его взгляд, полный тревоги и беспокойства, метался по её лицу, осунувшемуся и побледневшему за время болезни. Он искал в её глазах привычную тусклость, но вместо этого увидел нечто совершенно иное.
В яркой, пронзительной зелени её глаз плескалось счастье. Неподдельное, искренне, почти детское. Губы её, бледные и тонкие, раскрылись в робкой, едва заметной полуулыбке, а сама она, казалось, излучала какой—то внутренний свет, преобразивший её до неузнаваемости. Мичи то и дело бросала на меня быстрые, лукавые взгляды, полные благодарности и понимания.
Очевидно, у неё было достаточно времени, чтобы обдумать мой совет, принять его, не как навязанное мнение, а как собственное решение. И она поступила мудро, не поддавшись ни уговорам, ни давлению, а прислушавшись к голосу своего сердца. Она сделала свой выбор, и этот выбор, вопреки всему, принёс ей счастье.
– Господин и госпожа Кесслер, – Максимилиан, слегка склонив голову, обратился к родителям. Его голос звучал торжественно, но в то же время мягко, с едва уловимой теплотой. Он нежно приобнял Мичи за талию, и этот жест, полный влюблённой нежности, говорил больше любых слов. – Я бы хотел, преисполненный уважения и робости, просить у Вас руки вашей прекрасной, замечательной, доброй, светлой дочери. Смею заверить Вас, что Микаэла будет жить со мной счастливо, ни в чем не зная нужды, окружённая заботой и вниманием. Она будет вести светскую жизнь, как и положено даме её положения, и, конечно же, будет безмерно любима мной.
Мичи же, казалось, совершенно не замечала Ганса. Будто он был пустым местом, недостойным её внимания. Она смотрела только на Максимилиана, и в её взгляде, полном обожания, читалась безграничная преданность и любовь.
Игнорирование Мичи, её полное безразличие к его чувствам, больно ранило Ганса, вывело его из себя. В порыве ярости, не в силах сдержать свой гнев, он с силой толкнул ближайшую к нему некрупную вазу с цветком. Та с грохотом упала на пол, разлетевшись на мелкие осколки. Не говоря ни слова, брат стремительно развернулся и, чеканя шаг, бросился прочь из этого дома и от этой, ставшей ему чужой, семьи.
– Конечно, господин Дресслер. Мы несказанно рады и даже безмерно счастливы, что наша дочь станет женой такого замечательного, благородного человека, как Вы, – голос отца, полный неподдельной радости и облегчения, прервал затянувшееся молчание. – Не будем тянуть со столь радостным событием и сыграем свадьбу в самое ближайшее время. Как Вам летом, господин Дресслер?
–Нет, благодарю вас, но летом я, к сожалению, отбываю по делам в Санкт-Петербург, в Россию, к графу Шуле. И я бы счёл за честь, представить ему свою любимую, очаровательную супругу. Поэтому, если вы не возражаете, давайте устроим торжество в апреле? – Максимилиан ответил учтиво, но твёрдо, не допуская возражений.
– В апреле? О, тогда нужно начинать приготовления уже завтра! Немедленно! – Мама, казалось, была на седьмом небе от счастья. Её голос звенел от радости, а в глазах плясали искорки восторга. Она уже видела Мичи замужем, в роскошном платье, в окружении знатных гостей, и эта картина наполняла её сердце ликованием.
За обеденным столом, накрытым на скорую руку, но со всей возможной роскошью, Ганса не было. Его отсутствие, казалось, никого не смутило, кроме меня. Я оказался сидящим прямо напротив Максимилиана, который, вместо того чтобы наслаждаться изысканными яствами, с живым любопытством рассматривал интерьер столовой.
Столовая была оформлена в пышном античном стиле, призванном подчеркнуть статус и утончённый вкус хозяев. Взгляд Максимилиана, цепкий и внимательный, скользил по уменьшенным копиям прославленных скульптур, украшавшим комнату: вот Венера Милосская, символ вечной красоты, вот стремительная Артемида с луком, вот прекрасный Аполлон с лирой. Затем его внимание переключалось на полотна, украшавшие стены – репродукции и оригиналы, изображавшие, как казалось, сюжеты, исключительно ценимые знатоками искусства. Вот творение Тьеполо, мастера венецианской школы, вот яростное «Неистовство Ахилла», исполненное драматизма и экспрессии, и многое, многое другое, названия которых я не запомнил или не знал. После, его взгляд перемещался на колонны, поддерживающие высокий сводчатый потолок. Колонны были обвиты искусно выполненными золотыми виноградными лозами – тончайшая работа итальянских кузнецов, предмет особой гордости отца. И, наконец, описав полный круг, взгляд Максимилиана снова останавливался на мне, пристальный, изучающий.
– Я, смею предположить, вызываю в Вас, весьма живое, неподдельное любопытство, Адам? – Максимилиан, наконец, прервал затянувшееся молчание. Он полностью развернулся в мою сторону, игнорируя остальных присутствующих, и теперь смотрел на меня в упор. В его голосе слышалась лёгкая ирония, но глаза оставались серьёзными.
– Признаться, да, Вы правы. Я с большим интересом слушал Ваши беседы с отцом, полные глубоких мыслей и метких замечаний. Вы, без сомнения, человек выдающегося, прекрасного ума, и Ваше суждение всегда остро и нетривиально. И все же, при всем моем уважении, для меня остаётся загадкой Ваше столь поспешное желание связать себя узами брака с моей сестрой, Микаэлой. С Вашим проницательным умом, казалось бы, Вам стоило быть куда более избирательным— я произнёс это с лёгкой, едва заметной улыбкой, стараясь скрыть за ней своё истинное отношение к происходящему. И, к своему тайному удовлетворению, заметил, как на щеках моего будущего зятя проступил лёгкий румянец смущения.
– Вы думаете, этот брак обречён? – в голосе Максимилиана послышалась едва уловимая тревога, он слегка нахмурился, словно мой вопрос задел за живое.
– О нет, что Вы, вовсе нет! Просто… Хотелось бы искренне надеяться, что именно Вы, господин Дресслер, тот самый единственный, неповторимый человек, что способен, наконец, вразумить эту упрямую, своенравную рыжую козочку и направить её энергию в нужное русло, – я постарался вложить в свои слова максимум теплоты и дружелюбия, чтобы сгладить резкость предыдущего замечания.
– Увы, мой друг, боюсь, Вы заблуждаетесь, полагая, что острый ум – надёжная защита от женских чар. Должен Вас разочаровать: даже самые гениальные мыслители крайне редко остаются неподвластны женскому очарованию. Перед ним пасуют, как перед неведомой силой, и мудрецы, и глупцы. Разве что, убеждённые содомиты, чуждые женской прелести… Да и те, поверьте, рассматривают женскую красоту, как нечто, если не божественное, то, по крайней мере, дарованное небесами, достойное восхищения, – Максимилиан произнёс это с абсолютно серьёзным лицом, но глаза его, живые, лукаво искрились весёлым, озорным смехом. Они будто говорили, без слов, одними лишь взглядами: «Не обольщайся, мой друг, и ты попадёшься в эти сети, как и многие до тебя и после тебя».
Поверьте, когда я говорил об уме Максимилиана, мои уста не кривила даже тень лести. Это был лишь сухой, беспристрастный отчёт, подобный протоколу учёного. И, надо признать, обеденный стол в тот день превратился в подобие дискуссионного клуба, где Максимилиан, без сомнения, играл первую скрипку. Он и отец вели оживлённую беседу, погружаясь в дебри политических интриг вокруг Вильгельма. Имя Бисмарка звучало рефреном, словно молитва, призванная подчеркнуть его неоценимый, почти божественный вклад в процветание Пруссии.
Максимилиан же, в свою очередь, с жаром доказывал, что является пламенным патриотом своей родины. Его речи, полные пафоса и убеждённости, лились непрерывным потоком, не давая усомниться в искренности его чувств. Впрочем, эта пламенная любовь к отечеству ничуть не мешала ему с не меньшим энтузиазмом обсуждать и последние научные достижения, в частности, открытие нового химического элемента, который, как по иронии судьбы, получил имя "Германий" – в честь столь обожаемой им страны.
Не обошлось и без вестей из-за рубежа. Максимилиан, будто заправский политический обозреватель, поведал нам о делах, творящихся в стенах британского парламента, где, по его словам, заседал некий его приятель. Все эти темы, безусловно, интересные, но, признаться, некоторые из них пролетали мимо моего сознания, не оставляя в нем никакого следа.
Я был слишком погружен в собственный клубок переживаний, который тугим узлом стягивал мою душу после недавних событий. Лишь изредка я отрывался от этого внутреннего диалога и украдкой бросал взгляд на матушку. Она же, словно искусная актриса на подмостках, разыгрывала перед нами спектакль под названием "Безмятежность". На её лице не дрогнул ни один мускул, ничто не выдавало в ней и тени волнения или раскаяния. Словно ничего и не произошло, она щебетала с Мичи, изливая на неё потоки слащавой, почти тошнотворной любви.
В глазах сестры, в ответ на эту лицемерную нежность, заблестели слезы. Слезы не умиления, о нет! Это были слезы жгучей обиды, разъедающей душу, как кислота. Я был абсолютно уверен, что, будь у Мичи хоть малейшая возможность, она бы выплеснула в лицо матери всю накопившуюся горечь, обвинила бы в двуличии и фальши. Но, увы, рука Максимилиана, сжимавшая её ладонь, лишала её этой возможности. Этот жест, полный собственничества, казалось, отнимал у неё не только свободу движений, но и сам дар речи. Он заставлял её молчать, покоряться, играть по чужим правилам, соблюдать эти ненавистные приличия, даже если внутри все восставало против этого фарса.
А, возможно, Мичи и не противилась особо. Возможно, она терпела это представление ради лишь одной цели – поскорее вырваться из-под гнёта родного дома. Сбежать туда, где её, наконец, признают королевой. Туда, где она сможет безраздельно царить, устраивая истерики и плетя интриги, не опасаясь, что кто—то посмеет оспорить её первенство. Туда, где она, наконец, станет главной героиней своей собственной, пусть и слегка нездоровой, драмы. И, признаться, я не мог её за это винить.
Запись 10
Порой я часами застываю над девственно—чистыми листами бумаги, тщетно пытаясь извлечь из глубин сознания хоть одну достойную мысль. Перо безвольно замирает в моей руке, отказываясь выводить изящные завитки букв на белоснежной глади. А ведь, если присмотреться, страницы уже густо исписаны – не словами, так пустотой, которая, впрочем, тоже весьма красноречива. Чернильница, кажется, взирает на меня с немым укором, как безмолвный судья, выносящий приговор моей писательской несостоятельности, тогда как на дворе 1886 год, а я всё бьюсь над белым листом.
Наверное, к этому моменту у вас уже сложилось некое, возможно, весьма противоречивое мнение обо мне и обитателях этого дома, ставшего для меня одновременно и крепостью, и тюрьмой. Признаюсь, меня греет мысль о том, что я не просто изливаю душу на бумагу, а веду некий диалог с вами, моими потенциальными читателями. Мне нравится эта иллюзия общения, нравится сознавать, что эти строки, возможно, когда-нибудь коснутся чьей—то души, отзовутся в ней пониманием или хотя бы лёгким любопытством.
Быть может, ваша жизненная ситуация окажется зеркальным отражением моей, и тогда этот мой сбивчивый рассказ полный недомолвок и сарказма, послужит вам чем-то вроде путеводной звезды. Глядя на мои ошибки, на те грабли, на которые я с завидным упорством продолжаю наступать, вы сможете сделать свои, куда более мудрые выводы. И, вооружившись этим знанием, сумеете изменить ситуацию в собственном доме, превратив его из клетки в уютное гнездо.
Впрочем, не буду лукавить, вероятность такого исхода ничтожно мала. Скорее всего, вы обнаружите эти записки слишком поздно, когда все мосты будут сожжены, а пепелище остынет. Или же, что ещё вероятнее, история моей семьи покажется вам настолько далёкой и чуждой, что не вызовет ничего, кроме лёгкого недоумения. Что ж, в таком случае, я могу предложить вам лишь одно – откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь этой феерической катавасией, разворачивающейся посреди цветника, где благоухают не розы, а ядовитые соцветия социопатии, где вместо солнечного света – мрак депрессии, а по дорожкам, вместо беззаботных детей, бродят слабовольные, слепые котята, не видящие дальше собственного носа. Добро пожаловать в мой мир, дамы и господа, представление начинается!
Мало-помалу, слово "семья" стирается из моего лексикона, превращаясь в чужеродный, режущий слух звук. Слишком уж оно… неправильное, незаслуженно высокое для обозначения этого сборища, этого, с позволения сказать, коллектива. Ведь семья – это не просто набор букв, это, прежде всего, ответственность. Ответственность друг за друга, за общее благо, за тепло домашнего очага. А здесь… Здесь этим и не пахнет. Ни в ком из них (и возможно даже во мне) нет и никогда не было ни капли этой самой ответственности, словно она была ампутирована при рождении, как ненужный атавизм.
Поэтому все чаще я сбегаю из этой обители, наполненной вечными вздохами, жалобами и сожалениями. Облачаюсь в самую простую, самую дешёвую рубаху, купленную на последней ярмарке, и, словно призрак, покидаю опостылевшие стены.
Меня манят рабочие кварталы Берлина, они, как пульсирующие артерии города, где жизнь бьёт ключом, не обращая внимания на условности и приличия высшего света. Я брожу по узким улочкам, жадно впитывая в себя какофонию звуков: пронзительный визг ребятишек, играющих в салочки среди штабелей дров, мерный стук колёс телег, тяжело гружёных углём или кирпичом, надсадный, раздирающий грудь чахоточный кашель, доносящийся из-за полуоткрытых дверей, и, конечно же, сочную, многоэтажную брань, которую не стесняются извергать портовые грузчики и фабричные работницы.
Весна уже пришла, освободив землю от зимних оков. Оттаявшие дороги источают резкий, бьющий в нос запах мочи. Он стоит в воздухе плотной, осязаемой завесой, смешиваясь с терпким ароматом каучука, который везут на подводах к мастерским, и удушливым смрадом гудрона, которым заливают трещины на мостовой. Эта смесь запахов, такая грубая, такая… настоящая, кружит мне голову, заставляя забыть о затхлой атмосфере "родного" дома. Здесь, среди простого люда, среди шума и суеты, я чувствую себя живым, настоящим, а не бледной тенью, скользящей по паркету гостиной под укоризненными взглядами родственников. Здесь никто не требует от меня соответствовать некоему эфемерному идеалу, здесь я могу быть самим собой, пусть даже и облачённым в дырявую рубаху.
И вот, в очередной раз, я бреду по обочине, вдыхая сырой вечерний воздух. Мимо меня, словно бесшумная тень, проскальзывает фонарщик, ловко орудуя своим шестом, зажигая один за другим газовые фонари. Они вспыхивают мягким, желтоватым светом, разгоняя сгущающийся сумрак и отбрасывая причудливые тени на мостовую.
Я же, с каким-то щенячьим восторгом в глазах и бесконечным, почти благоговейным уважением, наблюдаю за крепкими, кряжистыми рабочими, возвращающимися домой с фабрики, расположенной на самой окраине Берлина. Их фигуры, словно высеченные из гранита, излучают силу и уверенность. От них веет надёжностью, той самой, которой так не хватает в богатой общине.
Дойдя до развилки, рабочие, как по команде, сворачивают в сторону бара, откуда уже доносится задорный женский смех, перемежающийся с густым мужским гоготом. В окнах многих домов вдоль улицы ещё не зажжены свечи, и это верный знак – бродить между ними сейчас, в поисках хоть какой—то искорки жизни, было бы пустой тратой времени. И я, повинуясь какому-то внутреннему порыву, тоже направляюсь в сторону бара, следуя за этой шумной, пропахшей потом и машинным маслом толпой.
Переступив порог пивного бара "У Фрица", я мгновенно окунаюсь в дымный полумрак, насыщенный густыми, басовитыми голосами и звонким стуком кружек. Закопчённые стены, увешанные охотничьими трофеями – оленьими рогами и пожелтевшими от времени афишами, – кажется, насквозь пропитались запахом хмеля, кисловатого пота и дешёвого табака. Этот въедливый аромат, скопившийся здесь за долгие годы, щекочет ноздри и кружит голову.
Тяжёлые, массивные столы из тёмного дерева, истёртые локтями и кружками до блеска, сплошь заняты рабочим людом, завершившим свою нелёгкую смену на фабриках и шахтах. Мужчины в грубых, холщовых рубахах и залатанных, засаленных штанах, с лицами, покрытыми угольной пылью и неизбывной усталостью, жадно припадают к запотевшим кружкам с пенным пивом. Густая, кремовая пена оставляет забавные белые усы над потрескавшимися, обветренными губами, а живительный хмельной напиток, кажется, ненадолго смывает с них не только грязь, но и тяжкий груз прожитого дня, наполненного монотонным трудом и лишениями. Здесь, в этом прокуренном, шумном зале, они, наконец, могут расслабиться, сбросить с плеч бремя забот и хоть на несколько часов забыть о тяготах своего нелёгкого бытия. И я, затерявшись среди них, чувствую себя на удивление… своим.
В самом дальнем углу, куда едва добирался мерцающий свет единственной газовой лампы, расположилась компания шахтёров. Угольная пыль, казалось, намертво въелась в их кожу, одежду, волосы, делая их похожими на выходцев из преисподней. Они ещё не успели отмыться от этой черноты, но, похоже, нисколько не тяготились этим, громко, раскатисто смеясь и пересказывая друг другу байки о своей нелёгкой, опасной работе, перемежая их забористой руганью и крепкими словечками.
Рядом, за соседним столом, покрытым клетчатой скатертью, двое пожилых ремесленников, склонившись над шахматной доской, вели неспешную партию. Их лица, изборождённые глубокими морщинами, были сосредоточены, а движения неторопливы и выверены. Они изредка обменивались короткими, ёмкими замечаниями, понятными лишь им двоим, и вновь погружались в молчаливое созерцание разворачивающейся на доске битвы.
За длинной, отполированной до блеска стойкой, суетился хозяин заведения – тучный, дородный Фриц с пышными, закрученными кверху усами и красным, как у варёного рака, лицом. Он ловко орудовал льняным полотенцем, протирая им и без того чистые кружки, и зорко следил за порядком. Его зычный, командирский голос то и дело раздавался над общим гомоном, по—отечески журя перебравших посетителей или подливая пиво постоянным клиентам, которых он, казалось, знал не только по именам, но и по привычкам.
В воздухе витал особый, ни с чем не сравнимый дух – дух тяжёлой, изнурительной работы, беспросветной бедности, но в то же время и какой—то неистребимой, бьющей через край жизненной силы. Эти мужчины, собравшиеся сегодня вечером в баре "У Фрица", были всего лишь винтиками в огромной, безжалостной промышленной машине города и страны. Но здесь, за кружкой дешёвого пива, они могли на время забыть о своих тяготах, о монотонном лязге станков и грохоте шахтных вагонеток. Здесь они могли поделиться друг с другом последними новостями, поспорить о политике, поругать императора или просто от души посмеяться над какой—нибудь незамысловатой, но понятной каждому шуткой.
Здесь царила та самая искренность, которой мне так не хватало в моём окружении. Эта грубоватая, но честная среда и воспитала Бернда таким, каким я его узнал и к которому, сам того не замечая, привязался всей душой.
– Эй, малец, ты чего, первый раз здесь, что ли? – внезапно раздался над моим ухом голос Фрица, приправленный ярким, колоритным баварским акцентом. Хозяин заведения, хитро прищурившись, скрутил кончик усов.
– Ага, гулял малясь, заблуждал, – стараясь подражать манере речи Бернда, ответил я и, собравшись с духом, подошёл к стойке. Положив на неё руки, перепачканные дорожной пылью, я снял с головы фуражку и пригладил непослушные волосы пятерней.
– Устроился на работёнку, батю лошадь раздавила, на мне две сестры и братишка, двух лет. Бродил, бродил, замёрз, – продолжил я, на ходу сочиняя жалостливую историю, надеясь влиться.
Фриц, не говоря ни слова, сноровисто наполнил до краёв большую глиняную кружку, увенчав её шапкой густой пены, и поставил передо мной на стойку. Кружка тут же покрылась капельками холодного конденсата. Он слегка подтолкнул её в мою сторону, мол, пей, пока пена не осела, и на все мои робкие протесты лишь грозно сверкнул своими маленькими, похожими на изюминки, карими глазками, не терпящими возражений.
– Угощаю, парень. Обидеть старика хочешь? – Фриц с нарочитой строгостью сдвинул густые, кустистые брови к переносице, изображая вселенскую обиду. Спорить с ним, особенно в таком тоне, не было никакого желания.
Я, словно цыплёнок, робко обхватил тонкими, ещё не загрубевшими от работы пальцами прохладную, шершавую ручку тяжёлой кружки и с опаской поднёс её к губам. Сделал небольшой, пробный глоток, и язык тут же ощутил приятную, лёгкую горечь обжаренного солода, смешанную с едва уловимой сладостью. Пышная пена, словно мягкая вата, тут же осела на моих ещё не знавших бритвы усах, оставляя забавный, щекочущий след. Когда я, немного осмелев, поставил кружку обратно на стойку, Фриц не выдержал и раскатисто, по-доброму рассмеялся, по-отечески взъерошив мои волосы своей широкой, мозолистой ладонью.
Хмель, как коварный и ласковый обманщик, почти мгновенно ударил в голову, и приятная, расслабляющая нега медленно, но, верно, растеклась по моим конечностям, наполняя тело истомой. Я обнаружил, что застыл на месте с глуповатой, но искренней улыбкой на лице, поглаживая большим пальцем ребристую поверхность кружки, словно лаская любимый музыкальный инструмент.
И в этот самый момент, когда я, казалось, полностью растворился в мимолётном, но таком упоительном ощущении покоя и беззаботности, все волшебство разбилось вдребезги, как хрупкая стеклянная игрушка. Прямо передо мной, словно материализовавшись из воздуха, опустилась на стойку маленькая, отпечатанная в местной типографии листовка. Её появление было столь внезапным и резким, что я невольно вздрогнул, возвращаясь из мира грёз в суровую реальность.
!! РАБОЧИЕ ПРУССИИ, ПРОБУДИТЕСЬ!!!
Долго ли будем терпеть гнёт капиталистов?
Каждый день мы гнём спины на фабриках и шахтах, строим богатство для кучки бездельников, а сами влачим жалкое существование!
Хватит кормить чужие карманы!
Мы требуем:
– 8-часовой рабочий день! Долой изнурительный труд до изнеможения!
– Справедливую оплату труда! Хватит получать гроши за наш тяжёлый труд!
– Достойные условия работы! Мы не рабы, чтобы трудиться в опасных и нездоровых условиях!
– Право на объединение! Вместе мы – сила! Только солидарность поможет нам добиться своих целей!
Не будь рабом, будь человеком!
Вступай в ряды борцов за свои права! Вместе мы добьёмся лучшей жизни для себя и своих детей!
Вперёд, к борьбе за справедливость!
Союз рабочих Пруссии
P.S. Распространяйте эту листовку среди своих товарищей! Пусть каждый рабочий узнает о своих правах и присоединится к борьбе!
Фриц, на мгновение потеряв ко мне всякий интерес, отвернулся. Его голос снова загремел над залом – это один из рабочих, уже изрядно захмелевший, требовал добавки, размахивая пустой кружкой и грозясь, что уйдёт к конкурентам, если его не обслужат сию же минуту.
Пока хозяин был занят, я принялся лихорадочно, беглым взглядом искать в толпе того, кто так бесцеремонно прервал моё мимолётное блаженство, подсунув эту листовку. И, наконец, мои глаза зацепились за юркую, щуплую фигурку, которая, словно нашкодившая кошка, быстро сворачивала что—то, похоже на листовки. Это была девчушка, одетая в поношенное, явно с чужого плеча, платье. Она торопливо сунула руку за пазуху своего ветхого одеяния, видимо, пряча туда оставшиеся листовки, и, убедившись, что осталась незамеченной, шмыгнула, серой мышкой, в узкий коридор между столиками, ловко лавируя меж прибывающих в бар рабочих.
Я торопливо не глядя выудил из кармана несколько медяков – все, что у меня было, – и, стараясь не привлекать внимания, положил их под донышко своей кружки. Затем, не мешкая ни секунды, бросился вслед за таинственной незнакомкой, протискиваясь сквозь плотную толпу разгорячённых пивом и разговорами мужчин. Бар, словно уставшее жевать чудовище, выплюнул меня на улицу, в прохладные сумерки, окутывающие город.
Она шла, стараясь не оглядываться, сначала быстрым, почти паническим шагом, подобно испуганной дичи, за которой гонится охотник. Но затем, видимо, вспомнив, что меньше всего привлекает внимание тот, кто ведёт себя естественно, замедлила шаг и постаралась слиться с толпой прохожих. И, надо признать, ей это почти удалось. Ещё мгновение – и она исчезла, растворилась в этом людском потоке, оставив меня с мучительным любопытством и немым вопросом, застывшим на губах: что же было в той листовке? И кто она, эта юркая девчонка, посмевшая нарушить мой недолгий покой?
Тщетно я пытался отыскать её в сгущающихся сумерках, блуждая по узким улочкам и переулкам, словно слепой котёнок, потерявший мать. Напрасно вглядывался в лица редких прохожих, надеясь увидеть знакомые черты. Увы, все мои усилия были напрасны. Лишь холодный, пронизывающий до костей ветер, да мелкая, противная изморось, щедро сдобренная густым, как молоко, туманом, стали моими спутниками в этом бесплодном поиске. Я продрог до нитки, промок насквозь, и зубы невольно выбивали дробь, словно пытаясь согреть всё тело таким замысловатым движением.
Но, несмотря на неудачу, я поклялся себе, что непременно вернусь в этот бар. Я обязательно приду снова, чтобы подкараулить эту загадочную девчонку, и тогда—то она от меня не уйдёт. Тогда я непременно узнаю, что за тайну скрывает она за пазухой своего залатанного платья.
Возвращаться домой пришлось теми же путями, что и пришёл, – мимо фабрик и мастерских, через рабочие кварталы, по уже знакомой дороге, ведущей в наш, как принято говорить, респектабельный район. В руке я сжимал небольшой наплечный мешок, в котором лежала моя хорошая, дорогая одежда.
Дорога вилась мимо леса, который в сгущающихся сумерках казался ещё более темным и непроницаемым, чем при свете газовых фонарей. Если приглядеться, то там, в глубине, под вековыми елями, ещё белели в низинах и под корнями деревьев не до конца растаявшие островки снега. Лес казался пугающе тихим, безмолвным, словно в нем никогда и не было никакой жизни, хотя на самом деле, я знал, все было с точностью до наоборот. Просто эта жизнь была скрыта от посторонних глаз и недоступна для понимания обычного горожанина.
Лес, казалось, наблюдал за раскинувшейся у его подножия цивилизацией— муравейником, полным суеты и бессмысленной беготни. Наблюдал молча, таинственно, не торопясь вступать в знакомство, будто видел то, что было скрыто от нашего взора, что—то такое, что заставляло его держаться от человечества подальше, сохранять дистанцию.
Не раз, шагая по этой тропинке, я кожей чувствовал на себе чей-то взгляд – пристальный, изучающий, немигающий. И вот снова, сейчас, я ощутил это отчётливое, долгое, хищное наблюдение. И почему—то мне думается, что это был Стэн – не то волк, не то одичавшая собака, с безумными чертами. Старый, мудрый зверь, некогда бывший человеком, чьи глаза впитали в себя всю тьму и безмолвие адовой жизни.
Запись 11
Прошло, может, полтора месяца, когда я в последний раз писал здесь. Это не из-за моей лени. Из-за работы, внезапно упавшей на плечи. Я прихожу настолько уставшим, что моих сил едва хватает дойти до кровати, и упав на неё, практически без сознания, тут же засыпаю. Просыпаюсь в пять утра и начинаю работу до самого вечера. Иду в… Да, я слишком поторопился. Нужно расписать всё, что со мной произошло, чтобы продолжить.
Так и закончилось наше первое знакомство – бегством неуловимой девчонки, разбрасывающей листовки, будто семена бунта. Четыре дня я проводил вечера в баре "У Фрица", как охотник, выслеживающий дичь. Располагался так, чтобы хорошо видеть входную дверь, и сидел до глубокой ночи, пока сам Фриц не начинал намекать, что пора и честь знать. Я сам попросил его будить меня в нужное время, чтобы успеть домой до того, как Гидеон запрет двери. Фриц же, получив в первый день вместо восьми пфеннигов целую золотую марку, привечал меня, как самого дорогого гостя. Сдачи "честный" баварец, конечно же, не вернул, зато держал для меня место и выполнял роль будильника.
Эти четыре дня не прошли даром. Я наблюдал не только за нарушительницей моего спокойствия, но и за простыми работягами. Вслушивался в их речь, перенимал интонации и обороты, учился их походке и осанке, небрежным, грубым движениям, их своеобразному "этикету", обращению с деньгами. Меньше всего мне хотелось выглядеть белой вороной в этом обществе. Я понимал, что бледность может выдать во мне аристократа, и начал баловаться гримом, пряча лицо под фуражками и шляпами.
Жизнь бара вращалась вокруг кружек с темным пивом, неуклюжих танцев и хриплых песен, вперемешку с громким смехом женщин, пьяными плевками, сигаретным дымом и кулачными потасовками. Работяги считали деньги, заработанные натруженными, черными от машинного масла руками, и непременно обсуждали начальство, не скупясь на крепкие словца.
Их жизнь была не проще, чем у богачей, хоть и лишена сложностей высших наук. Но их "наука выживания" была гораздо жёстче, опаснее и требовала не меньшей смекалки и упорства.
Я погружался в этот мир, словно в бурную реку, стараясь не потеряться в её течении и научиться держаться на плаву.
И вот, словно призрак, она вновь материализовалась в густом полумраке бара. Шустрые глаза, бусинки на маленьком круглом лице, стремительно скользили по толпе, выискивая новые лица. Заметив троицу рабочих в углу, она ловко выудила из-за пазухи три листовки и направилась к ним. Убедившись, что никто не следит, она оставила бумажки на столе и рванула к выходу, но один из рабочих перехватил её ловким движением.
– Что это за макулатуру ты нам подсунула? Дай-ка взглянуть, – прорычал черноволосый мужик, оскалившись.
– Революционная агитка, отпусти девчонку, тут эти крысы часто шастают, – усмехнулся второй.
– Агитка, – проворчал первый, сжимая листовку в кулаке. – Ты знаешь, что эти чёртовы революционеры моего брата убили? Кровь за кровь платить надо! Хотя эта мелкая ещё…»
Пока они препирались, я незаметно обогнул бар, протиснулся к двери и, изображая запыхавшегося посланца, подлетел к их столику.
– А-а-а, вот ты где, Августина! Я тебя повсюду ищу, – выдавил я из себя улыбку, стараясь, чтобы она не казалась слишком широкой.
«Августина» не растерялась.»
Поправив растрепавшиеся темно—русые волосы, кое—как собранные наспех, она изобразила на лице самое драматичное выражение, на какое была способна.
– Ох, Яцек! Tak biegłam… wrobili mnie! Chyba mam kłopoty…1
– Извините её, господа, – обратился я к рабочим. – Моя сестра потерялась и почти не знает немецкого. Подрабатывает у каких-то евреев за гроши…
Для убедительности я подошёл к столу, взял листовку, бегло прочитал и, нахмурив брови, бросил её обратно.
– Да что это такое?! Опять листовки! Клятые евреи! Начитаются всякой чепухи, а люди потом расхлёбывают! Не делай так больше, арестуют же!
В довершение спектакля я влепил «сестре» звонкую пощёчину, забрал остальные листовки и бросил их в камин. Рука заболела, словно я ударил по камню. С самых пелёнок мне твердили, что девочек бить нельзя, и это чувство было мне незнакомо и неприятно.
Но, кажется, представление удалось. Рабочие отвлеклись от «Августины». Полька стала им неинтересна, а я, как «заботливый брат», тут же схватил её за руку и, продолжая ругаться на выдуманном языке, похожем на польский, выволок из бара.
Судьба, словно шаловливый ветер, занесла её в мою жизнь. Августина… Имя, что я ей придумал, звучавшее музыкой, принадлежало Майе Юберрот – пятнадцатилетнему созданию с польскими корнями и глазами цвета грозового неба. В них читалась история не по годам взрослой девочки, вынужденной бежать из родного Замосця после страшной облавы жандармов. Вместе с братом Юстасом они нашли приют в Берлине, оставив позади осколки разрушенного мира.
Её хрупкая фигурка, обрамлённая простым одеянием, казалась потерянной в ночи немецкой улицы. Но взгляд… Взгляд Майи был полон непоколебимой силы и решимости, говорившей о несломленном духе.
Глаза её, были через чур большими на бледном лице, а под ними расположились два тёмных круга не от самой хорошей жизни.
Сама она происходила из типичного для Польши знатного, но обедневшего рода, и, как и многие другие, не желала навлекать неприятности на свою семью.
Знакомясь в разговорах, мы петляли дворами и закоулками, углубляясь в самые грязные берлинские муравейники. Майя обещала проводить меня обратно к Фрицу, как только я познакомлюсь с "самым замечательным человеком в мире".
Наконец, мы оказались напротив ветхого двухэтажного дома. Майя бросила быстрый взгляд на открытые окна, словно проверяя что—то, и, обретя уверенность, взяла меня за руку.
Мы спускались по темным лестницам, окутанные облаком смешанных запахов: сырости, грязи, крысиного помета и терпкого табака. Наконец, оказались в тускло освещённом помещёнии. За столом, склонившись в дугу, сидел худой, почти тощий человек с такими же, как у Майи, темными волосами. На плечи был накинут старый, потёртый пиджак, а сам он словно растворялся в клубах сигаретного дыма. Стряхнув пепел в старую жестяную банку, он макнул кисть в чернила, бережно стряхнул излишки и аккуратно вывел букву на дощечке.
– Юстас! – воскликнула Майя.
– Закрой дверь, ты же знаешь, мне нельзя простывать. Недавно кровь горлом шла – без тени разворота ответил Юстас.
Вдруг он поднял голову и, увидев моё отражение в маленьком, закопчённом зеркале, повернулся вполоборота.
– Кого ты привела? – спросил он, разглаживая одной рукой лист, прикреплённый к дощечке.
– Это Адам. Мы познакомились у Фрица, – ответила Майя. – Он помог мне. Спас от пьяных дураков»
–A jeśli nas wyda? Mieszkamy tu nielegalnie! Co myślałaś?2 – импульсивно заговорил Юстас.
–Nie wyda. Jest uczciwy, po prostu mi zaufaj3 – уверенно отвечала Майя.
– Nie spuszczaj z niego oczu. Pamiętaj, jak Karol został pobity4 – черные, словно два уголька, глаза Юстаса вспыхнули, устремившись на меня.
Я понял, что они обсуждают, можно ли мне доверять. Но доказывать свою честность пылкими речами не было в моих привычках. Я ещё только догадывался, куда меня привела Майя, и не испытывал никаких предубеждений по поводу их деятельности.
Опершись локтем на спинку стула, Юстас устремил на меня внимательный взгляд. В его глазах мерцала лёгкая печаль, но за ней скрывалась непоколебимая сила воли, внутренний стержень, не сломленный жизненными испытаниями.
Его взгляд был тяжёлым, пронизывающим насквозь, словно он пытался разглядеть в моей душе все сомнения и надежды.
– Как многое ты готов отдать за идею? – вопрос Юстаса внезапно разорвал тишину, прозвучав резко, словно выстрел. Он медленно потушил сигарету, поднялся из-за стола и, подойдя ко мне, скрестил руки на груди.
Болезнь иссушила его тело, сделав почти призрачно худым. Острые черты лица казались ещё более выразительными в полумраке комнаты. Тонкая рыже-каштановая бородка слегка тряслась, вторя дрожанию губ, сдерживающих приступы кашля.
В этой хрупкой оболочке скрывалась несокрушимая сила духа, готовность бороться за свои убеждения до последнего вздоха. Его глаза, тёмные и проницательные, буравили меня, пытаясь распознать истинные мотивы и оценить мою преданность делу.
Вопрос Юстаса завис в воздухе, требуя ответа. Это был вызов, испытание на прочность, приглашение вступить на опасный путь, где цена за идеалы может быть очень высока. Со мной говорил настоящий идейный революционер, бросивший в печь всё: семью, дом, сытую жизнь и даже, возможно свободу.
– Я… Я совсем мало знаю об этом – ответил я, чувствуя, как под проницательным взглядом Юстаса меня охватывает жгучий стыд.
Мне впервые показалось, что я делаю пародию на эту прекрасную жизнь. Неуклюжую. Уродливую. И это выглядит ещё большей насмешкой, чем простые смешки буржуа.
Я достал из кармана платок и нервно вытер грим, представ перед новыми знакомыми в своём обычном виде, не считая одежды.
– Я не рабочий. Мои родители очень обеспеченные. Я плохо знаю эту сторону жизни. И если вы выгоните меня, я не сообщу никому кто вы и где вы находитесь. Мне жаль, что за революционной идеей вам приходится так жить.
– Это называется свобода. Никого не бояться даже смерти. Не бояться ненависти, быть готовым отдать кровное. Улыбаясь нести красные транспаранты и взывать рабочих к пробуждению! Зажигать в их сердцах надежду на то, что всё это можно преодолеть. Знаешь, Адам, французская революция дала людям вдохновение. Многие хотят быть Робеспьерами, но не у всех получается. А меж тем, я знавал паренька, твоего ровесника, в Польше, которого жандармы избили поленьями до полусмерти, но он не бросил своей идеи. Сейчас сидит в тюрьме и не унывает. Письма передаёт. Неважно какого ты положения. Энгельс, вон, крупный капиталист, а состоял в Союзе коммунистов. Дело ведь, не в том из какого ты сословия, а в том, какого ты мировоззрения. Ты ищешь настоящий интеллектуализм? Вот он весь. В нищете, в голоде, недосыпе. В огромнейшей куче перечитанной литературы – я заметил, как в голубых глазах—океанах Юстаса загорелся свет. Он доносил до меня идею, он получил новое полотно и теперь мог изобразить на нем картину.
– И какая же литература? – спросил я, заворожённый его страстью.
– Георг Вильгельм, Фридрих Гегель, Макс Штирнер, Людвиг Андреас Фейербах, Давид Рикардо, Карл Маркс и Фридрих Энгельс» – выпалил он на одном дыхании, захлёбываясь от волнения, затем его тонкий палец приказал мне "стоять" и его владелец подойдя к шкафу достал несколько книжек в потрёпанном переплёте.
Наше первое знакомство с Юстасом оказалось коротким. Он был целиком поглощён работой с гектографом и не терпел, чтобы его отвлекали. Майя, понимая это, поспешила увести меня обратно, к бару Фрица.
По дороге мы говорили о политике, о тяжёлом положении рабочих, о несправедливости, царящей в мире. Оказалось, что мы оба остро переживали эту несправедливость, не могли смириться с ней. Майя, как опытный психолог, разглядела эту мою слабость и решила использовать её, чтобы привлечь меня на свою сторону. И она победила.
Её слова, полные искренней страсти и веры в лучшее будущее, запали мне в душу. Я видел перед собой не просто девчонку, разбрасывающую листовки, а настоящего борца за справедливость, готовую пожертвовать всем ради своих идеалов.
В тот вечер я вернулся домой с совершенно другими мыслями и чувствами. Мир вокруг меня перестал казаться таким однозначным, а моя собственная жизнь – такой безоблачной и беспечной.
И вот, с утра до ночи, я погрузился в чтение, словно жаждущий путник в оазис. Затёртые, пропахшие копотью и типографской краской книги, казались мне бесценным сокровищем, намного дороже изысканных томов, красовавшихся на полках в моей домашней библиотеки. Они были ключом к пониманию того мира, который ранее был мне незнаком, ключом к истинной, аскетичной свободе, к настоящей гуманности, не запятнанной ложью и лицемерием.
Каждая страница открывала передо мной новые горизонты мысли, новые идеи, новые идеалы. Я встречался с великими умами прошлого, впитывал их мудрость, их страсть, их неутомимое стремление к справедливости.
Мир вокруг меня преображался, обретал новые краски, новые смыслы. Я начинал видеть то, чего не замечал раньше, слышать то, что ранее проходило мимо моих ушей.
Затёртые книги стали для меня не просто источником знаний, а проводником в новый мир, мир борьбы и надежды, мир, где каждый человек имеет право на достойную жизнь, на свободу и счастье.
Моя настоящая работа началась после второй встречи с Юстасом. Вдохновлённый новой, неведомой мне прежде философией, я разыскал Майю, и она снова провела меня в подвал. Юстас как раз провожал какого-то человека в темной одежде. Пропустив нас внутрь, он развернул письмо, полученное от посетителя, и, бегло пробежав по нему глазами, озадаченно посмотрел на нас.
– Нужно собрать новую газету. Где-то найти печатную машинку и перепечатать рукописи, чтобы в дальнейшем просто копировать на типографском станке – произнёс он, погруженный в глубокую задумчивость.
– Разве этим не занималась Тилли? – спросила Майя.
– Тилли организовали побег вчера. Она постарается найти там типографию, но пока ей нужно залечь на дно – ответил Юстас.
– У нас есть печатная машинка! Я могу перепечатать! – выпалил я, и тут же заметил, как в глазах моих новых знакомых вспыхнул огонёк надежды.
Я не знал, готов ли я вынести избиения поленьями и другие ужасы, о которых рассказывал Юстас, но я был готов помочь им. Я ещё не понимал до конца, во что ввязываюсь и чем может обернуться для меня эта деятельность, если кто-нибудь о ней узнает.
Но в тот момент это не имело значения. Я был готов действовать, готов внести свой вклад в борьбу за справедливость.
С этого дня началась моя революционная жизнь. Полтора месяца я с самого утра до самого вечера проводил за печатной машинкой, печатая новые листовки и статьи. Некоторые статьи я писал сам, под чутким руководством Юстаса. Ему нравился мой слог, нравилось, как я схватывал его идеи и перекладывал их на бумагу.
Я погрузился в работу с головой, забыв обо всем остальном. Я был пьян новыми идеями, новой целью, новой жизнью, которую я сам себе выбрал.
Меж тем, моя семья готовилась к свадьбе Мичи.
Запись 12
Весеннее солнце двадцатого апреля должно было осветить свадьбу Мичи и Максимилиана. Суета приготовлений, захлестнувшая дом, обходила меня стороной – я предпочитал более увлекательные занятия, нежели погружение в водоворот кружев и лент. Однако сквозь стены моей комнаты доносились отголоски бурной деятельности: сестра моя, смирившись с волей матери и дав согласие на брак, словно получила в руки оружие против неё же. С холодным расчётом она диктовала свои условия, капризничала, испытывая безграничное материнское терпение на прочность, словно мстя за причинённые обиды.
Её голос, то резкий и требовательный, то холодно-ироничный, переплетался с усталыми ответами матери, подобно мелодии, в которой нежные звуки флейты заглушаются резкими ударами барабана. Я представлял, как Мичи, как будто полководец, раздаёт приказы, указывая, где добавить кружев, где изменить цвет лент, а мать, словно армия, вынуждена беспрекословно подчиняться, стараясь создать хоть какое-то подобие свадебной гармонии.
Эта бурная прелюдия к предстоящему торжеству забавляла меня.
Похоже, Ганс, подобно мне, предпочитал держаться в стороне от свадебного водоворота. Из его комнаты доносились приглушенные звуки – шорох бумаги, скрип пера – свидетельствующие о какой-то важной, поглотившей его деятельности. Однако дверь оставалась плотно закрытой, совершенно точно, он возвёл вокруг себя невидимую стену, ограждаясь от всеобщего ликования.
С Мичи они не обмолвились ни словом с тех пор, как Максимилиан преклонил колено, протягивая кольцо. Ревность, ядовитым плющом, оплела сердце Ганса, отравляя его душу горечью. Он, привыкший быть центром внимания сестры, не мог смириться с тем, что её сердце теперь принадлежит другому.
Его молчание было красноречивее любых слов – это была молчаливая обида и своеобразный протест против перемен, которые ворвались в их привычный мир. Он заперся в своей комнате, подобно раненому зверю, зализывающему раны в одиночестве, отказываясь принимать участие в празднике, который для него стал символом потери.
Отчасти, я понимал его чувства, но не мог разделить их. Жизнь не стоит на месте, и перемены неизбежны. Но думается мне, его молчание было тяжёлым грузом для неё, омрачающим предстоящее торжество.
Но после разговора в беседке, когда Ганс был не согласен с Мичи, я считаю, что он не отступит от своих убеждений. Может, когда Мичи съедет, он станет гораздо спокойнее.
Мои убеждения, подобно мечу, закаляются в печи размышлений, обретая все большую прочность. Они уже давно вышли за рамки сухих экономических теорий, охватив саму суть моего мировоззрения. Я, подобно Марксу, отвергаю существование Бога – для него нет места в моём сердце, занятом стремлением к справедливости. Никакие гадания, никакие секты не способны поколебать мою уверенность.
Вопрос, озарил мой разум и застрял в нём навечно: почему церкви, эти якобы духовные организации, призванные нести людям Божью помощь и утешение, вводят ограничения, заставляя затягивать пояса потуже, собирают налоги? И почему Бог, если он существует, допускает такое вопиющее неравенство, что пропасть между государем с его двором и простым народом столь велика, что с одной стороны не видно другой? Знать и крупные капиталисты, утопающие в роскоши, и понятия не имеют, каково бедняку волочить жалкое существование. А волочит он его потому, что не может вырваться из пучины безграмотности.
Церкви и соборы превратились в моих глазах лишь в памятники великому труду строителей и архитекторов, но не в обители духовности.
Я нахожу утешение и вдохновение в нашем движении, где нет фальшивого уважения к возрасту, где среди интеллектуалов я чувствую себя равным. Здесь высоко ценят тягу к знаниям, неважно, сколько тебе лет. Каждый находит себе ответственную работу – мы словно большой механизм, где каждая шестерёнка важна.
Это движение – настоящее пристанище для моих взрослых взглядов. Но порой, даже здесь, я ловлю себя на детской неуверенности, на неловкости в поступках. И все же я стремлюсь к совершенству, стараясь перенять небрежно—интеллигентские манеры, которые замечаю у Юстаса. Я хочу быть достойным того дела, которому посвятил себя.
Сегодня, заглянув в зеркало, я задержал взгляд на своём отражении дольше обычного. Черты лица, некогда мягкие и детские, обретали резкость, твёрдость взрослого мужчины. В глазах, наполненных печалью и усталостью, горел огонь свободы, невиданная доселе энергия и жажда жизни. Под глазами залегли синяки – следы тяжёлой работы и недосыпа. Но разве важен сон, когда столько дел ждут своего часа?
Юстас пообещал познакомить меня с тремя членами социал-демократической партии – влиятельными фигурами, настоящими рычагами в управлении партией. Предстоял съезд, естественно, нелегальный.
Я готовился тщательно, словно к боевому выходу. Выписал на листок все интересующие меня вопросы, заучил их наизусть, но листок все же оставил при себе – на всякий случай. Оделся проще, чтобы не привлекать внимания. Заранее приготовил верёвку, выпустил её из окна, привязав второй конец к ножке кровати. Не раз мне приходилось ночевать в мастерской, не успев вернуться домой до того, как Гидеон запрет дверь. Но сегодня так поступать было нельзя – после съезда я должен был немедленно приступить к работе над газетой, посвящённой этому событию. Для заметок я взял ещё несколько листков и карандаши – ни одно важное слово не должно было ускользнуть от меня.
Предстоящая встреча волновала меня. Я чувствовал, что она может стать поворотным моментом в моей жизни и открыть новые горизонты в борьбе за справедливость. Сердце билось чаще, в груди разгорался огонь предвкушения. И он горел до тех самых пор, пока я не попал в большую квартиру в самом центре города, прямо перед полицией. Хитрый ход, господа революционеры.
Квартира встретила нас полумраком и эхом пустоты. Тяжёлые тёмные шторы, словно театральный занавес, скрывали окна от внешнего мира, а скудное освещёние от редких ламп создавало атмосферу таинственности. Обстановка квартиры кричала о временности, словно это было не жилище, а перевалочный пункт для тайных встреч: мебель, укрытая белыми простынями, напоминала призраков, застывших в ожидании.
На призрачной мебели уже расположились люди – муравьи в сложном механизме подпольной борьбы. Многие из них, узнав Юстаса и Майю, приветствовали их короткими кивками и шёпотом, словно боясь нарушить хрупкую тишину. На меня же смотрели с насторожённостью, но, видя одобрительный кивок Юстаса, расслаблялись и впускали в круг своих шепотков, делясь драгоценными крупицами информации.
Я бродил по комнате, впитывал обрывки разговоров, пытаясь собрать мозаику из разрозненных фраз. Воздух пропитывался табачным дымом, смешиваясь с горьковатым ароматом крепкого чая, создавая своеобразный аромат подполья. В углу комнаты стояла группа молодых людей, их взгляды были прикованы к окну.
– Эй, новичок, иди к нам – улыбнулся смуглый парень с пронзительными глазами.
Рядом с ним стояли двое: пышноволосая блондинка с дерзким взглядом и ослепительной, несмотря на щели между зубами, улыбкой, и низкорослый мужчина, на котором шинель болталась, словно на пугале.
– Рады новым лицам в наших рядах – сказал он, и, хотя его губы изображали улыбку, уголки рта упрямо ползли вниз.
– Ты с Юстасом? Он отличный парень! – воскликнула блондинка. – Я Агнешка, это – кивок в сторону мужчины в шинели – Юзеф, а это Маркус. Он тебя у Юстаса видел, недели две назад. Книжки ты тогда получал. Ну как, прочитал? Вник в идею?
– Мне ещё многому нужно научиться, многое непонятно, особенно в экономике, но основную идею я понял и разделяю.
– Главное – не бояться её пропагандировать! Ты, как и мы, – голос этой идеи. Правда за нами, а правду нельзя бояться говорить. Мы не станем обещать людям золотые горы, как капиталисты, но мы сделаем так, чтобы образование, медицина, земля, достойный труд стали доступны каждому, а не только избранным! – Агнешка говорила страстно, её глаза горели огнём веры.
– И получать по голове от заводских и жандармов тоже не бояться нужно – добавил Маркус, многозначительно глядя на Юзефа.
Юзеф резким движением расстегнул шинель и задрал тельняшку, демонстрируя последствия своей "пропаганды". Его худое тело было испещрено синяками и ссадинами.
– Моряки… Я им толкую, что капитаны их в рабов превратили, а двое стукачей на меня накинулись. Ну, я им тоже показал, где раки зимуют! – Юзеф ухмыльнулся, и его язык мелькнул в темной пропасти выбитого зуба.
– Часто такое бывает? – спросил я, невольно пряча руки в карманы.
– Случается, но ноги надо тренировать, чтобы быстро уносить, – Юзеф не успел закончить фразу. В комнату вошли люди, которых мы ждали. Их взгляды, полные решимости и целеустремлённости, не оставляли сомнений – начиналось важное. Я вновь оказался рядом с Юстасом.
Невысокий человек в пенсне, которого Юстас мне представил, как Коха встал за трибуну, разложил несколько листочков и взглядом обвёл комнату.
– Товарищи! – хорошо поставленный ораторский голос прозвучал в тишине комнаты. – Мы собрались сегодня в тайне, в тяжёлое для нашего движения время. "Исключительный закон против социалистов", принятый железным кулаком Бисмарка, нанёс нам тяжёлый удар. Наши организации разгромлены, газеты запрещёны, собрания разгоняются, многие товарищи брошены в тюрьмы или вынуждены скрываться.
Но мы не сломлены! Мы не потеряли веры в наше правое дело! Мы знаем, что наша борьба справедлива, и мы уверены в нашей победе! Товарищи! Мы должны отдавать себе отчёт в сложности обстановки. Враг силен и коварен. Он использует все средства для подавления рабочего движения – полицейские репрессии, судебные преследования, пропаганду лжи и клеветы.
Но враг не всемогущ! У него есть слабые места. И наша задача – найти эти слабые места и нанести по ним сокрушительный удар.
Наша сила – в единстве и организованности!
Мы должны укрепить связи между разрозненными рабочими организациями. Мы должны создать единый фронт борьбы против капитализма и реакции.
Мы должны активнее работать среди профсоюзов, привлекая их к политической борьбе. Мы должны расширять сеть подпольных типографий и распространять нелегальную литературу. Мы должны вести пропаганду среди рабочих и крестьян, объясняя им их истинные интересы и призывая их к борьбе за свои права.
Товарищи! Мы должны быть смелыми, решительными и неутомимыми! Мы должны быть готовы к любым жертвам ради нашего святого дела – дела освобождения рабочего класса вперёд, к победе социализма!
Я, словно загипнотизированный, ловил каждое слово товарища Коха, его голос, прорезающий полумрак комнаты, звучал как боевой клич. Мои пальцы летали по бумаге, стремясь удержать ускользающие звуки, превратить их в строчки, которые станут свидетельством этого исторического момента.
На краткое мгновение воцарилась тишина: все присутствующие замерли, впитывая в себя услышанное, будто сухая земля – живительную влагу. Но затем тишину взорвал шквал голосов, словно прорвало плотину, и бурный поток дискуссии хлынул в небольшое помещёние. Мой грифель отчаянно скрипел по бумаге, стараясь угнаться за стремительным течением мыслей и аргументов.
В этом бурлящем котле страстей и идей ковалась наша будущая борьба, наш ответ на вызов тирании. Каждое слово, каждый взгляд были искрами, из которых разгоралось пламя революции, пламя, которое должно было очистить мир от несправедливости и угнетения.
С горем сообщались потери подпольной армии и с ожесточённой ненавистью имена и клички предателей. Обсуждалась помощь революционерам, попавшим в беду. И планы помощи в освобождении тех, что были в тюрьмах и ссылках. Ни у кого даже мысли не было бросить своего товарища в беде.
Здесь, я закрепил содержание съезда, чтобы вы лучше понимали то, что происходило.
N СЪЕЗД СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ В ПРУССИИ (1886 Г.)
Место: Ораниенбургерштрассе д. 144
Время: Поздний вечер, тусклый свет керосиновой лампы освещает небольшое помещёние.
Участники: 15 человек, представители различных рабочих организаций Пруссии, в том числе члены подпольных ячеек Социал—демократической партии.
Повестка дня:
1. Обсуждение текущей политической обстановки в Пруссии.
2. Разработка стратегии и тактики борьбы с "Исключительным законом против социалистов".
3. Укрепление связей между разрозненными рабочими организациями.
4. Распространение социалистических идей среди рабочих и крестьян.
5. Выборы делегатов на предстоящий съезд Социал—демократической партии Германии.
Ход съезда:
Товарищ Кох (председательствующий): Товарищи, мы собрались сегодня в трудное для рабочего движения время. "Исключительный закон" Бисмарка нанёс тяжёлый удар по нашим организациям. Однако мы не сломлены! Мы продолжаем борьбу!
Товарищ Мюллер: Полиция преследует нас, наши газеты запрещёны, собрания разгоняются. Но мы не можем опустить руки! Мы должны найти новые формы борьбы.
Товарищ Фишер: Я предлагаю усилить работу среди профсоюзов. Профсоюзы – это наша опора в массах.
Товарищ Леманн: необходимо расширять сеть подпольных типографий и распространять нелегальную литературу. Рабочие должны знать правду!
Товарищ Шмидт: Мы должны стремиться к союзу с крестьянством. Крестьяне также страдают от капиталистического гнёта. Вместе мы – сила!
Товарищ Шмидт: Товарищи, я вижу, что у нас единое мнение – борьбу надо продолжать! Мы должны быть смелыми, решительными и неутомимыми! Вперёд, к победе социализма!
Съезд продолжался несколько часов. Были приняты решения об усилении подпольной работы, расширении пропаганды среди рабочих и крестьян, укреплении связей между рабочими организациями. Съезд избрал делегатов на предстоящий съезд Социал-демократической партии Германии.
Вернулся я под утро. Уже началось зарево рассвета и полоской растянулось по небу. Моё отсутствие как обычно никто не заметил. Комната была заперта. У меня есть три—четыре часа на сон, и нужно будет печатать.
Я ложусь спать с чувством тревоги и надежды. Впереди много трудностей, но я верю, что всё задуманное сбудется.
Запись 13
Если лабиринт предсвадебных приготовлений мне удалось обойти стороной, то самого торжества уже было не избежать. Матушка лично объявила подъем, пройдясь по нашим с Гансом комнатам. Гости начали слетаться в родовое гнездо Кесслеров. Небольшая группа родственников уже прибыла, чтобы в скором времени отправиться в Лейпциг, где в церкви должна была состояться свадебная церемония, а затем и само торжество. Мичи, по словам матери, уже находилась там, а нам предстояло присоединиться к ней непосредственно перед началом венчания.
Я не мог не улыбнуться иронии ситуации: браки – это циничные сделки, заключаемые под святыми сводами церкви. Мужчина, выбравший себе в жёны ослепительную красотку с приданым не менее сорока, а лучше семидесяти тысяч золотых марок в год, и она, покорно следовавшая воле родителей, нашедших для неё партию с капиталом в восемьдесят тысяч, – вот идеальный союз, освящённый клятвами любви, верности и взаимоуважения перед лицом Господа Бога. Хотя, если быть честным, "взаимоуважение" в данном случае имеет место быть, ведь потеря семидесяти—восьмидесяти тысяч марок годового дохода – утрата немалая.
В этом мире, где деньги и положение в обществе ценились выше любви и искренности, свадьба Мичи и Максимилиана была лишь одним из многих спектаклей, разыгрываемых на сцене высшего света. И мне, невольному участнику этого фарса, оставалось лишь наблюдать, делать выводы и хранить свои истинные чувства и убеждения глубоко в сердце. Успокоила меня лишь собственная клятва жениться на женщине лишь юридически, либо сожительствовать, но не венчаться.
Я скромно расположился во втором ряду, уступив первый места тем, чьи имена гремели в высшем свете, и, дабы скоротать минуты ожидания, принялся делать наброски будущей статьи, черпая вдохновение в разворачивающейся свадебной церемонии. Мой взгляд то и дело обращался к Гансу, чьё лицо было бледнее алебастра, а поза выдавала крайнюю напряжённость. Он беспокойно метался глазами по залу, ища лазейку к отступлению, а его пальцы судорожно цеплялись за край скамьи, будто он сдерживал себя от необдуманного побега. К счастью для него, никто, кроме меня, не замечал бури, бушевавшей в его душе.
Максимилиан, застывший у алтаря, подобно скульптуре, спрятав руки за спиной, сосредоточенно изучал лики святых на иконах. Его лицо, с мягкими чертами, оставалось непроницаемым, но мне чудилось, что мысли его блуждают, где—то далеко за пределами этой церкви. Скорее всего, он размышлял о предстоящем переезде во Франкфурт, куда ему предстояло отправиться вместе с юной женой после свадьбы, повинуясь велению службы.
И вот, наконец, появилась Мичи, ведомая под руку отцом. Её лицо было лишено каких-либо эмоций, как будто она направлялась не к алтарю, а на обыденную прогулку по парку. Она держала букет и руку отца с непоколебимой уверенностью, её шаг был твёрд и размерен, несмотря на тяжёлый шлейф, струящийся за ней подобно белому водопаду, и пышную фату, окутывающую её облаком.
Невольно в моей памяти всплыл образ фарфоровой куклы в свадебном платье, которую я недавно заметил в витрине магазина игрушек. Бедные девочки, заворожённые её красотой, с восхищением прижимались носами и руками к стеклу, а продавец, хмуря брови, грозил им кулаком, дабы не пачкали витрину своими грязными пальцами. Я и сам тогда замер под чарами, наблюдая за этим хрупким совершенством. Длинные нарисованные ресницы, маленький, лишённый тени улыбки рот, волосы, спрятанные под кружевной фатой, и пышное белое платье, расшитое искусственными цветами… Я купил эту куклу, и ещё одну – для другой девочки, оставшись без единого пфеннига в кармане. Это была моя самая крупная и самая необдуманная покупка, о которой я, впрочем, ни разу не пожалел.
И вот теперь, глядя на Мичи, я невольно улыбнулся. Она была живым воплощением той куклы, холодной и безупречной. И не только она – многие дамы и господа, собравшиеся на этой торжественной церемонии, казались мне фарфоровыми фигурками, лишёнными живых эмоций и подлинных чувств.
По щеке Ганса стекла скупая слеза, которую он торопливо вытер и дрожащими руками ослабил воротник рубашки. Я уверен, многие умилялись, глядя на него, не зная истинной причины его слёз. И я не озвучу, пока не найду доказательств.
В Лейпциге меня ждала иная работа, незримая для присутствующих, но от того не менее важная. Я предвкушал тот час, когда смогу ступить на свой первый открытый агитационный путь, где, не щадя голоса, буду доносить до рабочих пламенные идеи социализма. Я видел себя в гуще споров и дискуссий, готовым отстаивать свои убеждения перед лицом сомневающихся и даже грозных бригадиров, если того потребует ситуация. Это было моё призвание, и я с нетерпением ждал момента, когда смогу полностью ему отдаться.
В предвкушении грядущего события я метался по залу словно заведённый механизм, не в силах найти себе места. Разговоры вокруг меня сливались в невнятный гул, я лишь изредка рассеянно кивал в ответ на вопросы, и даже не заметил присутствия тётушки Юдит и Хеллы, пока вторая не ущипнула меня за бок, упрекая в напускном безразличии.
– Наконец—то Мичи сдалась под напором твоей матушки – прошептала Хелла, подавляя смешок.
– Она просто поняла, что через Максимилиана можно вить верёвки из матери. Вот только не догадывается, что эта идиллия продлится всего пару лет, а потом внимание фрау Кесслер снова переключится, теперь, на Ганса. Даже внуки не спасут – я подмигнул Хелле, и та вспыхнула так ярко, что поспешно прикрылась веером. Раздался сдержанный смешок, затем ещё один, и вот уже Хелла закусила губы, чтобы не расхохотаться во весь голос.
– Ты так любишь свою maman – произнесла она с явным сарказмом.
– Люблю, конечно. Ведь по заднице меня бил только Гидеон и дедушка – парировал я, вызвав новую волну веселья.
Меня искренне радовало видеть Хеллу в таком приподнятом настроении. Её смех зазвенел, как капель, а глаза искрились весельем. Ещё совсем недавно, во время её визита в наш дом, она была погружена в уныние и едва отвечала на вопросы, стараясь избегать любого общения. Но после моего твёрдого заверения сделать все возможное, чтобы предотвратить её нежеланный брак, она словно расцвела на глазах. С её лица исчезла печаль, и она вновь стала похожа на ту жизнерадостную девушку, которой я её всегда знал и любил.
Мы ещё не вступили в тот возраст, когда люди стали бы бросать на наши разговоры косые взгляды. Для них мы были всего лишь глупыми детьми, и все их внимание сосредоточилось на молодожёнах.
Мой взгляд снова обвёл гостиную, ненадолго задерживаясь на лицах родных. Мичи, как всегда, кокетливо щебетала с Максимилианом, её взгляд даже не коснулся Ганса, так она молчаливо его обвиняла. Матушка уже высматривала новую добычу, изящно обмениваясь светскими любезностями с одной из жён князя фон Вальденштейн – человека, близкого к самому Бисмарку. Вся власть Пруссии и вся мощь Германской империи текла сквозь его руки, и истинные прагматики, как моя мать, стремились к его милости, а не к бледному сиянию королевского двора. Она уже видела себя у самого источника влияния, на расстоянии вытянутой руки от министра—президента.
Отец тем временем предавался беззаботному веселью в объятиях дяди Максимилиана. Они бурно обсуждали что—то, их голоса сливались в один весёлый поток, прерываемый взрывами смеха. Господин Дресслер, с усердием искушённого винаря, уже начинал своё деликатное дело, постепенно наполняя бокал отца крепким напитком.
– Редкие моменты, когда Альберт так весел и беззаботен – шепнула тётя Юдит, подойдя ближе. Её тонкий голос прорезал шум празднества, словно тонкий луч света. – Долгое время после смерти Анжелики он вообще почти не разговаривал.
– Анжелики? – переспросил я, чувствуя, как в груди вспыхивает внезапный интерес.
– Да, его первой жены. Он так любил её, что едва не прыгнул за ней в могилу, когда её закапывали – тётя Юдит положила руку мне на плечо, и я застыл, ошеломлённый этой неожиданной подробностью из семейной хроники.
– А что с ней случилось? – тихий голос Хеллы внезапно вмешался в наш разговор.
– Её убил бандит. Беременную зарезал ножом. Она сопротивлялась, и он несколько раз ударил ей в живот – Юдит ответила с горькой тоской в голосе, вспоминая о покойной подруге.
– Какой ужас – выдохнула Хелла, её глаза расширились от страха.
– Анжелика была очень доброй, нежной, как ангел. И глаза голубые, как океаны. А волосы… вся знать завидовала… Густые, волнистые, послушные… Как хорошо, что у Адама появилась Клэр. Конечно, она моментами груба, но она не дала ему уйти за ней… – Тётя Юдит замолчала, окунувшись в волны воспоминаний, а я впился взглядом в мать, в её холодное, расчётливое лицо. Внезапно, словно резким ударом, ко мне пришло понимание, которое долго ускользало от меня, завеса тайны приподнялась, открывая пугающую истину. Было ли это случайностью? Или… Или мать была причастна к этой страшной трагедии? Она же была у Стэна в долгу… А может, она сама убила Анжелику, попросив Стэна взять вину на себя?
– А как вы поняли, что это дело рук того бандита? – спросил я, голос мой был едва слышен, губы сжаты в жёсткую линию.
– Клэр закричала, подняв всех на ноги. Анжелика была её подругой, и она гостевала у нас. Альберт прибежал быстрее всех и увидел Клэр в ночной рубашке, наполовину испачканной в крови. А тот ужасный человек не успел убежать. В его карманах нашли золото. И нож, которым он и убил… Просто воровал, а Анжелика увидела его – Юдит покачала головой, а я бледнел, ужасаясь простоте и жестокости этой истории. Все стало ясно. Стэн взял вину на себя. Мать теперь казалась мне совершенно другой. В её холодных синих глазах заиграл ледяной блеск, блеск бессердечной расчётливости, а может быть… убийцы. Клэр Кесслер… или Клэр Смит… кто же ты такая на самом деле?
В этот миг, словно карточный домик, рухнул весь мир, который я знал. Слово «семья» всегда вызывало во мне чувство холода и отчуждённости, глубокой, неизбывной пустоты. Теперь я понимал, почему. Это не была семья в истинном смысле этого слова. Это была сложная, многослойная ткань, сотканная из лжи, манипуляций и скрытых преступлений. За краской благополучия скрывались расчёт, жестокость и беспредельное стремление к власти. Клэр Смит… это имя теперь звучало для меня не как имя матери, а как определение холодного, амбициозного рассудка, способного на любое преступление. Эта бескомпромиссная женщина, добившаяся всего через обман и преступления, убрала с своего пути преграду в лице Анжелики, лишив жизни женщину, которая стояла на пути её восхождения. Затем, словно хищный паук, она заплела свою сеть из лжи и манипуляций, маскируясь под образ заботливой жены и матери. Мичи, Ганс и я… мы не были детьми, рождёнными из любви. Мы были всего лишь пешками в её холодной, прецизионно распланированной игре, инструментами, призванными обеспечить её безопасность и дальнейшее продвижение по лестнице социального восхождения. Она надеялась держать нас под контролем, манипулируя нашими жизнями с той же бесстрастной точностью, с какой она спланировала убийство Анжелики. Но её расчёт оказался ошибочным. Она потеряла контроль. Или, по крайней мере, это начало рушиться на её глазах. И поняла ли она настоящий масштаб своей ошибки? Поняла ли она, насколько глубоко и безвозвратно она обманулась, построив свой мир на лжи и крови?
Воздух внутри дома сгустился, давя на лёгкие незримым грузом. Оставаться здесь становилось невыносимо. Отчаяние подталкивало к бегству, и я вырвался на улицу, надеясь, что весенний ветер, ласково треплющий молодые листья, рассеет сдавленность в груди. Но с каждым вдохом тошнотворная волна тревоги накрывала меня с новой силой, сжимая желудок холодными пальцами.
Прислонившись к холодным перила, я провёл рукой по карману, нащупав знакомый бархатный мешочек. Горькая улыбка коснулась губ – своеобразное совпадение. Всего пять дней назад, принеся Майе и Юстасу свежий печатный материал, я застал их за столом в их подвальном убежище. Тусклый свет лампы освещал лица, сосредоточенные и задумчивые. Они пили слабый чай, откусывая куски солёного хлеба, и обсуждали предстоящую агитацию. Воздух был наполнен плотным, терпким дымом юстасовой трубки, а Майя в это время аккуратно штопала разорванный революционный транспарант.
– Ты болеешь чахоткой, Юстас, и при этом куришь – упрекнул я его, постаравшись придать своим словам лёгкий ироничный оттенок.
– А как же тут не курить? Еды нет, остаётся только перебиваться сигаретным дымом да хлебом с чаем – ответил он спокойно, без капли самоупрёка.
– И ты закуришь – пророчески улыбнулась Майя.
– Вот ещё! Не закурю – заявил я, стараясь скрыть внутреннее беспокойство за своё здоровье.
Из глубины ящика Майя извлекла бархатный мешочек с табаком, и когда я начал отказываться, с улыбкой сунула его мне в карман.
– Иногда так нервно и голодно бывает, что курю даже я, – сказала она, её глаза были серьёзны и проницательны. – И тебя прижмёт.
И прижало. Сейчас, один, на холодном весеннем воздухе, я вынул мешочек. Знакомый терпкий аромат ударил в ноздри, вызывая волну воспоминаний о бесконечных революционных собраниях, пропитанных дымом разных табаков. Я достал из кармана бумажку, аккуратно вынул из мешочка необходимое количество табака, затем ловко свернул сигарету, привычное движение рук было спокойно и уверенно. Чиркнула спичка, яркий огонёк мгновенно осветил моё лицо. Я закурил. Горьковатый дым, обволакивая рот и горло, вызвал сильный кашель, резкий и пронзительный. И в этом кашле, в этой физической боли, я нашёл некоторое освобождение, первый глоток воздуха после тяжёлого известия.
Сигарета, как глоток свежего воздуха, взбодрила меня и помогла дождаться нужного часа. Со спокойствием, которое самому себе казалось удивительным, я набросал текст первой речи, заучил его дословно, вживаясь в каждое слово, каждую интонацию. И как только часы пробили пять вечера, я, сославшись на желание прокатиться верхом, попросил у отца разрешения взять одну из наших лошадей и отправился в город.
Моей целью была крупная хлопчатобумажная фабрика, принадлежавшая фрау Надин Салуорри. Сердце фабрики – огромный цех, где в густом тумане хлопковой пыли день за днём трудились женщины. Их руки, искусные и ловкие, словно жили отдельной жизнью, быстро и точно перебирая нити, вплетая их в сложную симфонию ткацкого станка. Белые фартуки, словно символ чистоты и трудолюбия, укрывали их простые платья, а на лицах, усталых, но сосредоточенных, отражался весь тяжёлый ритм фабричной жизни. Шум станков, сливаясь в единый гул, казался голосом самой фабрики, безжалостным и неумолимым.
Руководил этим женским царством мужчина—бригадир, грубый и властный надсмотрщик, в чьих обязанностях была не только организация работы, но и починка капризных ткацких станков. Говорили, что фрау Салуорри строго запрещала эксплуатировать детский труд, и детям до пятнадцати—шестнадцати лет доступ на фабрику был закрыт. Более того, ходили слухи, что она даже ввела повышенные зарплаты и льготы для своих работниц. Но все это были лишь слухи, не подтверждённые фактами. И моя задача была не только в том, чтобы донести до этих женщин идеи Маркса, но и провести своеобразную разведку для Юстаса, собрать информацию об истинных условиях их труда. Ведь довольные и сытые рабочие никогда не поддержат революцию. И меня мог ждать сокрушительный провал, если бы слухи оказались правдой.
Проскользнув в цех, воспользовавшись минутной отлучкой охранника, я замер у входа, стараясь не привлекать к себе внимания. Передо мной открылась картина, полная жизни и энергии, несмотря на явную усталость работниц. Женщины, словно неутомимые пчелы в улье, бойко сновали между станками, их движения были отточены до автоматизма, но при этом не лишены изящества. Одни ловко перебирали нити, их пальцы танцевали среди бесконечных нитей, распутывая сложные узлы и сплетения. Другие заправляли ткацкие станки, их руки порхали над челноками с невероятной скоростью и точностью, как будто играя на невидимом музыкальном инструменте. Третьи складывали готовые отрезы ткани, их движения были плавными и ритмичными.
И сквозь шум станков и шелест нитей, скрип механизмов, пробивались обрывки песен. Женщины пели, их голоса, усталые, но полные жизни, сливались в единый хор, который пытался заглушить безжалостный ритм фабрики. В этих песнях было все – и тоска по родному дому, и тяжесть нелёгкой женской доли, и надежда на лучшее будущее.
Да, их лица были бледны, а спины сгорблены от долгих часов работы. Но в их глазах, несмотря на усталость, все ещё теплился огонёк жизни. И их песни вырывались из клетки фабричных стен, стремясь к свободе и свету.
И я понял, что мои опасения могли быть напрасны. Эти женщины, несмотря на все тяготы своей жизни, не сломлены. В них живёт дух борьбы, желание изменить свою судьбу. И может быть, именно им суждено стать той силой, которая разрушит стены капиталистической тюрьмы и принесёт в этот мир долгожданную свободу.
Я, притворяясь заботливым братом, стремящимся устроить сестру на работу, неторопливо прогуливался между станками, задавая работницам ненавязчивые вопросы об условиях труда.
– Я хочу устроить на работу сестру, скажите, какие здесь условия? – спросил я у одной из ткачих, её руки быстро и ловко перебирали нити.
– Хорошие. Я не ушла в своё время, когда все бежали, осталась у Салуорри и нарадоваться не могу. Дочку по жизни устроила – она улыбнулась, и её лицо озарилось теплом и гордостью.
–Работать тяжело? – продолжил я свой допрос.
– Ну как не тяжело? Тяжело, сынок, где легко? Но у нас и выходной есть, и работаем посменно – ответила она, не прекращая работы.
– А медицинская помощь? – не унимался я.
– Че? – она на мгновение отвлеклась от своих дел, взглянув на меня с недоумением.
– Врач, говорю, имеется? – уточнил я свой вопрос.
– Имеется, сынок, имеется – она снова улыбнулась и вернулась к своей работе.
Внезапно я почувствовал на себе чьей—то взгляд. Оглянулся, стараясь незаметно осмотреть цех, но не мог понять, откуда исходит это ощущение наблюдения. Наконец, я его увидел. Мужчина высокого роста, довольно молодой, с безупречными манерами и осанкой аристократа. Он стоял, закутанный в черное шерстяное пальто, небрежно опершись на балюстраду. Его скучающий взгляд, холодный и проницательный, словно взгляд льва, окидывающего своё владение, скользил по цеху, на мгновение остановившись на мне. Я показался ему досадной мухой, нарушившей покой его царства. Его лицо казалось мне знакомым, но я никак не мог вспомнить, где я его видел. Точно не в партии. Скорее всего, на одном из светских раутов, куда меня иногда брала с собой мать. Может быть, он был управляющим или бухгалтером фрау Салуорри? И, кажется, он понял, кто я и зачем я здесь.
Мои догадки подтвердились буквально через несколько минут. Судьба, словно играя со мной в кошки—мышки, послала мне бригадира, который внезапно материализовался у меня за спиной.
– Господин Сальваторе желает Вас видеть – сказал он своим хриплым голосом, и я послушно последовал за ним.
Мы поднялись на второй этаж, и я оказался рядом с управляющим. Вблизи он казался ещё более внушительным и величественным, нежели издали. Его прямая спина, гордая осанка и проницательный взгляд говорили о власти и уверенности в себе. Он больше походил на хозяина фабрики, чем сама фрау Салуорри. В его серо—голубых глазах плескалась непоколебимая уверенность и холод, а губы были сомкнуты в тонкую, жёсткую линию. Я кивнул ему в знак приветствия, но он даже не потрудился ответить.
– Ваша матушка не будет против, что Вы оказались в этом аду? – спросил он, не отрывая взгляда от кипящей жизни цеха.
– Думаю, ей все равно – ответил я, стараясь говорить спокойно и уверенно, хотя внутри все сжималось от тревоги. – Сегодня у моей сестры Микаэлы и Максимилиана Дресслера свадьба. Они все там, в Лейпцигском особняке.
– А Вы, значит, воспользовались моментом, чтобы провести агитацию среди моих рабочих? – его голос был тихим и мягким, словно мурлыканье кота, но в этой мягкости чувствовался скрытый стержень. Я изобразил удивление, повернувшись к нему с готовым возражением на губах, но слова замерли, не родившись. В руках Сальваторе я увидел листок бумаги, на котором был написан текст моей речи.
Я замялся, почувствовав, как пунцовость приливает к лицу. Моё амплуа заботливого брата рассыпалась на куски, раскрывая истинную цель. Молодой человек даже не удивился, его глаза оставались холодными и спокойными.
– Агитируйте, вот Ваша трибуна – сказал он, слегка отойдя в сторону и указывая на цех. Сальваторе был абсолютно уверен в своих работницах. Он знал, что они даже не станут меня слушать.
И я, сгорая от стыда и волнения, забрался на небольшую возвышенность, служащую своеобразной трибуной. Внезапно я понял, что совершенно забыл свой тщательно заученный текст. Страх и смущение парализовали меня. Ещё никогда я не чувствовал себя настолько уязвимым и опозоренным. И, к моему удивлению, я не увидел в глазах Сальваторе торжества или злорадства. Там теплилось нечто другое… Разочарование?
– Уважаемые работницы, товарищи! Сёстры!
Каждый день, приходя в цех, я вижу ваши усталые лица, ваши руки, истерзанные тяжёлым трудом. Я слышу грохот станков, который заглушает ваши песни, ваши мечты, ваши надежды.
Вы проводите здесь, в этих стенах, большую часть своей жизни, отдавая свои силы, свою молодость, своё здоровье на благо госпожи Салуорри и других капиталистов. Вы создаёте богатство своими руками, но сами живете в нищете и лишениях. Ваши дети голодают, ваши семьи ютятся в тесных, сырых квартирах, а ваши мужья и братья гибнут на войнах, которые развязывают буржуи ради своих прибылей.
Задумайтесь, кому выгодно такое положение вещёй? Кому нужна эта система, где одни живут в роскоши, а другие влачат жалкое существование?
Только буржуям! Только капиталистам! Они наживаются на вашем труде и горе!
Но так не должно быть! Не должно быть разделения на богатых и бедных, на господ и рабов!
Мы – рабочий класс – являемся основой этого общества. Мы создаём все материальные блага, мы двигаем прогресс, мы строим будущее! И мы имеем право на достойную жизнь! Мы имеем право на справедливую долю того богатства, которое создаём своими руками!
Настало время сказать «хватит»! Настало время сбросить с себя оковы капиталистического рабства! Настало время взять власть в свои руки!
Только мы сами можем изменить свою жизнь! Только объединившись, мы сможем построить новое, справедливое общество, где не будет эксплуатации и угнетения, где каждый человек будет иметь право на труд, отдых, образование и медицинскую помощь!
Вступайте в наши ряды! Боритесь вместе с нами за свои права! За светлое будущее для себя и своих детей!
Да здравствует рабочий класс! Да здравствует социалистическая революция! – голос Сальваторе, подобно грому, прокатился по цеху, заставив станки замолчать и сердца учащённо биться. Работницы, словно заворожённые, поднимались со своих мест, их взгляды были прикованы к руководителю, чьи слова, клинком, рассекали затхлый воздух. Бригадир, подобно медведю, разбуженный посреди зимней спячки, лениво почесал затылок и, скрестив руки на груди, прислонился к массивной колонне, наблюдая за происходящим.
– Вы живёте хорошо, трудясь на госпожу Салуорри, – продолжал Сальваторе, его голос наполнился горечью, – но другие немцы стонут под жестоким гнетом капиталистов, лишённые всякой поддержки!
– Вас же уволят! – прошептал я, чувствуя, как страх перебирает кишки.
– И что же нам делать? – послышался робкий голос из толпы.
Внезапная смелость охватила меня. Я вытащил из кармана пачку листовок и бросил их вниз. Рабочие тут же набросились на них, жадно хватая и читая.
– Господин Кесслер, – голос Сальваторе пропитан был едкой иронией, хотя бледное лицо оставалось бесстрастным, – не забывайте агитировать на своих заводах. У вас там, насколько мне известно, условия намного хуже. Не стоит прятаться за спинами тех, кого вы поддерживаете. Лучше быть отвергнутым, чем трусом. А теперь бегите, пока я не натравил на вас охранников.
Едва он закончил фразу, как бригадир двинулся в мою сторону, его тяжёлые шаги отдавались эхом в напряженной тишине цеха. Паника захлестнула меня, я не успел даже спросить имя управляющего, узнать, что движет этим человеком – гнев, чувство долга или, может, он поддерживал эти убеждения? Мысли путались, ноги сами несли меня прочь, сердце бешено колотилось в груди, лёгкие горели огнём. Я бежал, спотыкаясь и задыхаясь, сквозь лабиринт узких улочек, окутанных темнотой и пропитанных запахом угля и бедности. Моя лошадь ждала в баре на окраине квартала, и я стремился к ней, ища спасения в седле. Только когда я вскочил на лошадь и помчался прочь, в голове вспыхнула тревожная мысль: я оставил Сальваторе листок с речью. Листок, который мог стать моим приговором. Он мог запросто отнести его жандармам, и тогда мои дни были бы сочтены. Оставалось жить в постоянном ожидании ареста, словно приговорённый, каждый шорох принимая за шаги жандармов, пришедших забрать меня. Каждый день мог стать последним.
Запись 14
Ганс, как корабль после шторма, медленно приходил в себя после бурных переживаний, связанных со свадьбой сестры. Отсутствие Мичи в доме, несомненно, облегчало его страдания. Однажды я застал его в саду, напротив увитой зеленью беседки. Он, погруженный в свои мысли, лениво перекатывал шары по изумрудной траве, играя в крокет. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, делали его лицо ещё более бледным, а непослушные рыжие волосы, давно не знавшие ножниц парикмахера, отливали золотом.
Заметив меня, он замер, бросив молоток на траву. Этот безмолвный жест был красноречивее слов – Ганс хотел поговорить. Я не стал противиться его желанию.
– Ты считаешь Максимилиана достойным мужем для Мичи? – спросил он, голос его звучал глухо, кажется ему было физически больно произносить эти слова. В интонации чувствовались и горечь, и недоумение, и даже оттенок зависти. Неужели он пытался найти во мне союзника, человека, который разделит его сомнения и неодобрение по поводу выбора сестры?
– Я думаю, родителям виднее, – ответил я спокойно, стараясь не выдать своего раздражения. Мне не хотелось ввязываться в этот разговор, обсуждать достоинства и недостатки Максимилиана. А ещё я намеренно бы не стал обсуждать с Гансом то, почему я так хотел, чтобы Мичи вышла замуж за Дресслера.
Судя по искривившимся в презрительной гримасе губам, мой нейтральный, по сути, ответ ему откровенно не понравился. Меня же, в свою очередь, буквально захлестнула волна раздражения, вызванная его инфантильным, эгоистичным поведением. Это вечное осуждающее молчание, словно я был виноват в самом факте своего существования, уже порядком надоело. Каждый раз, когда он снисходил до того, чтобы обратиться ко мне с вопросом, он тут же награждал меня этим презрительным, полным высокомерия взглядом. Черт возьми, да он вообще заметил моё существование лишь благодаря тому, что Микаэла осмелилась обратить на меня внимание! И ладно бы дело было во мне или в каких—то моих действиях, но я ведь никогда, ни единого раза не делал ему ничего плохого намеренно! Напротив, я старался держаться в стороне, не лезть в семейные разборки, но это не мешало ему смотреть на меня как на пустое место.
– Чего ещё ждать от Адама Кесслера, – с едкой, издевательской интонацией произнёс Ганс, – ты всегда поддакиваешь лишь тем, кто у власти. Безликий, бесхребетный приспособленец!
В его голосе звучало откровенное презрение, он словно плевал мне в лицо этими словами. Я почувствовал, как щеки наливаются краской, а кулаки непроизвольно сжимаются. Мне хотелось ударить его, заставить замолчать, но я взял себя в руки. Я не дам ему удовольствия видеть мою слабость.
– Что бы ты ни делал, последнее слово всегда будет за твоей матерью, – прошипел я, вкладывая в свой голос всю насмешку и презрение, на которые был способен, – и вряд ли она допустит, чтобы её любимый сынок поддался грехопадению. Мичи никогда не будет твоей, и я рад, что смог повлиять на её решение сохранить здравый рассудок.
Я намеренно выделил слова "Мичи никогда не будет твоей", "грехопадение" и "здравый рассудок", чтобы ещё сильнее намекнуть, что я не первый день живу и знаю об их не совсем братско-сестринской связи. Я знал, что попал в цель, когда увидел, как его лицо исказилось от ярости.
– Ты ещё наивнее, чем кажешься, – процедил он сквозь зубы, сдерживая гнев с трудом, – ты доверился той, кто хотел удушить тебя в колыбели. Она ненавидит тебя не меньше, чем я.
Его слова прозвучали как гром среди ясного неба. Я остолбенел, не в силах поверить услышанному. Мичи… хотела убить меня? Но почему?
– Твоими руками? – спросил я слабым голосом, – она ведь ничего не делала без твоей помощи.
Вопрос мой повис в воздухе, оставшись без ответа. Но ответ мне был и не нужен. Все и так было ясно. Всё семейство чёртовых убийц.
Отстранившись от Ганса, я побрёл прочь, чувствуя, как ноги становятся ватными, а земля уходит из-под них. В какой-то момент я очнулся у мастерской Бернда. Взгляд бесцельно скользил по двору, не в силах сосредоточиться. Бернд, раздевшись по пояс, энергично рубил дрова, а вокруг него, словно стайка весёлых воробьёв, носились его дети. Марья, повязав голову платком, усердно стирала белье в большом деревянном тазу, а детвора, смеясь и толкаясь, развешивала чистые простыни и полотенца на верёвки, натянутые между деревьями.
Я опустился на скамейку, обхватил голову руками, впиваясь пальцами в волосы. Это просто минутная слабость, уговаривал я себя. Это пройдёт. Удивление, боль, гнев – все это скоро утихнет.
– Адам? – голос Бернда раздался внезапно, заставив меня вздрогнуть. Он стоял рядом, его рука легла мне на плечо.
Я поднял на него глаза, и в памяти вновь всплыли слова Юдит, ударив меня с новой силой.
– Уходи из этого дома, Бернд – проговорил я, с трудом шевеля одеревенелыми губами.
Бернд нахмурился, провёл рукой по затылку.
– По-моему, барчонок, ты немного сдурел, – ответил он, – я только перевёз сюда семью.
– Она подставила Стэна. Убила первую жену моего отца. И теперь подставила тебя, заставив его убить. Она должна была помочь ему скрыться, но обманула. Она – чудовище, скрывающееся под ликом благодетельницы – выдавил я, каждое слово давалось мне с невероятным трудом.
– Откуда… – начал Бернд, но не договорил. Его глаза расширились от ужаса, он словно понял, что—то очень важное.
– Это я написал письмо, – ответил я, и в моём голосе он услышал не только боль и отчаяние, но и твёрдую уверенность в своих словах.
Больше я не проронил ни слова, лишь бросил короткий, многозначительный взгляд на его молодую жену, призывая её к благоразумию, и решительным шагом покинул мастерскую. В глубине души теплилась надежда, что Бернд понял серьёзность моих слов и осознал нависшую над ним опасность.
Я прекратил свои визиты к нему, не желая навязываться и усугублять ситуацию. Свободное время я проводил в своей комнате, погрузившись в учёбу, и искал утешения и забвения в книгах и статьях.
Страх за собственную жизнь не терзал меня. Даже если бы Бернд решился рассказать матери мою версию событий, я был готов к этому. Мой разум продумывал партию на несколько шагов вперёд.
Я начал бережно откладывать карманные деньги, создавая фундамент для будущей, независимой жизни. Аскетизм стал моим верным спутником: я отказывал себе во многих удовольствиях, предпочитая экономить каждую монету и бросать её в свою неприметную копилку.
Я был готов к любым испытаниям, лишь бы не допустить, чтобы моя судьба оказалась в руках этих жестоких и лицемерных людей. Я сам буду строить свою жизнь, даже если придётся начать её с нуля.
Дабы нить повествования не терялась, стоит упомянуть о чудесном подарке, преподнесённом мне тётей Юдит на день рождения. Это был не просто игрушечный поезд, а настоящее произведение искусства – головной вагон, облачённый в черное одеяние, с изящными позолоченными трубами и колёсами, сверкающими подобно солнечным лучам.
Восхищённый его красотой, я, немедля ни мгновения, разобрал его на части, стремясь постичь тайны его устройства и воссоздать его собственными руками.
К тому времени я, подобно подмастерью, постиг многие премудрости Бернда, ловко владел отвёрткой и обладал базовыми знаниями о железных конях, мчащихся по стальным рельсам. Уменьшенная копия паровоза поражала своей детализацией: все элементы были искусно уменьшены, но сохраняли своё место, словно в оркестре, где каждый инструмент играет свою важную роль.
Воображение рисовало мне новый облик паровоза – в стиле элегантных английских, со вставками цвета молочного шоколада и тонкими белыми линиями, словно росчерками пера, украшающими головной вагон. В глубине души даже родилось имя для него – "Катрина", в честь Катрины Шварц, с которой вы уже знакомы, хотя и под другим именем.
После свадебного торжества Мичи, когда мы вернулись в родные стены, отец решил порадовать нас походом в театр. На сцене разыгрывалась пьеса Мольера "Тартюф", где главную роль исполняла Катрина. Сквозь призму театрального грима я не сразу узнал её озорные, лучистые глаза, но её звонкий, словно колокольчик, голос вновь пробудил воспоминания о нашей первой встрече на тайном собрании революционеров.
– Ах, Катрина Шварц! Какая же она чарующая! – восхищённо шептались дамы в ложах.
– Божественно играет! Лучшая актриса во всей Пруссии! – вторили им джентльмены в партере.
– Ей нет равных! Талант и красота в одном лице! – раздавалось со всех сторон.
Когда она грациозно приблизилась к краю сцены и озарила зал широкой улыбкой, моё сердце затрепетало. Это была Агнешка, искусно скрывавшая свою неземную красоту под маской хрупкости, бледности и скромных нарядов.
Сердце ликовало от того, что в этой толпе незнакомых лиц я увидел человека, который, несмотря на мимолётность нашего знакомства, был мне бесконечно ближе, чем все эти аристократы в своих дорогих одеждах. Мне страстно хотелось, чтобы она тоже заметила меня, но я не осмелился нарушить её триумф.
После этой незабываемой встречи образ прекрасной революционерки, блиставшей на театральных подмостках, не покидал моих мыслей.
Встретившись с Майей в уютном полумраке бара у Фрица, я не удержался и с воодушевлением рассказал ей о своей случайной встрече с Агнешкой в театре. Майя озаряла своей улыбкой мой рассказ, искренне радуясь нежданному открытию.
Оказалось, что работа актрисой была для Агнешки не просто призванием, но и своеобразным пропуском в мир высшего света, где она, искусно притворяясь наивной и беззаботной овечкой, могла подслушивать важные разговоры и собирать ценную информацию. Благодаря своей феноменальной памяти, Катрина Шварц как губка впитывала услышанное, а затем передавала все Юзефу, который, в свою очередь, становился связующим звеном между ней и остальными членами нашей тайной организации.
Мы, в отличие от некоторых других революционных групп, никогда не прибегали к террору как методу борьбы, предпочитая просвещать рабочий класс и пробуждать в нем классовое сознание. Однако, были и те, кто придерживался более радикальных взглядов, например, анархисты. Они организовывали громкие стачки и демонстрации, а иногда даже покушались на жизнь аристократов.
Конечно, ни Катрина, ни кто—либо другой из нашей партии не мог дать абсолютной гарантии, что информация, обсуждаемая на секретных встречах, не попадёт в руки анархистов. Однако, пока что никто не заподозрил Катрину в шпионаже, и она продолжала пользоваться доверием высшего общества, и напоминала мотылёк, порхающий среди ярких огней аристократических салонов.
Мы, наслаждаясь теплотой нашей встречи, решили пропустить по кружке пенного пива. Устроившись в самом тёмном углу бара, мы развернули свежий номер газеты, выпущенной Юстасом.
– А почему он сам не пришёл? Что-то случилось? – поинтересовался я, с тревогой глядя на Майю.
– Увы, дела его совсем плохи. Маркус организовал ему путёвку в санаторий в Литве. Чахотка совсем измучила беднягу, кровь горлом идёт. Врачи говорят, что нужен покой и лечение. Не удивительно, столько времени в том сыром и холодном подвале провести – Майя с горечью вздохнула и сделала большой глоток пива, пытаясь заглушить горькие мысли.
– Может, ему нужна финансовая помощь? Я готов поделиться своими сбережениями – предложил я, искренне волнуясь за Юстаса.
– Благодарю тебя, Адам, но с этим все в порядке. Маркус позаботился о нем. Его хорошо устроили в санатории. К тому же он там немного подрабатывает, чтобы не сидеть без дела. Говорят, питание там приличное, и врачи хорошие. Ты, кстати, сможешь через Агнешку газеты и письма ему передавать. Она имеет возможность передать письмо любому человеку – слабая улыбка на мгновение осветила её лицо.
– А в каком именно санатории он находится? Я бы хотел знать, куда отправлять письма – спросил я, нахмурившись.
– В Друскининкай. Это курортный городок в Литве. Только запомни имя для подписи. Не Юстас Малецкий, а Доктор Адоменас. Так будет безопаснее для всех нас, – прошептала Майя, опасливо оглядываясь по сторонам.
– Вам с Юстасом нужно найти квартиру получше. Ему категорически нельзя возвращаться в тот сырой подвал после санатория. Его здоровье и так подорвано – сказал я, с готовностью предложить свою помощь в поисках жилья.
– Не беспокойся, Адам. Через неделю сюда приедет наш товарищ из Польши, мы зовём его Писатель. Он немец, и тоже предан делу революции. У него здесь есть связи, он обязательно поможет нам с жильём. Я не переживаю на этот счёт – ответила Майя, стараясь придать своему голосу уверенность.
– А как мне передавать письма и газеты Катрине? Есть ли какой-то особый способ? – спросил я, желая уточнить все детали.
– Все очень просто. Кладёшь письмо или газету внутрь букета и отправляешь его в гримёрную театра, где она работает. Есть специальный сигнал, чтобы она поняла, что в букете есть послание. Красные тюльпаны означают, что записка есть. Если же букет из других цветов, значит, послания нет – подробно объяснила Майя.
– А как я пойму, что письмо дошло до адресата, и получу ответ? – продолжил я свои расспросы.
– Видишь у Фрица в углу барной стойки тот старый деревянный ящик с надписью "Потерянные вещи"? Под ним Катрина будет оставлять ответы – письма или газеты. Только прежде, чем доставать их, убедись, что Фриц ничего не заподозрил и не наблюдает за тобой – предупредила Майя. Я кивнул, внимательно изучив ящик, который она указала.
Конечно, было печально узнать о болезни Юстаса. Без него мы все чувствовали себя немного сиротами, хотя я и знал свой фронт работы. Но я представлял, как тяжело Майе справляться со всем в одиночку, хотя она и старалась не показывать вида. За все время нашего знакомства я ни разу не видел их порознь. Они всегда были вместе, словно две половинки одного целого. Юстас поддерживал её, помогал, защищал, был для неё не просто старшим братом, а настоящим оплотом и опорой. Пусть он и ворчал на неё порой, но было видно, как сильно он её любит и заботится о ней.
– Я слышала, как прошла агитация на фабрике Салуорри. Ты большой молодец, Юстас просил передать, что гордится тобой, – вырвала Майя меня из мыслей. – Очень ценно, что ты участвуешь в нашей непростой борьбе.
Майя крепко обняла меня, и я подумал, что, раз Юстас временно не может выполнять роль брата, то я сам буду приглядывать за ней.
Запись 15
Десять дней назад, когда небо ещё только наливалось первыми красками зари, Бернд растворился в предрассветной дымке. В его нехитром багаже лежала не только смена белья и скудные пожитки, но и скромная горсть моих сбережений – посевной материал для новой жизни на чужой земле. Сердце щемило, но я знал – это необходимо. Заботливая Катрина, не покладая рук собирала нектар возможностей, облетая все уголки Миттена в поисках подходящего места для Бернда. И вот удача улыбнулась: к моменту отъезда у порога дома его уже дожидался некто господин Хенляйн, чьё имя – миттенский нотариус – произносилось в округе с почтительным придыханием. Этот человек, облечённый властью и влиянием, сулил дяде не просто обучение какому-то ремеслу, а настоящее посвящение в таинства юриспруденции, а впоследствии и «чистую» работу, щедро приправленную обещаниями солидного, более чем достаточного заработка. Бернд, обладающий цепким, проницательным умом и ненасытной жаждой знаний, был, безусловно, желанным учеником. Хенляйн позаботился и о жилище, предоставив им временный кров – просторную, по слухам, комнату в своём доме. Она должна была стать не тесной клеткой, а своего рода гнездом, где они смогли бы удобно разместиться, не стесняя друг друга. По крайней мере, так утверждал Хенляйн.
Камень тревоги, давивший на грудь, чуть сдвинулся с места. Мысль о том, что Бернд попадёт в лапы моей матери терзала меня. Но Хенляйн… Человек с положением, с именем. В этом мире, где справедливость часто склонялась к тем, у кого громче звенят монеты в кармане, положение Хенляйна служило своеобразным оберегом. Конечно, это циничное утешение, но всё же это давало хоть какую—то надежду, иллюзорное, но такое необходимое чувство безопасности для Бернда. Полиция охотнее станет разбираться, если что—то случится с протеже нотариуса, чем с безымянным бродягой. Эта мысль, хоть и пропитанная горечью, теплила в моей душе крошечный огонёк успокоения.
Подводя черту под нашей короткой, но оставившей глубокий след встрече, я могу сказать лишь одно: я безмерно рад знакомству с этим человеком. Бернд поразил меня ясным взглядом на мир, какой—то внутренней силой, которая просвечивала сквозь его скромность. В нем чувствовалась надёжная опора, здравомыслие, не свойственное его молодым годам. Он оказался тем редким типом родственника, которым можно гордиться, и на которого можно положиться. И эта мысль согревала. Рядом с тёплыми, полными нежности образами Юдит и её детей, которые всегда будут жить в моём сердце, теперь навсегда поселился светлый лик Бернда Смита. Лицо, озарённое лучами надежды, лицо, которое, я верю, ещё не раз осветит этот мир улыбкой. И эта вера была для меня важнее всех богатств мира.
Майя стала частью моего повседневного бытия. Верный данному себе слову, я приглядывал за ней, периодически появляясь на её пороге с нехитрым пропитанием. Поначалу она гордо отказывалась от моей помощи, но я с тайным удовлетворением наблюдал, как запасы, оставленные мной, постепенно тают. Писатель, благодаря своим связям, нашёл для неё и Юстаса крошечную комнатку. Конечно, условия были более чем скромными: в этой коммунальной квартире, помимо них, ютилось ещё семь человек. Воздух был пропитан запахами бедности, постоянно слышались кашель, детский плач, но лицо Майи светилось счастьем – ведь это было несравнимо лучше сырого и холодного подвала.
Она устроилась на хлопчатобумажную фабрику Салуорри и, получив первую зарплату, львиную долю отправила в Друскининкай и Замосць, поддержав семью и оплатила жильё. Юстасу же гордо сообщила, что прекрасно справляется сама и ни в чем не нуждается. В такие моменты я засматривался на эту девушку, мудрую не по годам, поражаясь её самопожертвованию во благо других. Эта черта, казалось, была врождённой у всех революционеров. Сам будет голодать и мёрзнуть, а последний кусок хлеба отдаст нуждающемуся… И тут меня осенила мысль: скорее всего, Майя делилась принесённой едой с многодетной семьёй из той же коммуналки.
Именно тогда, вдохновлённый примером Майи, я, наконец, набрался смелости и приступил к изучению одного из фундаментальных трудов коммунистической идеи – «Капитала» Карла Маркса. Сложный, порой запутанный язык философии давался мне с трудом. Несмотря на мою врождённую усидчивость и дисциплину, приходилось перечитывать некоторые абзацы снова и снова, словно распутывая замысловатый узел. И вот, что мне удалось постичь: теорию прибавочной стоимости, порождающую неизбежную классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом; товарный фетишизм, скрывающий истинные отношения между людьми; циклическую природу капитализма, обречённого на кризисы перепроизводства; и, наконец, неизбежность наступления социализма, как логического итога развития истории.
Эта последняя мысль заставила меня задуматься. Даже если революция победит, капитализм, словно гидра, может возродиться из пепла. Возможно, мы не доживём до этого мрачного дня… а может, и доживём. И даже тогда, через многие десятилетия, социализм все равно восторжествует, хоть мы этого и не увидим. Но какой бы ни был исход, единственный верный путь – продолжать бороться. Ведь Маркс и Энгельс, несмотря на поражения и преследования, не сложили оружия. Их идеи, словно семена, разлетелись по всему миру, пустили корни в разных странах, о чем красноречиво свидетельствовали газетные вырезки, которые я бережно собирал. И эта мысль вдохновляла меня больше всего.
Под впечатлением от прочитанного, словно охваченный пророческим духом, я написал Юстасу длинное письмо, изложив свои выводы и размышления. Он просил держать его в курсе моих наблюдений, моего постепенного погружения в пучину коммунистической философии, и я с рвением неофита выполнял его просьбу.
Увы, вместе с интеллектуальным просветлением в мою жизнь прокралась и пагубная привычка – курение. То блаженное расслабление, которое я испытал в день свадьбы Мичи и Максимилиана, оказалось коварным соблазном. Мой организм решил, что трубка с мягким табаком – лучшее лекарство от душевных терзаний. И теперь каждый вечер, словно ритуал, я отдавал дань этому новому пороку, после чего проваливался в глубокий, безмятежный сон, чтобы к пяти утра встретить рассвет бодрым и отдохнувшим.
В самом доме царила странная, гнетущая тишина. Он словно замер, оцепенел, однажды глубоко вдохнув свежего воздуха и теперь боясь нарушить хрупкое равновесие. Я больше не видел Ганса, старательно избегая встреч с ним, обедая то раньше, то позже всех остальных. Семейство Кесслер дрейфовало в океане собственных проблем и планов, предпочитая не замечать друг друга. Только Клэр и отец постоянно совещались, о чём-то важном, их голоса, словно нити заговора, переплетались в тишине кабинета.
Я же, движимый жаждой правды, не собирался отказываться от своего расследования. Специально заведённая папка с компроматом постепенно толстела. На листах бумаги вырисовывалась приблизительная картина происходящего, словно мозаика, собранная из обрывков подслушанных разговоров. Но мне нужны были более весомые улики. Я подозревал, что ключ к тайне Анжелики хранится в кабинете отца, но не исключал и библиотеку. Ведь дедушка, когда-то сказал мне мудрые слова: «Библиотека хранит не только книги, но и все сведения о доме, от самого первого его жильца».
Эта папка, тяжёлая от секретов, стала своеобразной страховкой в этой опасной игре. Я ещё не знал, как именно распоряжусь собранным компроматом, но предчувствовал, что, когда-нибудь он может спасти мне жизнь. Эта мысль дарила иллюзорное чувство безопасности. Но я отдавал себе отчёт, что злоупотреблять этим оружием нельзя.
Я знал, что, когда-нибудь, оглядываясь назад, я осужу себя за эту холодную расчётливость. Но, вырастая в этом кишащем «террариуме» живых паразитов, я невольно научился их же методам. Здесь, в этом доме, тебя мгновенно примут за беззащитного дождевого червя и съедят живьём, если ты сам не покажешь зубы, не научишься кусаться. Это был жестокий урок выживания, и я усвоил его на отлично.
В пятницу почтальон доставил весточку от Мичи, тонкий конверт с франкфуртским штемпелем. Клэр, с трепетом в руках, вскрыла письмо и вслух прочитала известия от дочери. Мичи писала о своей новой жизни, о переезде в просторный дом Максимилиана, где можно было днями бродить по одной его половине, так и не встретив мужа, погруженного в работу в другой. Описывала свою повседневность, наполненную визитами в светские салоны – дамы, знакомые с Максимилианом, оказывали ей явное внимание. Дни пролетали незаметно за рукоделием, музыкой и чтением; иногда Мичи отправлялась на верховые прогулки, вдыхая свежий воздух свободы. И, конечно же, как и полагается даме её круга, решила совершенствоваться в английском. В её письме просвечивали и дальновидные планы: после поездки в Санкт—Петербург Мичи намеревалась завести ребёнка, чтобы окончательно укрепить своё положение в доме Дресслеров, словно пустив корни в плодородную почву.
Лицо Клэр, слушавшей письмо, сияло. Не просто благоговением, а чем—то большим – торжеством матери, чей тщательно выстроенный план блистательно воплощался в жизнь. В каждом слове Мичи она слышала не только рассказ о повседневности, но и подтверждение своего собственного успеха. Дочь занимала положенное ей место в высшем свете, вращаясь среди влиятельных людей, купаясь в лучах богатства и уважения. Это была не просто удачная партия для Мичи, это была победа всего клана Кесслер, ступенька вверх на социальной лестнице. И Клэр, как истинный стратег, с гордостью обозревала плоды своих трудов. Финансовое благополучие Дресслеров становилось залогом стабильности и для нас. Это была сладкая победа, вкус которой Клэр смаковала с особенным, почти чувственным удовольствием. В её глазах плясали огоньки самодовольства, а губы сами собой складывались в едва заметную улыбку.
Среди вороха исписанных строк, повествующих о новой жизни Мичи, затерялось и мимолётное упоминание обо мне. Клэр, скользнув по ним равнодушным взглядом, без тени интереса в голосе обронила: «Тебе тоже что-то тут написано». И с презрительной небрежностью, как бы бросая кость под ноги дворовой собаке, швырнула письмо мне под ноги. Я даже не пошевелился, чтобы поднять его. Мой взгляд, острый как лезвие, сам нашёл нужные строчки: короткая, формальная просьба Мичи написать ей. Ни теплоты, ни сестринской заботы. А о Гансе – ни слова. Видимо его имя и сам образ, были тщательно вычеркнуты из новой, блестящей жизни Мичи Дресслер.
Загадка, заключённая в этих немногих строчках, не давала мне покоя. Чего хочет от меня Мичи? Клэр знает все подноготную нашего дома и, безусловно, уже осведомила дочь о последних событиях. Значит, обращаясь ко мне, Мичи преследовала какую-то иную цель. Хотела, о чем-то попросить или что-то сообщить?
Я решил выждать. И дело было даже не в моём отношении к Мичи. Просто не видел смысла отправлять письмо с единственным скупым вопросом. Мне нечего было ей рассказать, поделиться своими мыслями и сомнениями. Я понимал, что она, погруженная в свой новый, блестящий мир, никогда не поймёт моих взглядов, моего стремления к справедливости. В лучшем случае она просто проигнорирует моё письмо. А в худшем… может ненароком подставить, выдав мои секреты тем, кому не следует. Зная легкомысленный нрав сестры, её неумение хранить тайны, я подозревал, что она уже отправила мне ответ, новое письмо, полное сплетен и просьб. И это письмо должно было прибыть со дня на день. Оставалось лишь ждать и готовиться к новому витку этой странной, запутанной игры.
Приложения к записи 15
«Здравствуй, Адам К.!
Твоё письмо с размышлениями о «Капитале» дошло до меня. Я несказанно рад, что ты осилил этот труд! Вижу, ты не стоишь на месте, развиваешься, используешь свободное время для поглощения полезной литературы. Уверен, твои статьи теперь заиграют новыми красками, обретут глубину и проницательность. Мне нравится, как ты умеешь объяснять сложные вещи простыми словами – это именно то, что нужно для рабочих, для простого народа.
Не стоит унывать из-за мысли, что мы, возможно, не доживём до Революции, или что после неё капитализм может вернуться. Любое поражение – это всего лишь повод провести работу над ошибками, чтобы наши дети и внуки смогли возобновить борьбу и добиться победы. Не забывай, что искра революции может вспыхнуть и в другой стране. И тогда опыт наших неудач поможет рабочим других стран избежать ошибок, усилить борьбу. А мы, в свою очередь, должны быть готовы поддержать их, чем сможем.
Мои дни в Друскининкай текут спокойно и размеренно. Кашель стал отступать. Один местный знакомый посоветовал мне специальный сбор для облегчения кашля – мать—и—мачеха, тимьян и дурман. И, знаешь, это действительно помогает! Я, наконец, стал нормально спать. Воздух здесь чистый, настоящий эликсир жизни, везде пахнет лечебными грязями и минеральными водами. Питание отличное, денег мне хватает. Догадываюсь, что ты присматриваешь за Майей. Передай ей, пожалуйста, что я ни в чем не нуждаюсь, и ей не стоит отправлять мне деньги. Пусть лучше позаботится о себе.
Кстати, как она? Знаю, что в своих письмах она будет приукрашивать действительность, но я все равно беспокоюсь за неё. Надеюсь, у неё все хорошо.
К письму прилагаю наброски для газеты. Добавь их, пожалуйста, в ближайший номер.
С уважением,
Доктор Адоменас»
«Уважаемый Доктор Адоменас,
Прилагаю к письму свежий номер газеты с Вашими набросками. Надеюсь, читатели оценят их по достоинству.
Искренне рад слышать об улучшении Вашего здоровья. Однако не советую торопиться с возвращением в Берлин. Пожалуйста, доведите лечение до конца, позвольте лечебным силам Друскининкай полностью восстановить Ваши силы. Не беспокойтесь о Майе, она уже взрослая девушка, даже старше меня, и вполне способна позаботиться о себе. Зная её характер, Вы, конечно, понимаете, что мои просьбы не тратить свою зарплату на Вашу поддержку окажутся тщетными. Она настолько самоотверженна, что готова последнюю рубашку снять, лишь бы помочь ближнему. Поэтому советую Вам просто принять её помощь и, если деньги Вам сейчас действительно не нужны, откладывать их. Когда-нибудь Вы сможете вернуть ей этот долг.
Да, я действительно забочусь о Майе, но ровно настолько, насколько она позволяет мне это делать. Она независимая, сильная девушка с бойцовским характером. Вам есть чем гордиться. Писатель, как Вы знаете, помог ей с жильём. Комната, которую она снимает, небольшая, но тёплая. Уверяю Вас, я не приукрашиваю действительность, как и Майя. Она действительно довольна своими условиями жизни.
В связи с этим у меня возник вопрос. Я хотел бы более активно участвовать в деятельности партии, в частности, помочь с поиском и вербовкой новых членов. Возможно ли это? Готов выполнять любые поручения.
С уважением,
А»
«Мой дорогой Адам,
Надеюсь, это письмо найдёт тебя в добром здравии. Извини, что в прошлый раз написала так мало – была в суматохе переезда и обустройства на новом месте. Франкфурт – город шумный и беспокойный, но я постепенно привыкаю. Дом Максимилиана, как я уже писала, просто огромен, порой мне кажется, что я блуждаю в городе, а не в доме. Светские рауты следуют один за другим, новые знакомства, обязанности… Времени катастрофически не хватает.
Но несмотря на всю эту мишуру, мысли мои часто возвращаются в Берлин, к вам всем. Как ты? Как папа, Клэр? И… как Ганс?
Знаю, что между нами произошла неприятная сцена, и я поступила не очень хорошо. Но, поверь, я ни на миг не забывала о Гансе. Несмотря на обиду, я искренне переживаю за него. Как он перенёс моё замужество? Как справляется со всем происходящим? Чем сейчас занимается?
Адам, я очень прошу тебя, узнай о нем все, что сможешь. И напиши мне. Только, пожалуйста, никому ни слова об этой моей просьбе, особенно самому Гансу. Не хочу, чтобы он думал, будто я навязываюсь или пытаюсь вмешиваться в его жизнь. Просто… мне нужно знать, что с ним все в порядке.
Надеюсь на твоё понимание и помощь. Жду твоего письма с нетерпением.
С самой тёплой сестринской любовью,
Мичи»
«Милая Мичи,
Твоё письмо получил, не ожидал, что среди светских раутов и новых знакомств ты найдёшь время вспомнить о своей прошлой жизни. Франкфурт, говоришь, шумный и беспокойный? Что ж, надеюсь, ты уже прикупила себе достаточно платьев и шляпок, чтобы не слишком выделяться на фоне местных модниц.
Что касается Ганса, то… он все ещё дышит. Твой отъезд, конечно, стал для него настоящей трагедией, похлещё, чем последний акт самой слезливой оперы. Он, бедняга, целыми днями бродит, словно тень, бормоча что—то о неблагодарности и коварстве женщин. В работу, правда, тоже ушёл с головой, видимо, решил построить себе новый мир.
Если тебя так сильно беспокоит судьба Ганса, то почему бы тебе не написать ему самой? Или ты боишься, что он не оценит твоей внезапной сестринской заботы после того, как ты так элегантно выпорхнула из его жизни?
В общем, Мичи, думаю, на этом можно и закончить нашу трогательную переписку. У тебя, наверняка, есть дела поважнее, чем вспоминать о своих "шалостях" в Берлине.
Всего наилучшего в твоей новой, блестящей жизни,
Адам»
Запись 16
Предыдущая запись стала финальной в моей тетради, чернильным эпилогом детской наивности. Пришло время заводить новую – чистый лист, ждущий истории взросления, истории борьбы. Не знаю, сколько информации она принесёт вам, дорогие читатели будущего, и не знаю, напишу ли я её полностью. Тень жандармов ложится на город всё гуще, их сети сплетаются всё теснее, захватывая революционеров одного за другим. «Играть в революцию» становится всё опаснее, детская забава превращается в жестокую реальность. Идейность требует серьёзного подхода, отчаянных решений, холодной отваги и бесстрашия перед лицом неизбежного.
Когда-то, на первых страницах этой истории, я писал о равенстве в подполье, о том, что здесь не смотрят на возраст, что ребёнок и взрослый равны в своей преданности делу. Тогда это вызывало во мне восторг и уважение. Теперь же я понимаю истинную причину такого равенства: в подполье нет места детям. Никто не будет терпеть капризы, нюни и детские страхи. Жизнь, суровая и непрощающая, научит быть взрослым. Жизнь и вечный, леденящий душу страх, что однажды в дом постучат жандармы, их тяжёлые сапоги осквернят святость домашнего очага.
Я убегал уже от них. Спасла меня случайная шляпа, найденная на улице, спрятавшая Адама Кесслера от натренированных глаз сыскарей. Я бежал так быстро, что казалось, будто лёгкие вот-вот разорвутся, ноги превратятся в кровавое месиво. В боку кололо с непривычки, отчаянно хотелось остановиться, упасть на землю и сдаться на милость преследователей. Но что—то двигало меня вперёд, неуловимое и могущественное, словно сама воля к жизни. Добравшись до тёмного проулка, я затаился в его глубине, выжидая, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Через несколько минут, убедившись, что опасность миновала, я вышел обратно, уже без шляпы, в своей дорогой одежде, словно ничего не произошло.
Я постоянно клеил листовки. Везде, где только можно. На людных площадях и в тихих переулках, на стенах домов и заборах. Доезжал ночами до ближайших деревень и расклеивал их там, неся слово правды в самые отдалённые уголки. Пальцы покрывались ожогами от горячего клея, рука дрожала от усталости, но я продолжал. Страх и долг стали моей пищей, заглушая физический голод и вызывая постоянную потерю аппетита.
Я стал намного чаще выступать перед рабочими. Набирался смелости, посещая заводы знакомых родителей. Кричал во всё горло, своим хриплым, ломающимся голосом самые жестокие агитационные фразы, призывая людей проснуться от спячки, открыть глаза и подумать о своей жизни. Я хотел быть их будильником, неумолимым и громким, разбудить их от этого сладкого сна, который на самом деле был кошмаром.
Тем временем в стране свирепствовала смерть. Кладбища распустили свои чёрные крылья, каждый день принимая десять и более новых могил. Условия жизни ухудшались, нищета и голод становились постоянными спутниками простых людей. Бисмарк, железный канцлер, казалось, не хотел замечать этого, был слишком занят своими политическими играми. Местечковая коррупция расцветала пышным цветом, вбивая ещё один гвоздь в крышку гроба праведной жизни крестьян и рабочих. Обращаясь к мелкому чиновнику, граждане либо ждали месяцами решения своей проблемы, либо получали отказы в оказании помощи, оставаясь один на один со своим горем.
Но худшее, что может быть – уныние. Нельзя позволять его черным костлявым рукам управлять нами. Нельзя давать ему возможность победить и заглушить революцию в сердце. А оно бывает больно колется, когда рабочие не согласны что—то менять. Ведь большинство так или иначе придерживается индивидуализма, и пока их семью не затрагивают проблемы, нет смысла обнажать свой клинок.
Помнится, ещё в мае, я бережно вложил в свой дневник краткую переписку с Юстасом, которого мы знали в Друскининкай как доктора Адоменаса. Одно письмо было от него самого, полное надежд на скорую встречу и тревоги за наше общее дело. Второе – от меня, с просьбой разрешить вербовать новых людей в партию. Эти письма были для меня словно ниточка, связующая меня с уверенностью продолжать идти до конца. Я передал его Агнешке, надеясь, что она найдёт способ передать его Юстасу. И ждал, ждал с замиранием сердца, когда же придёт ответ, хотя бы несколько строк, которые подтвердят, что с Юстасом всё хорошо. Но дни тянулись бесконечно долго, недели сменяли друг друга, а ответа всё не было. Наконец, Агнешка вернула мне письмо. Её лицо было мрачным, а в глазах читалась безнадёжность. Юстас пропал. Он не подал условленного сигнала из санатория, не вышел на связь ни с кем из наших товарищей. Словно растворился в воздухе. В наших сердцах зародилось страшное предчувствие. Скорее всего, ему пришлось бежать, скрываться от полиции, которая, вероятно, уже шла по его следу. Мы оказались совершенно бессильны перед этой ситуацией. Всё, что нам оставалось – это ждать, ждать и надеяться на лучшее, надеяться, что Юстас найдёт способ дать о себе знать, что он жив и находится в безопасности.
Майя, была в отчаянии. Её сердце сжималось от волнения и страха за брата. Она металась по дому, не в силах найти себе места. Несколько раз я встречал её на вокзале, она собиралась ехать в Друскининкай. Мне приходилось удерживать её почти силой, убеждать, что сейчас не время для импульсивных действий, что поиски могут быть смертельно опасны. Если Юстас действительно попал в поле зрения жандармерии, то, скорее всего, они уже расставили ловушку и ждут, когда кто—то из его близких или друзей попытается найти его. Я был абсолютно уверен, что это так. Это была ловушка, хитрая и безжалостная, и она обязательно захлопнется, как только кто—то попадётся на наживку. Нам оставалось только ждать, затаив дыхание, надеяться, чтобы Юстас был достаточно осторожен, чтобы избежать жандармской клетки.
Пока не было подтверждено, но подозрение, что Юстаса арестовали, уже тяготело над нами, тяжёлое и холодное. И всё же, жизнь подполья продолжалась. Наша маленькая ячейка понимала: колесо борьбы не должно остановиться. Съезды, встречи, листовки – всё должно идти своим чередом, несмотря на постоянную опасность. В воздухе вибрировало напряжение, готовность к действию. Если худшие опасения подтвердятся, Маркус, Юзеф и Шмидт, ветераны подпольной борьбы, немедленно вступят в игру. Социал-демократия своих не бросала. Юстас сам вдалбливал нам с Майей этот принцип: помощь – да, но тень, анонимность – превыше всего. Восемьдесят процентов усилий – на борьбу, двадцать – на спасение попавших в беду. Жестокая, но необходимая арифметика выживания. И всё же, ледяной прагматизм не мог полностью подавить тревогу и желание помочь. Скромная сумма, переданная Агнешке – скорее жест отчаяния, чем реальная помощь, но даже искра может разжечь пламя. А вдруг именно эта искра окажется решающей?
Отъезд Ганса в Оксфорд, на медицинский факультет, стал едва заметной рябью на поверхности моей бурной жизни. Без прощаний, без объятий. Лишь отец и Клэр вышли проводить его до кареты, и обрывок фразы, брошенной Гансом словно мимоходом – "Не приеду до самого конца учёбы" – донёсся до меня, отчётливый и холодный, как звон монет об могильный камень. Теперь их взгляды, тяжёлые от невысказанных упрёков и подозрений, сфокусируются на мне, словно лучи прожектора. Клэр, с её удушающей заботой и стремлением контролировать каждый мой вздох, и всё это лицемерное, блестящее общество, в которое я вынужден погружаться время от времени, – все они теперь будут смотреть на меня ещё пристальнее. Я был готов к этому. Готов к неизбежному разоблачению, к тому, что моя двойная жизнь всплывёт на поверхность, как труп в пруду. Готов к отречению тех, кого я когда—то называл семьёй. Собранная сумка и деньги, спрятанные на черный день, – мой единственный билет в неизвестность. Но если арест случится раньше… Мне нужно найти место. Абсолютно секретное, надёжное, известное только мне. Место, где мои немногие вещи и деньги, ключи от моего гипотетического будущего, будут в безопасности.
Я решил обследовать комнаты Ганса и Мичи, надеясь найти хоть малейший намёк на подтверждение моих подозрений об их отношениях или хотя бы узнать о них что—то новое.
Открыв дверь в комнату Ганса, я шагнул в пространство, пропитанное строгостью и сдержанностью. Стены, выкрашенные в ровный серый цвет, словно подчёркивали аскетичность обстановки. Никаких украшений, никаких лишних деталей – только функциональная мебель, необходимая для жизни.
Первое, что бросалось в глаза, – это массивный письменный стол из светлого дерева, занимавший почётное место у стены. Его отполированная поверхность блестела, отражая тусклый свет, проникающий сквозь окно. На столе царил идеальный порядок: аккуратно сложенные бумаги, подставка с перьями и чернильницей, несколько книг с ровно обрезанными страницами.
У противоположной стены стояла простая кровать с металлическим изголовьем. На ней лежало аккуратно заправленное одеяло серого цвета, гармонирующего с общим тоном комнаты. Рядом с кроватью располагалось небольшое окно, выходящее, судя по всему, во внутренний двор. Тяжёлые шторы были раздвинуты, впуская в комнату скупой дневной свет.
Вдоль одной из стен стоял высокий платяной шкаф из того же светлого дерева, что и письменный стол. Его гладкие дверцы были плотно закрыты, не выдавая ни малейшего намёка на содержимое. Рядом с ним располагался книжный шкаф, за стеклянными дверцами которого виднелись ряды книг, расставленных в строгом алфавитном порядке.
В воздухе витал едва уловимый, но отчётливый аромат аккуратности и порядка, смешанный с лёгким запахом дерева и бумаги. Создавалось впечатление, что Ганс лишь ненадолго отлучился, вышел на прогулку или по делам, и вот-вот вернётся, чтобы сесть за свой письменный стол и продолжить учёбу. Эта почти стерильная чистота и порядок невольно вызывали чувство насторожённости, словно я вторгся в чьё—то очень личное пространство.
Я двигался по комнате медленно, осторожно ступая по деревянному полу. Старые половицы поскрипывали под моими ногами, издавая тихие, мелодичные звуки. Я прислушивался к каждому скрипу, словно пытаясь уловить в них какую—то скрытую мелодию, подсказку, которая могла бы направить меня на верный путь.
Мой взгляд скользил по книжным полкам, заставленным томами книг. Я внимательно изучал корешки, проводя пальцем по вытесненным названиям, останавливаясь на каждой, пытаясь угадать содержание по загадочным титулам. Некоторые из них были мне знакомы, другие казались совершенно незнакомыми и интригующими. Я брал книги с полок, листал страницы, надеясь найти случайно оставленную закладку, записку или хотя бы подчёркнутую фразу, которая могла бы пролить свет на тайну Ганса и Мичи.
Закончив с книгами, я принялся за шкафы. Тщательно осматривал каждую полку, простукивал стенки, ища потайные отделения или двойное дно. Ощупывал карманы висевшей в шкафу одежды Ганса, проверяя швы и подкладку. Даже пуговицы на его пиджаках не ускользнули от моего внимания – я осторожно проверял каждую из них, надеясь, что она окажется секретной.
Письменный стол также подвергся тщательному обыску. Я медленно выдвигал ящики один за другим, ощупывая их внутренние стенки и дно. В них лежали аккуратно сложенные бумаги, перья, чернила, но ничего, что могло бы хоть как—то связывать Ганса с Мичи или подтвердить мои подозрения. Три ящика – и три разочарования.
Постепенно надежда найти хоть что—то начала угасать. Либо я ошибался в своих предположениях, и между Гансом и Мичи не было никакой тайной связи, либо Ганс оказался настолько предусмотрителен, что тщательно убрал все следы, которые могли бы меня навести на след.
Меня не покидало смутное беспокойство, и я решил зайти и в комнату сестры. Но Микаэла перевезла львиную долю своих вещёй в дом Максимилиана. И всё же, я начал осматривать то, что осталось. Сгорая от любопытства и нарастающего подозрения, я начал методично осматривать каждую игрушку. Я проверял карманы кукольных платьев, заглядывал внутрь плюшевых зверей, даже разобрал башенку из кубиков, надеясь найти хоть малейший намёк, записку, фотографию – что угодно, что могло бы пролить свет на эту странную ситуацию.
Но мои поиски оказались тщетными. Игрушки были пусты. В комнате Мичи, кроме игрушек, не было абсолютно ничего. С тяжелым сердцем, полным неразрешённых вопросов и усилившихся подозрений, я вышел из комнаты, чувствуя, что загадка становится все более запутанной. Тихо прикрыв за собой дверь, я бросил последний взгляд на безжизненно яркие игрушки и покинул комнаты.
Прошло два дня. Мысль о комнате Ганса и необъяснимой пустоте в комнате Мичи продолжала беспокоить меня, словно заноза. Но навязчивое желание разгадать эту загадку временно отступило на второй план, уступив место более прозаичной проблеме. Мой шкаф был до отказа набит одеждой, и я решил воспользоваться свободным местом в комнате брата.
Зайдя в комнату Ганса, я открыл платяной шкаф. Внутри висели несколько его костюмов, аккуратно разложенных по плечикам. На полках лежали сложенные рубашки и свитера. Я начал перекладывать свои жакеты, стараясь не нарушить царивший здесь порядок. Взяв в руки очередной жакет, я почувствовал, как что—то отлетело от него. Металлический звон о деревянный пол – пуговица. Она отскочила от края шкафа и покатилась под кровать Ганса.
Вздохнув, я понял, что без пуговицы не обойтись. Жакет был один из моих любимых, и я не хотел его терять. Кровать Ганса стояла низко, почти у самого пола. Чтобы достать пуговицу, мне пришлось опуститься на колени, а затем лечь на живот и протянуть руку под кровать. Пальцы нащупали гладкий деревянный край. Это была не пуговица. Заинтересованный, я подтянул находку к себе. На свет появилась небольшая, искусно сделанная шкатулка из тёмного дерева.
Шкатулка оказалась неожиданно тяжелей для своих размеров. Я приподнялся, уселся на пол, прислонившись спиной к кровати, и осторожно открыл крышку. Сердце забилось быстрее, предчувствуя важное открытие.
Внутри, на мягкой бархатной подкладке, лежал миниатюрный портрет Мичи. Он был написан на слоновой кости тонкой и искусной кистью. Мичи на портрете улыбалась своей очаровательной, немного застенчивой улыбкой, и казалось, что её глаза живые и смотрят прямо на меня. Портрет был аккуратно перевязан узенькой жёлтой лентой – такой же лентой Мичи обычно завязывала свои волосы. Рядом с портретом лежал небольшой локон тех же рыжих волос, сверкающий в приглушенном свете комнаты.
Под портретом я обнаружил несколько сложенных листков бумаги. Это были письма, написанные от руки, без конвертов. Только пробежав глазами первые строчки, я сразу узнал почерк Ганса – ровный, чёткий, с характерным наклоном букв влево. В груди сжалось что—то тяжёлое. Я понимал, что держал в руках секрет, который Ганс так тщательно охранял. Тайна, связывающая его с Мичи, наконец начала раскрываться передо мной. Оставалось только прочитать эти письма и понять, что же на самом деле происходило.
Я позволяю вам быть свидетелями того ужаса, что я испытал, читая каждую строку. Шок и отвращение. Лучше бы я не жаждал так отчаянно добираться до истины. Лучше бы подавил в себе любопытство.
«Моя маленькая любимая рыжая Мишель,
Прости меня, умоляю! Я был не прав, тысячу раз не прав, что не защитил тебя от злой Клэр. Ты же знаешь, моя нежная, моя хрупкая, что если бы я посмел поднять руку на эту фурию, если бы даже, по твоему желанию, избил её до полусмерти, – она бы осыпала тебя ещё более жестокими оскорблениями, ещё более изощренными издевательствами. И мысль об этом, о твоих слезах, о боли, которую она могла бы тебе причинить, парализовала меня, сковала по рукам и ногам.
Моя маленькая любимая искорка, я бы душу дьяволу продал, чтобы ты простила меня! Ты слышишь, как я плачу? Каждый день, каждую минуту я оплакиваю свою жизнь без тебя. Эта разлука – пытка, ад кромешный! Клянусь, если мы не начнём общаться снова, если ты не вернёшь мне свет своей улыбки, я повешусь! Эта невыносимая вина, этот грызущий меня изнутри червь сожрёт меня заживо!
Мишель, сестра моя, любовь всей моей жизни, единственная госпожа моего сердца… Если ты хочешь, чтобы я разделил твоё заточение, я сделаю это! Клянусь! Хочешь, я тоже перестану выходить из этой комнаты? Скажи только слово! Постукивай своими чудесными, тонкими пальчиками по стене, и я буду отвечать тебе. Только не молчи, умоляю! Не убивай меня этим молчанием, этой ледяной стеной равнодушия!
Навеки, до последнего вздоха, только твой, единственный, любящий тебя больше жизни,
Ганс»
«Моя обожаемая, моя ненаглядная Мишель,
Каждый миг, проведённый вдали от тебя, – это адская мука, огонь, сжигающий меня изнутри. Стены этой проклятой комнаты давят на меня, душат, словно хотят вырвать из груди бьющееся только для тебя сердце. Мне невыносимо знать, что ты так близко, за этой тонкой перегородкой, и в то же время так недостижимо далеко. Почему, зачем ты заточила себя в этой темнице? Почему лишила меня света твоих глаз, тепла твоих рук?
Я изнываю от тоски, Мишель! Воспоминания о тебе – единственное, что поддерживает во мне жизнь. Я закрываю глаза и вижу тебя: твои золотистые волосы, рассыпанные по плечам, твою лучезарную улыбку, твои глаза, сияющие ярче тысячи звёзд… И твои губы, моя сладкая Мишель! Я жажду их как пустыня жаждет дождя! Эти губы, дарившие мне самые красочные, самые пьянящие поцелуи, вкус которых я до сих пор чувствую на своих губах.
Прости меня, моя богиня, за то, что не смог уберечь тебя от грубости этого мира. Я готов на все, чтобы искупить свою вину! Только скажи, что мне нужно сделать, и я сделаю это не раздумывая! Выйди ко мне, моя любовь! Освободи меня из этого плена одиночества! Один твой взгляд, одно твоё прикосновение – и я снова буду жить!
Твой навеки,
Ганс.»
«Моя бесценная Мишель,
Ты не поверишь, какую гнусную интригу плетёт против нас эта проклятая Клэр! Она вознамерилась женить меня на Хелле! На этой бледной, безжизненной кукле, чьи глаза пусты, как ночное небо без звёзд! Представляешь, какое кощунство?! Она хочет приковать меня к ней, словно каторжника к галерам! Но я лучше лягу под поезд, чем соглашусь на этот фарс! Клянусь тебе, моя любовь, я никогда не принадлежал и не буду принадлежать никому, кроме тебя!
Пусть Клэр пеняет на себя! Если она будет настаивать на своём, я найду способ избавиться от Хеллы. Я не позволю никому встать между нами! Наша любовь – это священное пламя, которое не в силах потушить никакие интриги и козни!
Мишель, моя страсть к тебе с каждым днём становится все сильнее! Я мечтаю о моменте, когда смогу снова прижать тебя к себе, вдохнуть аромат твоих волос, ощутить вкус твоих губ… Эта разлука разрывает меня на части! Выйди ко мне, моя богиня! Я умру без тебя!
Твой навеки,
Ганс.»
«Мишель,
Я… я не понимаю тебя. Адам был у тебя. Тот самый Адам, которого ты так старательно избегала все эти годы. Которого ты обвиняла… во всем. И ты… ты впустила его. В свою комнату. В свой… свой мир. Зачем, Мишель? Зачем?!
Ты же сама построила эту стену, между нами, между собой и всем миром. Заперлась в этой комнате, отгородилась от всех, кто пытался тебя понять, помочь… И теперь ты нарушаешь свои же правила, свои принципы… ради чего? Чтобы досадить мне? Чтобы показать, как сильно я тебя обидел?
Это… это же просто детство, Мишель! Глупая, детская игра! Ты играешь с огнём, ты играешь с моими чувствами! Разве ты не понимаешь, что каждый твой поступок, каждое твоё слово – это кинжал в моё сердце?
Я так хотел верить, что ты другая… Что ты выше всех этих мелких интриг и обид… Что наша любовь… наша связь… сильнее всего на свете… Но… но я ошибался.
Ты сама разрушаешь все, что было, между нами, Мишель. И я… я не знаю, что мне теперь делать…»
«Мишель! Мишель! МИШЕЛЬ!
Как ты могла?! Как ты посмела?! Выйти замуж за этого… этого… Дресслера?! Это же… это же просто немыслимо! Предательство! Ты растоптала нашу любовь, нашу священную клятву! Ты бросила меня в пучину отчаяния, обрекла на вечные муки! Я проклинаю тот день, когда впервые увидел тебя! Проклинаю твои прекрасные глаза, твои волшебные волосы, твои губы, которые… которые я так любил целовать… Проклинаю Клэр, эту ядовитую гадюку! Это все она! Она с самого начала строила козни против нас! Давила на тебя, угрожала, шантажировала! Я знаю! Я чувствую!
О, Мишель… Моя нежная, моя любимая… Зачем? Зачем ты это сделала? Разве ты не помнишь наших прогулок под луной, наших тайных встреч, наших пламенных объятий? Разве ты забыла, как мы клялись друг другу в вечной любви? Или все это было ложью? Игра? Жестокая издёвка над моими чувствами?! Клэр отравила твой разум своим ядом! Она лишила тебя воли!
НЕТ! Я не верю! Ты не могла! Ты же моя рыжая белка, моя искорка, моя богиня! Ты не могла предать нашу любовь! Это все они, этот проклятый Дресслер и эта ведьма Клэр! Они сговорились против нас! Но я спасу тебя, моя любимая! Я вырву тебя из их лап! Я… я… я буду ждать тебя… всегда…
Вернись ко мне, Мишель… Я все прощу… Я буду любить тебя ещё сильнее… Только вернись… Умоляю…»
«Моя любимая Мишель,
Дом опустел без тебя. Каждый уголок, каждая тень шепчут твоё имя. Я брожу по комнатам, словно призрак, и всюду вижу тебя: вот ты смеёшься, сидя у камина, вот ты читаешь книгу в саду, вот ты играешь на фортепиано… А сердце сжимается от боли, потому что тебя здесь больше нет.
Ты была так прекрасна в своём свадебном платье, моя дорогая… Как ангел, сошедший с небес. Когда я видел тебя, у меня перехватывало дыхание. В тот миг я забыл обо всем на свете… и только мечтал, что это я стою рядом с тобой у алтаря, что это я беру твою руку в свою…
Я знаю, моя нежная Мишель, что виноват перед тобой. Я понимаю, что мои ошибки, моя слабость причинили тебе боль… непрощающую боль. И если ты не можешь меня простить, я приму это. Потому что ты заслуживаешь счастья, заслуживаешь любви… даже если эта любовь не моя.
Я буду хранить в своём сердце воспоминания о тебе, моя рыжая белка, моя искорка… И молить небеса о твоём счастье. Где бы ты ни была.
Навеки твой,
Ганс.»
Следующий лист бумаги был скомкан, и исписан более неровным почерком
«Мишель,
Черт бы побрал этого Адама! Вечно он сует свой нос куда не следует! Я… я не хотел ему рассказывать… Вырвалось… В порыве гнева… Он так меня бесил своей высокомерной уверенностью, своим менторским тоном…, и я… я сказал ему. Про подушку. Про то, как ты… хотела…
Боже, какой же я идиот! Теперь он знает… Знает нашу страшную тайну… И будет смотреть на тебя с этим своим проклятым сочувствием… Будет делать вид, что понимает…, ненавижу его! Ненавижу до глубины души! Лучше бы дедушка нас не застукал… Лучше бы я… доделал своё дело…
Уезжаю в Лондон. Сегодня вечером. Поезд отходит в десять. Скорее всего, мы долго не увидимся. Оксфорд ждёт. Новая жизнь.
Это очередное письмо, которое я тебе не отправлю. Сколько их уже накопилось? Целая стопка… Молчаливых свидетелей моей… моего безумия.
Я буду скучать по тебе, Мишель. Как бы я ни старался тебя ненавидеть, забыть… не получается. Ты – заноза в моём сердце. Наверное, ты права… Наша… наша любовь – это проклятие. Нам нужно жить… как нормальные люди. Жениться… рожать детей… Забыть обо всем…
С этой поры, как только я переступлю порог Оксфорда, я – Джон. Ганса больше нет. Он умер. Забудь это имя. Забудь меня.
Прощай»
Запись 17
Новости пришли неожиданно, как удар под дых. Юстаса арестовали. Агнешка, всегда такая сдержанная и немногословная, сообщила об этом с бледным лицом и дрожащим голосом. Оказалось, что один из врачей, молодой парень, который всегда казался таким тихим и незаметным, был жандармским стукачом. Он доносил на Юстаса, тщательно собирая информацию о его связях, разговорах, планах. И вот настал день, когда эта информация достигла критической массы.
За Юстасом пришли рано утром. Свидетелей не было, все произошло быстро и тихо. Его увезли в кандалах, не дав даже собраться или попрощаться с близкими. Направление – Польское королевство. Там его должны были судить по всем статьям, которые жандармы смогли ему пришить. Возможности были мрачными.
Один из польских сочувствующих по прозвищу Янек рискуя собственной безопасностью, выбираясь из жандармского плена, передал Агнешке письмо от Юстаса для Майи, а она в свою очередь разрешила мне его спрятать.
«Майя, моя бесценная сестра!
Пишу тебе эти строки из мрачных стен царской тюрьмы, куда меня бросили за преданность делу революции. Дух мой не сломлен, вера в победу пролетариата крепка, как сталь.
Не тревожься за меня понапрасну. Тюрьма – не преграда для настоящего социалиста. Здесь я найду новых соратников, закалю свою волю и продолжу борьбу даже в этих стенах.
Знай, что я ни о чем не жалею. Каждый удар, каждое лишение – лишь шаг на пути к светлому будущему, к освобождению рабочего класса от оков капитализма.
Передай пламенный привет нашим товарищам. Пусть продолжают борьбу, не страшась репрессий. Революция требует жертв, и мы готовы их принести.
Крепко обнимаю тебя, моя дорогая сестра.
Верь в победу!
Твой брат,
Юстас
P.S. Не предпринимай никаких попыток освободить меня. Это может быть опасно для тебя и для всего дела. Жди моего сигнала.»
Майя словно окаменела. Тяжёлая печаль легла на её плечи, согнув их под своей невидимой тяжестью. Каждый раз, когда я заходил к ней, она сидела за своим столом, молча печатая листовки. Ее пальцы механически выстукивали знакомые лозунги, а взгляд был устремлён в пустоту. Лицо бледное, губы плотно сжаты. Она словно отгородилась от внешнего мира невидимой стеной, погрузившись в свои мысли.
Я знал, что в её голове сейчас целая воронка мыслей, тревог, страхов. Арест Юстаса стал для неё тяжёлым ударом. И именно эта невысказанная боль, не давала ей услышать меня, видеть меня. Но я все равно старался её поддержать. Говорил ей о том, что Юстас сильный, что он справится, что он вернётся. Хотя сам не очень верил в свои слова.
Пытался убедить её и себя в том, что Юстас был готов к такому повороту событий. Раз он не испугался продолжать свою революционную деятельность, зная, какой риск на себя берет, значит, он был готов и к аресту. Он не из тех, кто сдаётся перед трудностями. И ему было бы очень огорчительно, если бы мы, его товарищи, опустили руки. Мы должны продолжать бороться. За него. За наши идеалы. За наше будущее.
Наступил новый, 1887 год. Время неумолимо текло, мир вокруг менялся, и мы менялись вместе с ним. Я понимал, что Майе нужно продолжать дело, которому они с Юстасом посвятили свою жизнь. Она не могла просто сидеть сложа руки, погрузившись в горе и отчаяние. Поэтому, собрав всю свою решимость, я буквально взял её за руку и перевёл под руководство Маркуса, одного из влиятельных членов партии. Сам я тоже перешёл в его ячейку, чтобы быть рядом с Майей и продолжать вести борьбу.
Маркус был совершенно не похож на Юстаса. Если Юстас был бурей, вихрем, увлекающим всех за собой своей энергией и страстью, то Маркус был спокойствием, невозмутимостью. Но это спокойствие не было признаком лености или безучастия. Напротив, я бы сказал, что он был не менее пылким революционером, чем Юстас, просто он не был вспыльчив. Маркус подходил к делу с холодной головой, тщательно продумывал каждый шаг, анализировал все возможные последствия. И именно благодаря этой хладнокровности и расчётливости он безупречно выполнял любое поручение партии.
Переход в ячейку Маркуса означал и изменение нашей конспиративной деятельности. Теперь мы гарантированно будем чаще видеться с Юзефом и Агнешкой, которые также были в этой ячейке. Но встречи теперь будут проходить в другом конце города, что добавляло сложностей и рисков. Нам придётся быть ещё более осторожными и бдительными.
Первое поручение, которое мы получили от Маркуса, было предельно лаконичным и чётким: залечь на дно. Ситуация в Пруссии резко обострилась. По всей стране начались массовые облавы и аресты. Жандармы рыскали повсюду, выискивая революционеров и всех, кто им сочувствовал. Стукачам были обещаны щедрые вознаграждения за поимку «врагов государства», и эти «охотники за головами» активизировались с удвоенной энергией. Новости об арестах сочувствующих или активных анархистов поступали почти ежедневно. Воздух сгустился от страха и подозрений.
В такой обстановке любая деятельность становилась слишком опасной. Мы, как и Юстас незадолго до своего ареста, застыли в вынужденном бездействии, ожидая знака от Маркуса. Это ожидание было мучительным, наполненным тревогой и неопределённостью. Словно затишье перед бурей.
Я, следуя инструкциям, снова сосредоточился на наблюдении за внутренней жизнью дома. Это было скучно и однообразно, но необходимо. Нужно было быть в курсе всех событий, всех перемен, всех подозрительных личностей, появляющихся в доме. Любая мелочь могла оказаться важной.
Дети, выросшие в семьях с эмоционально отстранёнными родителями, рано осваивают искусство лжи. И дело не в том, что они наслаждаются обманом или стремятся к нему. Напротив, многие из них в глубине души ненавидят ложь, презирают её. Но они вынуждены лгать, чтобы защитить себя, свой внутренний мир, свои тайны от холодного равнодушия родителей. Ложь становится для них своеобразным щитом, барьером, отделяющим их от эмоциональной пустоты, царящей в семье.
Они лгут о своих чувствах, о своих мыслях, о своих друзьях, о своих увлечениях. Лгут о том, что им нравится и что не нравится. Лгут, чтобы избежать критики, насмешек, осуждения. Лгут, чтобы хоть как—то приспособиться к сложной и непроницаемой эмоциональной атмосфере в доме. И с годами это мастерство оттачивается до совершенства. Они становятся виртуозами лжи, способными обмануть кого угодно.
Конечно, ложь, как и любой обман, рано или поздно вскрывается. И тогда наступает расплата. Но есть более тонкий и изящный инструмент манипуляции – полуправда. Полуправда – это искусство скрывать истину, не прибегая к откровенной лжи. Это умение выбрать из всей картины событий только те детали, которые выгодны тебе, и преподнести их так, чтобы создать нужное впечатление. Полуправда гораздо сложнее в распознавании, чем откровенная ложь, и поэтому она гораздо эффективнее.
И если ребёнок начинает уходить из дома, стремясь найти тепло и понимание вне семьи, он должен быть готов к тому, что рано или поздно ему зададут вопрос: «Почему ты уходишь? И куда?» И от того, насколько убедительным будет его ответ, будет зависеть очень многое.
И все же, несмотря на все мои предосторожности, я попался. Оказался под испытующим, тяжёлым взглядом отца, который, как выяснилось, давно хотел со мной поговорить. Все началось ещё в начале зимы. Однажды, возвращаясь домой под утро после очередной вылазки, я столкнулся с отцом, смотревшим в окно. Он бросил на меня быстрый, испытующий взгляд, но тогда, видимо, решил, что ему показалось. Или просто не захотел верить в то, что видит.
Но двумя днями назад фрау Хомбург, невольно выдала меня, пожаловавшись отцу, что я постоянно «клюю носом» на уроках, явно не высыпаюсь. Это и стало последней каплей.
Отец, как и многие взрослые, пытающиеся вывести на чистую воду «запуганного мальчишку», воспользовался старым, как мир, приёмом – «Я все знаю». Это был хитрый психологический трюк, рассчитанный на то, что ребёнок, испугавшись неминуемого разоблачения, расскажет все сам.
В такой ситуации начиналась своего рода лотерея. Либо он действительно все знает, и тогда лучше признаться сразу, либо он блефует и хочет выведать правду из тебя, чтобы потом наказать. Но я был уверен, что меня никто не мог выдать. Я слишком тщательно готовился к каждой вылазке, прилагал массу усилий, чтобы мой грим был безупречным. И это работало. За все время своей… борьбы, я не раз встречал знакомых нашей семьи на улицах города, но никто меня не узнал. Кроме, пожалуй, Сальваторе.
Я сидел в большом кожаном кресле напротив отцовского стола, утопая в высокой спинке. Поза получилась немного нелепой, даже комичной, но это было мне только на руку. Моя природная худоба и большие, немного растерянные глаза придавали мне вид совершенно наивного и ничего не понимающего мальчишки. Мне практически не приходилось играть, чтобы отец поверил в мою искренность.
– Что Вы знаете, папа? – спросил я, намеренно делая ударение на последнем слоге по—французски. Отец всегда поощрял моё стремление к изучению языков, и я часто использовал этот небольшой трюк, чтобы расположить его к себе.
Он молча смотрел на меня, долгим, пронизывающим взглядом. Пытался разглядеть во мне лжеца, увидеть хоть малейший признак вины или испуга. Я же, в свою очередь, смотрел на него вопросительно, чуть приподняв брови и слегка наклонив голову. Старался изобразить на лице недоумение и лёгкую озадаченность.
– Ты куда—то уходишь ночью и приходишь под утро, – наконец произнёс он, нахмурив брови. В его голосе звучала сдержанная строгость, но я не чувствовал в нем ни гнева, ни раздражения. Пока что он просто констатировал факт. И это давало мне небольшую фору.
Я медленно, словно с огромным трудом, опустил взгляд, стараясь не встретиться с пронизывающим взором отца. Губы задрожали, а на глаза навернулись слезы, которые я с трудом сдерживал. Надо было выглядеть максимально убедительно. Я начал что—то невнятно бормотать себе под нос, изображая испуг и раскаяние. Плечи поникли, словно под тяжестью невыносимой вины. Голова опустилась ещё ниже, подбородок почти упёрся в грудь. Я сжался в кресле, словно пытаясь стать невидимым. Создавалось впечатление, что меня только что избили. Наконец, сделав глубокий вдох и собрав все своё мужество (которого, на самом деле, было хоть отбавляй), я медленно, неуверенно кивнул.
– Немедленно рассказывай! – голос отца разорвал напряженную тишину. Он говорил резко, отрывисто, с явной угрозой в интонации. Слова прозвучали словно удар грома, заставив меня вздрогнуть и ещё больше сжаться в кресле. В кабинете воцарилась тяжёлая, давящая атмосфера.
– Я… Я… Я влюбился, папа, – выдохнул я, словно признаваясь в страшном преступлении. Голос дрожал, прерывался, едва слышно пробиваясь сквозь сжатые губы. Я на мгновение задержал дыхание, боясь услышать отцовскую реакцию. – Так влюбился, что… что голова кругом… и совсем не могу спать…
– Влюбился? – отец резко переспросил, и в его голосе явно слышалось недоверие. Он пристально смотрел на меня, словно пытаясь прочесть мои мысли. Затем его взгляд стал более задумчивым, брови слегка разгладились. Видимо, он мысленно подсчитал, что мне через пару недель исполнится четырнадцать, и я действительно уже вступил в тот возраст, когда у детей случаются первые романтические переживания. Напряжение в кабинете немного спало, воздух словно стал легче.
– И… кто она? – голос отца потерял свою резкость и грозность. Теперь в нем звучало скорее любопытство, даже некоторое умиление. Он откинулся на спинку кресла, словно расслабляясь, и его взгляд стал более мягким, почти мечтательным. Видимо, он вспомнил себя в юности, свои первые романтические переживания, первую влюблённость.
Я немного приободрился, чувствуя, что лёд начал таять. Но все ещё старался держаться своей роли раскаявшегося проказника.
– Катрина Шварц, папа, – тихо произнёс я, называя имя Агнешки, которое она использовала для конспирации. Имя слетело с моих губ словно невольно, как будто я выдал какую—то большую тайну.
Услышав незнакомую фамилию, отец нахмурился. На его лбу появились глубокие морщины, а взгляд стал сосредоточенным, напряженным. Он молча постукивал пальцами по столу, словно перебирая в памяти знакомые имена, пытаясь вспомнить, кто эта Катрина Шварц, где он мог её видеть, слышал ли о ней раньше. В кабинете снова воцарилась тишина, прерываемая лишь тихим постукиванием отцовских пальцев. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем его лицо наконец прояснилось. Морщины на лбу разгладились, взгляд стал более спокойным. Видимо, он что—то припомнил. Возможно, связал это имя с театром, с моими просьбами купить цветы. Но я решил не рисковать и ещё больше заверить его в своей невиновности, добавив пару убедительных деталей.
– Вы же помните, – продолжил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более искренне и взволнованно, – как часто я просил вас купить букеты? И как носил их… в театр? Это… это всё для неё. Для Катрины.
Я сделал небольшую паузу, словно стесняясь своего признания, и поспешно добавил:
– Она… она очень красивая, папа. Правда. У неё такие… такие прекрасные глаза… И волосы… как… как золото…
Я снова замолчал, ища подходящее сравнение, и наконец нашёл:
– И её улыбка… она такая… такая лучезарная… Она… она заставляет моё сердце сжиматься от… от волнения…
Я опустил глаза, изображая застенчивость и смущение. Щеки слегка покраснели – на этот раз уже по-настоящему. Мне самому стало немного неловко от собственной лжи. Но отступать было поздно.
– Она же… слишком взрослая для тебя, – отец покачал головой, и в его голосе послышались нотки сомнения. Он словно сам себе задал этот вопрос, пытаясь осмыслить ситуацию.
– Разве возраст – помеха любви? – обречённо вздохнул я, изображая страдания юного Ромео. Эта фраза прозвучала настолько пафосно и наивно, что мне самому стало смешно.
– Любить, конечно, люби, – отец улыбнулся краешком губ, – но я тебе сразу скажу, что жениться ни я, ни мать вам не дадим. Во—первых, она значительно старше тебя. Во—вторых, я видел её в театре… она, скажем так, пользуется вниманием мужчин. А в—третьих, она… невыгодная партия.
Отец говорил спокойно, рассудительно, словно объяснял мне простые и очевидные вещи. А я тем временем изображал типичного глуповатого подростка с горячим сердцем, для которого все эти рассуждения о возрасте, репутации и выгодности брака не имели никакого значения. Я упрямо смотрел перед собой, сжав губы и нахмурив брови, словно демонстрируя отцу свою непреклонность и глубину своих чувств. Я хотел, чтобы он увидел передо собой не хитрого лжеца, а безнадёжно влюблённого юнца, готового на все ради своего чувства.
– Вы… вы позволите нам видеться, папа? – спросил я, и мой голос задрожал от притворного волнения. Я поднял на отца полные мольбы глаза, стараясь выглядеть как можно более жалким и беззащитным.
– А вы… все—таки гуляете вместе? Или… она… что—то… делает по отношению к тебе? – отец замялся, подбирая слова. Я прекрасно понимал, к чему он клонит. Если бы я ответил утвердительно, он бы решил, что Агнешка больна… что она склонна к… к педофилии. Эта мысль была настолько абсурдной и отвратительной, что меня передёрнуло.
– Нет, папа, – поспешно ответил я, опустив глаза. – Она… она пока не отвечает мне взаимностью. Я… я просто… любуюсь ею издали…
– И ты… просто бегаешь туда каждую ночь, чтобы… обивать пороги театра и… страдать? – отец приподнял брови, и в его голосе снова послышались нотки недоумения. Он явно больше не понимал моих «высоких» чувств.
– Ночью… она выступает в балете… в Берлинской государственной опере… я хожу туда, – ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более мечтательно и романтично. В этой фразе была лишь доля лжи. Катрина действительно танцевала в балете, но не в Берлинской государственной опере, а в небольшом, малоизвестном театре, находящемся неподалёку. И ходил я туда не для того, чтобы любоваться ее танцем, а для встреч с Маркусом и Юзефом. К счастью, об этом театре мало кто знал. Ночные выступления Агнешки были удобным прикрытием для наших конспиративных встреч.
– Хоть одна умная… – прошептал отец, видимо, имея в виду Агнешку и ее выбор в пользу искусства, а не каких—то там юношеских увлечений. Затем, немного помолчав, он добавил более строгим тоном: – Но если ты начнёшь отставать по учёбе из-за этой… своей… любви, то сядешь под домашний арест. И никакого театра! Ясно?
– Ясно, – пробормотал я, все ещё изображая подавленность и раскаяние. Внутри же меня наполняло торжество. Трюк сработал! Отец поверил в мою выдуманную влюблённость.
Однако я понимал, что на этом мои хлопоты не заканчиваются. Нужно было обязательно встретиться с Агнешкой и предупредить ее о своей «влюблённости». Рассказать ей о разговоре с отцом и о том, что к ней, возможно, подойдут поговорить, расспросить о мне. Я не сомневался, что Агнешка меня прикроет. Она была не только талантливой актрисой и танцовщицей, но и преданным товарищем, на которого всегда можно было положиться.
Но также я не сомневался в том, что если отец расскажет Клэр об этом разговоре, то она непременно вызовет меня «на ковёр». А это уже была совсем другая история. С Клэр такие трюки не проходили. Она видела меня насквозь. И мне придётся приложить гораздо больше усилий, чтобы убедить ее в своей невиновности.
Запись 18
Четырнадцать. Мир встретил мой день рождения тишиной. Предрассветные сумерки, густые и синие, словно черничный кисель, заполнили комнату. За окном беззвучно кружилась метель, вздымая снежные вихри, превращая двор в кипящее белое море.
Как и год назад, я всё утро простоял перед зеркалом, всматриваясь в отражение, пытаясь уловить неуловимые перемены, которыми время незаметно отмечало меня. Ещё в июне мой голос начал предательски ломаться, спотыкаясь на гласных, то взмывая в нежданную фальцетную высоту, то проваливаясь в хриплую глубину. Теперь он звучал непривычно, по—взрослому, с новой, едва уловимой вибрацией. Низкий от природы, он все же сохранял юношескую звонкость, обещая к двадцати пяти годам обрести настоящую мужскую глубину и силу.
Подбородок и верхняя губа покрылись мягким, едва заметным пушком – первой, почти невесомой бородкой, словно морозным инеем. Я вытянулся, словно молодой побег после тёплого дождя. Порядочно вытянулся! Сто семьдесят шесть сантиметров – примерно так я оценивал свой новый рост, горделиво выпрямляя спину.
Впрочем, эта внезапная стремительность роста придала моей фигуре некоторую нескладность. Плечи резко расширились, руки стали казаться непропорционально длинными, детская пухлость щёк исчезла, уступив место более чётким линиям, а кисти, ещё недавно маленькие и пухлые, обрели новую изящность и гибкость. Я стоял перед зеркалом, неуклюжий и длинноногий, словно жеребёнок, едва научившийся владеть своим телом, и смущённо улыбался отражению, чувствуя, как внутри меня просыпается что—то новое, незнакомое и волнующее.
Дневник мой стал тоньше. Записи в нём – реже, отборнее. Я больше не выплёскивал на бумагу ежедневный поток мыслей и впечатлений, безжалостно расходуя листы. Теперь я тщательно отбирал только то, что казалось мне по—настоящему важным и интересным, словно коллекционер, сортирующий марки.
Сама мысль о ежедневном заполнении страниц вызывала во мне недоумение, граничащее с отвращением. Кому нужна эта дотошная хроника быта, это бесконечное перечисление мелких событий? Разве что душевнобольным, чтобы их лечащий врач мог отслеживать динамику состояния.
Идея вести дневник ради самоанализа, ради возможности проследить эволюцию собственной личности тоже кажется мне чуждой. Я не вижу в этом ни малейшего смысла. Вряд ли в глубокой старости я буду перечитывать пожелтевшие страницы, испытывая ностальгию или, хуже того, горькое сожаление о том, чего не сделал, чего не достиг.
Моя жизнь – не черновик, который можно переписать, исправляя ошибки и заполняя пробелы. Она – стремительный поток, несущий меня в неизвестность. И я не собираюсь тратить время на бесполезные сожаления. Я приму столько испытаний, сколько мне отмерено судьбой, и пройду свой путь до конца, не оглядываясь назад.
После известия об аресте Юстаса я отправил ему два письма. Представился кузеном, спросил о здоровье, о делах, стараясь писать нейтрально, без лишних эмоций. Я понимал: он узнает мой почерк. Но ответа так и не дождался. Скорее всего, жандармы перехватили мои послания. Или, что более вероятно, Юстас сам решил оборвать все связи с внешним миром, сосредоточившись на общении только с сестрой.
В письмах я использовал зашифрованный язык, доступный только посвящённым. Писал о том, что мы временно залегли на дно, прервали всякую деятельность и ждём условленного сигнала. Майя же отправила ему отдельное, ещё более засекреченное послание. Сообщила, что перешла под командование Маркуса и, вероятно, вместе с Юзефом временно переберётся во Францию, чтобы организовать там новый штаб сопротивления. Дальнейшие планы Майи зависели от обстоятельств. Возможно, она присоединится к Маркусу и Юзефу, а возможно, переждёт какое—то время в Швейцарии, у Тилли. Дело в том, что соседи заметили подозрительную активность вокруг дома Майи и сообщили, что жандармы расспрашивали о ней. Возникли опасения, что среди нас завёлся предатель.
Сейчас Майя скрывается в театре. Агнешка, рискуя собственной безопасностью, укрыла ее в своей гримёрке. К Тилли Майя планирует выехать послезавтра. Окончательное решение о том, присоединяться ли ей к Маркусу и Юзефу во Франции или остаться в Швейцарии, будет принято после их отъезда, когда ситуация станет более ясной.
Сырой, пронизывающий ветер, насыщенный запахом угольной копоти и гниющих овощей, вихрем носился по узким, кривым улочкам. Мощёные булыжником, они были изъедены временем и небрежением, словно старый, забытый богом скелет. Дома, слепленные из грязного кирпича, теснились друг к другу, словно нищие, греющиеся у костра. Окна, затянутые лоскутами тряпья и заклеенные бумагой, смотрели на мир пустыми, лихорадочными глазами. В воздухе висел тяжёлый дух бедности, отчаяния и застарелой боли. Здесь, в этом лабиринте нищеты и горечи, жизнь теплилась еле—еле, словно чахлый огонёк на пронизывающем ветру.
В одном из таких домов, в крошечной каморке, где даже днём царил полумрак, жила вдова фрау Ланге с тремя детьми. Муж ее, рабочий на фабрике, погиб год назад, попав в станок. С тех пор фрау Ланге перебивалась случайными заработками, стирая белье, убирая в богатых дома, но денег катастрофически не хватало.
Ремни наполненного рюкзака неприятно давили на плечи, непривычно тяжёлые. Перед выходом я открыл шкаф Ганса. От туго набитых полок пахнуло кедром и лавандой. Я бегло перебрал вещи, выбирая самое необходимое – тёплый кашемировый свитер, несколько пар тонких, но прочных носков из мериносовой шерсти, мягкие фланелевые брюки. Все это было практически новым, едва ношенным. Затем я зашёл в комнату Мичи. На спинке кресла висело ее любимое платье из тонкой шерсти, рядом – несколько пар шёлковых чулок и кружевной шарф. Я аккуратно сложил все это в рюкзак, поверх вещёй Ганса. На кухне я задержался дольше, перебирая припасы. Взял свежий хлеб из пекарни, куски вяленой говядины и колбасы, несколько спелых груш и яблок, баночку малинового варенья
Я направился к бару Фрица, чтобы узнать новости и услышать разговоры рабочих, узнать поменяли ли они своё настроение, но по пути решил заглянуть к фрау Ланге. О ней я слышал от одной из наших горничных, когда та рассказывала другой о том, что её подруга снова потеряла работу. Она говорила, что это всё из-за сына Роя и собиралась как—то её навестить и помочь, но я решил раньше.
Я приоткрыл хлюпкую дверь и вошёл. Фрау Ланге сидела у постели Роя, гладя его по лбу. Его лицо, бледное и истощённое, казалось полупрозрачным как молодой листок. Он постоянно кашлял, надрываясь и задыхаясь, и фрау Ланге с замиранием сердца слушала этот кашель, зная, что каждый приступ может стать последним.
Я без слов снял рюкзак, стараясь не греметь пряжками. Тяжесть приятно сошла с плеч. Опустил его на пол, бережно, боясь разбудить спящего малыша. Расстегнул тугой узел и достал буханку хлеба, ещё тёплую, с хрустящей корочкой. Она пахла дрожжами и дымом. Рядом положил кусок сыра, завёрнутый в чистую льняную тряпицу, несколько румяных яблок, с гладкой, блестящей кожицей и палку колбасы. Я протянул все это фрау Ланге. Она молча приняла еду, ее натруженные руки слегка дрожали. В ее потускневших от горя глазах блестели слезы, но она не произнесла ни слова, лишь кивнула мне в знак благодарности.
– Позвольте мне посмотреть его, – сказал я тихо, кивком указывая на Роя.
Фрау Ланге бесшумно отодвинулась, освобождая мне место. Я подошёл к кровати и наклонился над мальчиком. Бледный, худенький, он лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Его дыхание было прерывистым, слабым. Лоб горел. Я прикоснулся к его руке – она была сухая и горячая. Мои знания в медицине были более чем скудны, я не знал, что могу сделать, но невыносимо было стоять и наблюдать за его страданиями. Я хотел хоть чем—то помочь, хоть немного облегчить его боль, даже если это было просто моё присутствие рядом.
– Я работать не могу, – всхлипнула фрау Ланге, голос ее дрожал, словно надломленная ветка. – Устроюсь куда-нибудь, как только Рою станет легче. Обещали место прачки… Но сейчас он совсем плох.
Ее слова обрывались, превращаясь в глухие, надрывные рыдания. Она закрыла лицо потрёпанным платком, ее плечи тряслись. Из-под ткани донёсся приглушенный, полный отчаяния шёпот:
– Помрёт, наверное…
От этих слов мороз пробежал по коже. В голосе фрау Ланге не было даже тени надежды, только безысходность и горечь.
– А остальные дети? – спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и уверенно.
Фрау Ланге резко вскинула голову, отчего платок сполз с ее лица. Глаза были красными и опухшими от слез. Она кивнула в угол комнаты, где висела потёртая ситцевая штора, прикрывая нечто вроде алькова. Из-за шторы доносилось тихое, приглушенное поскуливание. Там, в тесной темноте, прятались двойняшки—девочки, чуть старше Роя. Они молчали, затаив дыхание, словно маленькие зверьки, забившиеся в нору от страха. Их беззвучное присутствие делало атмосферу в комнате ещё более тяжёлой и гнетущей.
Внезапно в памяти всплыли приступы Юстаса, его бледное лицо, скрюченное от боли. Я вспомнил, как Майя облегчала его страдания, и интуитивно повторил ее действия. Подвинув шаткий стул ближе к постели, я сел рядом с Роем и осторожно убрал с его лба влажные, пшеничного цвета волосы.
– Не бойся, маленький борец, я не сделаю тебе больно, – прошептал я, стараясь говорить как можно ласковее и успокаивающе.
Затем, повернув голову, бросил короткий взгляд на фрау Ланге:
– Поставьте греться воду. Ему нужно дать тёплое питье. А мне принесите таз с холодной водой и чистые тряпки. Давно началась лихорадка?
– Три дня уж как, – ответила она дрожащим голосом и, словно пробуждаясь от оцепенения, засуетилась, стараясь выполнить мои указания.
Я осторожно раздел Роя, его тело было обжигающе горячим. Фрау Ланге поставила рядом таз с водой и стопку чистых льняных тряпок. Я смочил одну из них в холодной воде, слегка отжал и принялся обтирать мальчика, с особой тщательностью протирая шею, лоб, подмышки, внутренние сгибы локтей и колен. Рой слегка зашевелился, с благодарностью приоткрыл сухие, потрескавшиеся губы и хрипло втянул воздух, словно жаждущий путник в пустыне. На мгновение мне показалось, что в его глазах мелькнул огонёк надежды.
Я не имел ни малейшего понятия, почему, находясь в постоянном контакте с чахоточными больными, я до сих пор не подхватил эту смертельную болезнь. Возможно, меня хранил какой—то невидимый щит, а может, просто повезло. Как бы то ни было, это странное обстоятельство притупляло чувство страха, порождая иллюзию неуязвимости. Где—то в глубине души теплилась непоколебимая уверенность, что меня эта напасть минует.
Достав из рюкзака трубку, я насыпал в неё щепотку специальной травяной смеси, приготовленной по рецепту Юстаса. Он утверждал, что это средство способно облегчить дыхание в кратчайшие сроки и снять приступы кашля. Чиркнув спичкой, я поджёг смесь, от которой пошёл густой, терпкий дым с примесью запаха мяты и шалфея. Затем протянул трубку Рою.
– Вдыхай, – сказал я, – маленькими порциями. И не глубоко.
Рой, дрожащими ручонками, взял трубку. Пальцы его были тонкими и бледными, словно восковыми. Он несколько раз безуспешно пытался поднести ее к губам, но руки не слушались. Тогда я аккуратно придержал трубку у его рта.
– Вдыхай-вдыхай – повторил я, – маленькими глоточками. Вот так.
Рой послушно втянул дым, закашлялся, но потом дыхание его стало чуть ровнее. Пока он боролся с приступом удушья, я осторожно вытащил из-под него смятую, жёсткую подушку. Расправив, я сложил ее вдвое и положил обратно, приподняв верхнюю часть тела Роя так, чтобы он лежал полусидя. Это должно было облегчить давление на лёгкие и хоть немного улучшить дыхание. Я видел, как ему сразу стало легче дышать, хотя лицо его по—прежнему оставалось бледным и измученным.
– Не кормите его, пока температура не спадёт. Лучше давайте побольше питья. Тёплой воды, молока, если есть, – я достал из кармана несколько монет и положил их рядом с продуктами на столе. Затем снова посмотрел на ребёнка, стараясь придать своему голосу ободряющие нотки. – А ты к отцу не собирайся пока, малец. Рано ещё. На тебе мать и две сестры, кто им помогать будет? Ты же у них единственный мужчина в доме.
Рой, прикрыв глаза, сделал ещё один глоток из трубки и тихо выдохнул дым. Затем, глядя на меня снизу вверх, слабо спросил:
– Как тебя зовут?
– Меня зовут Адам, – ответил я.
– Бог послал мне тебя, Адам, – слабо улыбнулся Рой. Под его глазами залегли тёмные, лихорадочные круги.
– Бог послал тебе болезнь и смерть отца… – начал я, но тут же осёкся, понимая, что мои слова звучат слишком жестоко. – … как испытание, – продолжил я более мягко, – великому грешнику. А ты разве грешник?
Я взял его маленькую, худенькую руку в свою. На ладони были видны царапины, едва затянувшиеся тонкой плёнкой новой кожи. Это были следы его собственных ногтей. Видимо, во время приступов боли Рой так сильно сжимал кулаки, что протыкал себе кожу. Теперь, ослабевший от болезни, он уже не мог сжимать руки.
– Больно? – спросил я тихо, проводя большим пальцем по его ладони, словно пытаясь стереть следы страданий. И тут же заметил небольшое пятно крови на его коже. На мгновение мне показалось, что я задел его ранки, но, приглядевшись, понял, что кровь моя. Мой собственный палец, неглубоко порезанный о край жестяной банки, когда я собирал припасы, начал снова кровоточить. Я быстро сжал руку в кулак, пряча порез.
– Не больно, – прошептал Рой, его голос был слабым, но в нем появилась какая—то новая, незнакомая мне интонация. Что—то вроде доверия, что ли.
В этот момент фрау Ланге подошла к кровати с кружкой тёплой воды в руках. Пар поднимался над поверхностью, создавая иллюзию тепла и уюта в этой холодной, мрачной комнате. Я осторожно взял кружку и, поддерживая голову Роя, напоил его маленькими глотками.
