«Офицерство волнуется…» Российский офицерский корпус и публичная политика в 1905–1914 годах
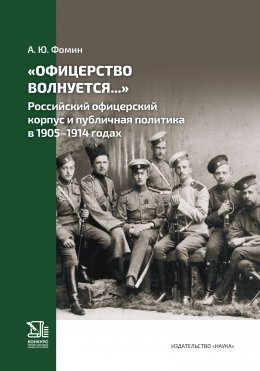
© Фомин А.Ю., 2024
© ФГБУ Издательство «Наука», редакционно-издательское оформление, 2024
© Палей П.Э., оформление, 2024
Введение
Огромная роль солдатских масс в событиях 1917 г. ставит изучение царской армии начала XX в. в разряд одного из важнейших сюжетов истории дореволюционной России. При этом налицо недостаточное внимание к состоянию и поведению многотысячного офицерского корпуса во время острейшего политического кризиса. Только в Петрограде и его ближайших пригородах в 1917 г. находилось по меньшей мере 60 тысяч обер- и штаб-офицеров, присягавших сначала Николаю II, а затем Временному правительству, но фактически уклонившихся от защиты как первого, так и второго.
В этой связи актуальным выглядит рассмотрение вопросов о состоянии умов командного состава императорской армии в десятилетие, предшествующее эпохальным революционным событиям. Наилучшим источником для изучения «состояния умов» военной среды является военная печать – ее голос в публичном пространстве и площадка для дискуссий по вопросам военной и общественной жизни.
Целью данного исследования является изучение политических требований и политической культуры российского офицерства в период между Русско-японской и Первой мировой войнами. Рассматривая межвоенный период, можно сфокусироваться на отношении кадрового офицерства к разворачивавшимся в то время политическим процессам.
Хронологические рамки исследования ограничиваются главным образом периодом 1905–1914 гг. – временем становления и развития системы так называемой думской или третьеиюньской монархии. За верхнюю границу взято начало Первой мировой войны. Со вступлением России в войну изменились как отношения армии и общества, так и политические реалии – изучение этого периода является задачей самостоятельного исследования.
Лояльность армии и ее профессионального ядра – офицерского корпуса была жизненно важна для монархии Романовых, являлась одним из ключевых факторов ее существования. При этом официальная точка зрения, согласно которой офицер уже по определению являлся «преданным слугой державного вождя армии», перенеслась и в работы историков. Представляется, что этот тезис, по крайней мере, нуждается в подкреплении специальными исследованиями. Позиция, занятая в дни отречения Николая II как большинством «рядового» офицерства, так и военной «верхушкой» (все командующие фронтами, за единственным исключением, высказались в пользу отречения императора), заставляет усомниться в том, что политическое мировоззрение военных ограничивалось незамысловатой формулой «за веру, царя и отечество». Пресловутые «косность» и «кастовая замкнутость» военной среды, на которые указывают историки, не могли оградить офицерство от веяний времени. В историографии особенно мало внимания уделялось вхождению в сферу публичной политики военнослужащих. Революционное брожение 1905–1906 гг. частично затронуло и вооруженные силы. Однако при чтении работ историков невольно создается впечатление, что стены казарм, кадетских корпусов, военных училищ и офицерских собраний напрочь ограждали своих обитателей от остального мира.
Современные российские исследователи все чаще смотрят на революцию 1917 г. с перспективы имевших «роковые» последствия для страны тактических просчетов правительства. При чтении их работ начинает казаться, что революционных потрясений и последовавшего за ними хаоса гражданской войны легко можно было избежать при более эффективном администрировании, лучшем использовании возможностей существовавшей государственной машины. Дискуссии о глубинных причинах революции и объективных сложностях в развитии страны отбрасываются в сторону – на первый план выдвигаются субъективные факторы, с помощью которых можно дать простое и ясное объяснение причин краха империи Романовых[1].
Если для одних воспринимаемая как данность поддержка офицерством самодержавия безусловный минус – признак реакционности и отсталости военной среды, то для других столь же неоспоримый монархизм офицеров является признаком искреннего и глубокого патриотизма, верности долгу, государственной мудрости. Для историков, придерживающихся последнего взгляда, офицеры императорской армии – герои и мученики, представители «здорового», государственнического начала в жизни страны. В отличие от корыстного чиновничества, кадровые военные – благородные рыцари, бессребреники, для которых высшей ценностью является беззаветное служение Родине, возможность пожертвовать для нее жизнью. Материальные ценности вызывали у них лишь презрение.
Этот упрощенный, идеализированный образ, сконструированный под воздействием ультраконсервативных, национал-патриотических идеологических установок, имеет мало отношения к действительному положению вещей. Для данных авторов изучение вопроса сводится к нахождению в прошлом примеров для военно-патриотического воспитания нынешних поколений. Политическая конъюнктура и прикладные задачи отодвигают на задний план объективное, всестороннее изучение вопроса. Другими словами, эти работы не всегда в полной мере отвечают всем необходимым методологическим принципам исторического исследования. Например, С.В. Волков указывал, что «Офицерский корпус и по существу своему объединял лучшее, что было в России в смысле человеческого материала»[2]. Он же писал, что «офицерский корпус, служивший основой российской государственности, после большевистского переворота стал, естественно, ядром сопротивления антинациональной диктатуре»[3]. А.И. Каменев указывал, что «офицерская профессия – это своего рода апостольство и подвижничество»[4].
В свою очередь, для советских историков проблема политических взглядов офицерства редко имела центральное значение. В различных областях истории вооруженных сил имелись существенные достижения. Но вопрос о политических предпочтениях кадровых военных (зачастую рассматриваемый в качестве второстепенного) легко решался в соответствии с идеологическими установками. Можно сказать, что этот вопрос даже по-настоящему не ставился – ответ на него был уже заранее известен. В этом также заключается несомненный методологический изъян.
Приходится констатировать, что и по сей день исследователи редко обращаются к проблеме политизации офицерского корпуса русской армии после 1905 г. В значительной степени ими недооценен такой источник, как военная периодика. Для находившихся на действительной службе офицеров, чьи гражданские права были серьезно ограничены, занятие публицистикой являлось одним из немногих легальных способов участия в публичных политических дискуссиях.
Создается впечатление, что недостаточно изучен вопрос о социальном составе офицерского корпуса российской армии конца XIX – начала XX в. Многие историки продолжают утверждать, что офицерский корпус (по крайней мере до Первой мировой войны) в основе своей был дворянским, тогда как уже в 1890-е гг. потомственные дворяне составляли лишь половину от общего числа офицеров. Впоследствии их доля продолжала уменьшаться. К тому же, как заметил еще П.А. Зайончковский, офицер-дворянин начала XX в. фактически очень мало отличался от разночинца[5]. Ведь тогда у подавляющего большинства офицеров (за исключением гвардии и прежде всего гвардейской кавалерии) уже не было земельной собственности. Вероятно, применительно к офицерскому корпусу начала XX в. следует говорить скорее о специфической профессиональной и корпоративной, нежели дворянской идентичности.
В свою очередь, о том, что офицерский корпус российской армии представлял из себя в политическом (и культурном) отношении, известно лишь в общих чертах. Затрагивающие данную проблематику исследования очень часто имеют серьезные методологические недостатки. К тому же их немного.
Российские военные историки традиционно занимаются изучением боевых операций, стратегии, тактики, вооружения, планирования и т. п.[6] Социально-политическая и культурная проблематика истории вооруженных сил ускользает из их поля зрения.
Итогом государственных преобразований 1905–1906 гг. стала легализация публичной политики. Различные социальные и профессиональные группы получили возможность открыто отстаивать свои интересы. Вопреки распространенному мнению, военные не составляли здесь исключения. После издания «временных правил» о печати от 24 ноября 1905 г. в России начался настоящий газетный бум. Резко возросло и количество военных изданий. Освобожденная от жесткого контроля администрации военная печать превратилась в площадку для свободного обмена мнений, став частью автономной публичной сферы, как ее понимал Ю. Хабермас[7]. Публичное, в противоположность частному, связано с интересами общества как целого. Под обществом (публикой) понималась совокупность частных индивидов, сплачиваемая сферой массовой коммуникации, иными словами, публика – «общность тех, кто читает, пишет и интерпретирует»[8]. Таким образом, член публики – тот, кто участвует в общественной дискуссии, процессе формирования общественного мнения. На страницах военных изданий (даже в официальном «Русском инвалиде») не существовало служебной иерархии. Обер-офицер мог открыто спорить с генералом. Полемика в военных изданиях велась на общих основаниях: она подразумевала равенство участников, различия между ними определялись лишь убедительностью аргументов[9].
Основную часть «пишущей публики» составляла образованная элита – выпускники высших военно-учебных заведений: Николаевской академии Генерального штаба, Александровской военноюридической академии, Николаевской инженерной академии и Михайловской артиллерийской академии. Военная печать являлась голосом профессионального сообщества. Через обращение к периодике можно изучить политические предпочтения офицерской корпорации (во всяком случае, ее «пишущей» части). Офицеры были серьезно ограничены в гражданских правах, но их публикационная активность никак не регулировалась юридически (кроме запрета на участие в «противоправительственной агитации»). При этом армия принадлежала к числу т. н. тотальных институтов, стремившихся контролировать и регламентировать все сферы деятельности военнослужащих[10]. Не являлась исключением и частная, семейная жизнь. К примеру, известно, что младшие офицеры могли заключать брак только с разрешения командира[11]. Имели место и попытки установить жесткий контроль над выступлениями военнослужащих в печати. В 1907 г. Совет государственной обороны рассматривал проект «правил о порядке надзора за литературной деятельностью военнослужащих»[12]. При Главном штабе предлагалось учредить специальную комиссию для рассмотрения литературных произведений военнослужащих, нарушающих военную дисциплину, нормы «военной этики» и наносящих ущерб «требованиям и интересам военного ведомства»[13]. Комиссию предполагалось наделить правом вынесения дисциплинарных взысканий – вплоть до увольнения провинившихся со службы[14]. Проект не был реализован, вероятно, ввиду потенциального недовольства наиболее образованной, «пишущей» части офицерства такой мелочной опекой со стороны начальства. Однако во избежание неприятностей по службе офицеры нередко предпочитали публиковаться анонимно или используя псевдонимы. Для них публицистика была практически единственным способом законного участия в общественно-политической жизни. Для военных закон делал недоступными те формы самоорганизации, которые в начале XX в. активно осваивали представители интеллигентных гражданских профессий. Университетские профессора, земские служащие, врачи и учителя собирались на профессиональные съезды, создавали общества, ассоциации и союзы[15]. В то же время единственной площадкой, на которой опосредованно мог «звучать» голос военного сообщества, являлась печать.
В фокусе исследования находятся наиболее политизированные военные издания – официальные (газета «Русский инвалид»), официозные (получавшие казенное финансирование) и «независимые». До революции 1905–1907 гг. военная печать была представлена прежде всего официальными изданиями военного ведомства – газетой «Русский инвалид» и журналом «Военный сборник». «Русский инвалид» являлся не только старейшей (первый номер вышел в 1813 г.), но также наиболее известной и читаемой военной газетой России. В начале XX в. ее номера регулярно рассылались по библиотекам офицерских собраний, войсковым штабам и военно-учебным заведениям. Практиковались «групповые читки» в штабах частей, собраниях офицеров, среди нижних чинов и т. д. Учащиеся военно-учебных заведений, а в некоторых случаях и действующие офицеры, должны были реферировать статьи военных изданий, в том числе и «Инвалида»[16]. Содержание официального отдела газеты, в котором размещались приказы по военному ведомству, так или иначе доводилось до сведения офицеров и нижних чинов усилиями командования разных уровней. Первым «независимым» военным изданием России принято считать журнал «Разведчик», появившийся в 1889 г. «Разведчик» не получал прямого казенного финансирования (хотя и зависел от рекомендаций Главного штаба к распространению в войсках) и не ассоциировал себя ни с одной из официальных структур (будь то министерство или штаб округа). Его бессменным издателем и редактором был отставной капитан В.А. Березовский. Поначалу военное ведомство прохладно относилось к начинанию Березовского – издание спасло то, что оно старалось держаться в стороне от политики. «Разведчик» воспринимался скорее в качестве полуразвлекательного иллюстрированного журнала. С ликвидацией в 1905 г. предварительной цензуры и фактическим установлением явочного порядка учреждения периодических изданий в стране начался газетный бум, затронувший и военную печать. Острая полемика по мотивам Русско-японской войны оживила в том числе страницы официального «Русского инвалида». В 1906–1907 гг. в стране стали массово появляться новые военные издания. А.И. Деникин даже назвал это явление «военным ренессансом»[17]. Большинство из них стремилось заручиться финансовой поддержкой властей и продемонстрировать свою полезность для военного ведомства. Однако некоторые (прежде всего, газета «Военный голос») не боялись вступать в открытую конфронтацию с правительством и Военным министерством. Русско-японская война наглядно продемонстрировала недостатки русской армии и ее офицерского корпуса. Нарастающая тенденция к повышению профессионализма, углублению специальной подготовки и применению научных знаний в военном деле и военном управлении вступала в конфликт с доставшимися от XIX в. традициями, аристократическим духом, а в конечном итоге – с консервировавшим архаичные формы политическим строем империи. Охватившее общество стремление к политическому участию, свободе публичных дискуссий, созданию институтов представительства и контроля за бюрократической вертикалью во многом затронуло и военную среду. Офицерство нуждалось в публичном осмыслении итогов войны. Конфликты между поколениями (главная ответственность за военные неудачи лежала на старшем генералитете), между консервативным аристократическим гвардейским офицерством и более профессиональными, усваивавшими рациональные технократические подходы офицерами Генерального штаба, теперь могли выплеснуться на страницы приобретшей в 1905 г. относительную свободу печати. Получили свое отражение и претензии армейского строевого офицерства, делившего тяготы войны с нижними чинами и недовольного привилегиями обеих названных выше групп.
Вторую группу составляет ведомственная документация из архивохранилищ Москвы и Санкт-Петербурга. В делах различных фондов Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) содержатся данные о программе и финансировании периодических изданий, документы, отражающие политику военного ведомства в области печати, свидетельства политической активности офицерства и генералитета, информация о конфликтах внутри военной корпорации и т. д. В рамках данного исследования задействованы ф. 1 и ф. 29 (Канцелярия Военного министерства), ф. 400 (Главный штаб), ф. 2000 (Главное управление Генерального штаба), ф. 830 (Совет Государственной обороны), ф. 868 (Комитет по образованию войск при Военном совете), ф. 962 (Верховная комиссия для всестороннего расследования обстоятельств, послуживших причиной несвоевременного и недостаточного пополнения военного снабжения армии), ф. 970 (Военно-походная канцелярия Его Императорского Величества). Делопроизводственная документация из фондов РГВИА позволяет изучить выработанные военным ведомством принципы политики в отношении печати, а также проанализировать стратегии взаимодействия с властями, выстраиваемые частными издателями.
Кроме того, в работе задействованы источники личного происхождения – дневники и мемуары военных деятелей изучаемой эпохи. Помимо известных воспоминаний фигур первого ряда (военных министров А.Ф. Редигера, В.А. Сухомлинова, А.А. Поливанова и др.) в работе используются обнаруженные в ходе архивных изысканий мемуарные свидетельства, ранее не вводившиеся в научный оборот.
Предлагаемая работа находится в русле исследований публичной сферы и публичной политики. Периодическая печать является важнейшим институтом публичной сферы (пространства публичной коммуникации, создающего ткань общества). Изначально публичная полемика развивалась в неполитических формах – строилась вокруг литературных, научных и профессиональных вопросов. Механизмы рациональной критики, выработанные в ходе публичного обсуждения литературных произведений, неразрывно связанного с распространением печатного слова, постепенно переносились на сферу политики. Эта схема применима и к российской военной печати. Революция 1905–1907 гг. открыла для военного сообщества (пускай и ограниченную) возможность обсуждения политических вопросов на единственной доступной ему публичной площадке – на страницах печати.
Некоторые разделы настоящего исследования можно отнести к истории идей. В них прослеживается генеалогия и эволюция пользовавшихся популярностью у офицеров и развиваемых ими политических концепций и понятий. В этой связи предпринимается попытка выделить оказавшие на них влияние интеллектуальные направления и проследить их европейские корни.
В работе использовался основополагающий для любого исторического исследования метод критики исторических источников. Под которым подразумевается перекрестное сопоставление свидетельств, установление исторического контекста создания различных источников и заложенных в них нарративов, выявление прагматических интенций их авторов, анализ формуляра однотипных документов.
Кроме того, в работе применялся просопографический метод написания «коллективной биографии». В ряде случаев была предпринята попытка создать коллективный портрет некоторых групп военных. Этот подход позволил обнаружить корреляцию между близостью политических взглядов и служебным опытом, материальным положением, образованием. Члены групп, придерживавшихся определенной политической платформы, нередко имели схожие карьерные траектории и социальные характеристики, были объединены совместной деятельностью и имели общий опыт переживания исторических событий.
Большинство сюжетов, затронутых в ходе работы над исследованием, впервые становятся предметом специального исследования. Обращение к военной печати как к основной площадке для публичных дискуссий военного сообщества позволило осветить круг политических проблем, волновавших различные группы офицерства, а также вписать их требования и предложения в общий политический контекст России начала XX в. Представляется, что результаты, полученные в рамках данного исследования, могут стать существенным вкладом в разработку проблематики политизации русского офицерства в условиях становления политической системы думской монархии. Важнейшим фактором политизации офицерства стало поражение России в войне с Японией. В период между двумя войнами в России шли сложные внутренние процессы. Ослабление обороноспособности страны и падение престижа вооруженных сил совпали с внутренними потрясениями и перестройкой политической системы. В этих условиях профессиональные военные стремились к скорейшему восстановлению оборонного потенциала и модернизации вооруженных сил. Для достижения этой цели многие из них пытались использовать возможности, предоставленные обновлением государственного строя.
Привлечение широкого круга источников позволило показать, что на месте прямолинейного, выравниваемого по единому образцу, цементируемого воинской дисциплиной консерватизма, о котором пишут многие историки, на деле существовало многообразие политических взглядов и настроений, характерное для общества в целом. Иерархичность и строгая армейская субординация как будто подразумевали, что офицеры не могут открыто не соглашаться с начальством и рассуждать о вопросах, не имеющих отношения к их служебным обязанностям. Однако в действительности военная среда демонстрировала активный интерес к политической жизни, изобретала различные тактики политического участия, позволявшие обойти формальные запреты. Младшие по званию не боялись публично рассуждать о предметах, по уставу находившихся в компетенции старших и самой верховной власти. Некоторые офицеры обнаруживали склонность к политическому теоретизированию, предлагая свои проекты переустройства общества. Другие настолько тонко разбирались в политической конъюнктуре, что искусно использовали ее в служебных интригах. Военная среда презирала «сервильность» и доносительство, трепетно относилась к своему достоинству, а потому во многом не принимала попытки навязать мелочный контроль за политической благонадежностью, время от времени предпринимавшиеся властями. Большинство военных считало оскорбительными сомнения в их патриотизме. Однако этот патриотизм далеко не всегда выражался в аполитичности, верноподданном почитании воли верховного вождя армии и примитивном послушании начальству. Крайне правое офицерство, стремящееся показать свою абсолютную лояльность существующему строю, в действительности проявляло не меньшую политическую активность, чем либерально настроенная его часть, так же выходя за формальные рамки дозволенного уставом и законами. В то время как либеральная часть склонялась к парламентаризму, правые выдвигали собственные разнообразные предложения по исправлению государственного строя и решению политических проблем. При этом в условиях крайней ограниченности легальных форм занятия политической деятельностью не могло сложиться развитых, устоявшихся форм политического участия. Однако возраставший интерес к политическим проблемам и осознание их значимости для судьбы вооруженных сил подталкивали военную среду к поиску инструментов влияния на процесс принятия решений и способов публичного высказывания.
Глава 1
Газета «Военный голос» и ее сотрудники
«Военный голос», отодвинув военные реформы на задний план, первое место отводил демагогии и широкому политиканству.
А.И. Деникин
В начале XX в. шедшее по пути углубления профессионализации российское военное сообщество нуждалось в регулярном обмене экспертными мнениями и возможности оказывать влияние на механизмы принятия решений. Печать являлась для него средством транслирования различных взглядов и идей в публичном пространстве.
До 1905 г. российская военная периодика была представлена почти исключительно официальными и официозными изданиями. Интересы центральной и местной военной администрации являлись решающим фактором при формировании редакционной политики. В реалиях первой половины 1900-х гг. у органов военной печати не существовало возможностей для систематического отстаивания независимой позиции. Многое изменилось в результате расширения политических свобод, произошедшего в ходе революции 1905–1907 гг. Характерный для того периода рост общественной активности в определенной степени затронул и военную среду, традиционно считающуюся инертной и консервативной.
Предпосылки появления «Военного голоса»
В военной среде шел процесс осмысления печального для России опыта войны с Японией. Активная фаза конфликта закончилась задолго до заключения мира. По сути, финальным актом драмы стала гибель лучших сил российского флота в Цусимском проливе в середине мая 1905 г. Возможность подвести итог действиям сухопутных войск представилась еще раньше – проигрыш Мукденского сражения не оставлял надежд на то, что русской армии удастся разгромить противника. Предположения «о причинах наших неудач на Дальнем Востоке» уже с весны стали появляться в «Русском инвалиде». Однако специфическое положение ведомственного издания не позволяло «Русскому инвалиду» стать приемлемой для всех площадкой обсуждения волновавших армию вопросов. До заключения мира «аналитики» официальной газеты, объясняя и оправдывая «временные» трудности, непременно находили причины для оптимизма и веры в конечный успех. Шаблонное воспевание «знаменитой» храбрости русского солдата подменяло на страницах официоза обстоятельную критику действий военачальников и подготовки армии к войне.
Так, например, по мнению В. Недзевецкого, поражения русской армии обусловлены численным превосходством, а главное – сильнейшим патриотическим воодушевлением японцев, которое, впрочем, наверняка сойдет на нет по мере продолжения кровопролитных столкновений: «Боевой успех всегда выдвигает на первый план положительные стороны данной армии и на них сосредотачивается преимущественное внимание наблюдателей. Так было во все войны, то же замечается и в нынешнюю войну. В блеске японских удач, нередко преувеличенных, раздутых ложным патриотизмом, ярким пламенем горит моральный элемент. Пока он почти сплошь лучезарен, но останется ли он таким, когда успех перейдет на нашу сторону, когда поражения обрушатся всей своей тяжестью на японские войска? <…> Под Ляоляном армия Куроки почти потеряла в последние дни боеспособность; по-видимому, та же причина заставила прекратить атаки на Шахэ, не достигнув цели; под Артуром победа была одержана лишь благодаря постоянно прибывавшим свежим войскам. Будущие бои, без сомнения, предъявят еще большие требования, и смогут ли японские войска ответить им – остается открытым вопросом»[18].
Помещенная в следующем номере «Инвалида» заметка прославленного генерала, участника обороны Севастополя М.И. Батьянова и вовсе по стилистике напоминала напутственное слово полководца перед боем: «Нас постиг ряд неудач на суше и на море. Не проявилось до сих пор талантов ни там, ни здесь, но зато весь свет убедился, что и за десять тысяч верст от родной земли наши войска умеют умирать героями. На сухом пути, можно сказать, мы, как бы, только начинаем войну, и простой подсчет нам покажет, что мы обладаем, по сравнению с Японией, большими средствами для продолжения войны. <…> Россия не желала войны и теперь не желает, а потому дело Японии просить мира, и да знает она мощь России, живущей заветами Петра Великого (лить пушки из колоколов) и Александра Благословенного (не вложим оружия, доколе враг останется непобежденным). К царю сомкнись же, наша матушка Россия! Перенеси с твердостью и эту ниспосланную свыше тяжкую годину! А наша славная армия и флот да живут одною мыслью – отомстить врагу за испытанные нами неудачи на суше и на море, и за Порт-Артур»[19].
Пожалуй, из всех публикаций «Русского инвалида» наиболее ясная и авторитетная (хотя и достаточно прямолинейная) точка зрения на причины поражений русской армии была выражена в статьях полковника Генерального штаба М.Д. Бонч-Бруевича. С позиций знатока тактики Бонч-Бруевич уверял, что неудачи российских войск на театре войны с Японией объясняются элементарными ошибками командования (по незнанию или неумению) игнорировавшего азы военного искусства, известные всякому образованному офицеру. Бонч-Бруевич писал в первой части серии заметок под заглавием «Итоги войны»: «Мы начали войну и провели минувший ее период среди многих явных нарушений теории военного дела. <…> Если бы пришлось нарушать теорию в зависимости от обстановки вообще или по той причине, что противник не допустил действовать так, как бы следовало, то в таком стечении обстоятельств представлялось бы возможным посылать укоры суровой судьбе или сожалеть о недостатке искусства у наших полководцев, но если теория нарушается только потому, что иные ее забыли, а другие привыкли с нею не считаться или просто вышучивать ее, то согласитесь, что это неладно»[20]. «И на театре военных действий, и на полях сражений со стороны русской армии были допущены многие явные нарушения теории военного дела. Это ничем не оправданное нарушение теории является важным недочетом в нашей армии. <…> Теория военного дела проводится в армии офицерами, получающими военно-научную подготовку и посредством уставов. Всякий устав, всякая теория имеют в виду, что победа достижима только в том случае, если войска будут действовать в их духе, допуская, разумеется, отклонения, вызываемые обстановкой; сверх этого, для победы необходима еще и наличность таланта у военачальника, применяющего устав и теорию»[21], – доводил он свои рассуждения до логического конца во второй части «Итогов».
Об этом авторе еще придется говорить ниже, пока же необходимо отметить, что мысли, выраженные в «Итогах войны» Бонч-Бруевича, не могли не встретить сочувствия в военной среде. Версия об исполнительской ошибке как основной причине поражения разделялась очень многими. Главнокомандующий А.И. Куропаткин был полностью дискредитирован в глазах офицерства, немногим выше был и авторитет его приемника – Н.П. Линевича. Статьями Бонч-Бруевича обозначался предел критики, допустимой на страницах официоза. Правительство не могло пойти дальше обвинения и без того порицаемых всеми военачальников и признания некоторых недочетов в подготовке войск, которые непременно будут исправлены в самое ближайшее время усилиями военных властей.
Но подобная интерпретация событий прошедшей войны, конечно, устраивала не всех. Следует отметить, что гибель флота и обнаружившаяся общая несостоятельность империи перед лицом противника, «лишь недавно вставшего на путь цивилизованных народов», вызвали повышенный интерес к состоянию вооруженных сил со стороны гражданской, «общей» прессы[22]. Однако уровень дискуссии на страницах этих изданий не устраивал военных, традиционно по меньшей мере с недоверием относящихся к попыткам штатских выступать в качестве экспертов по военным вопросам[23].
Таким образом, после заключения Портсмутского мира часть офицерства испытывала потребность в свободном публичном обсуждении итогов минувшей войны, которая не могла быть удовлетворена на страницах существовавших органов военной печати, в той или иной мере зависевших от военной администрации. В.А. Березовский, редактор-издатель единственного к тому моменту частного и коммерчески успешного органа военной печати – журнала «Разведчик», в свое время потратил слишком много усилий на то, чтобы убедить недоверчивую администрацию в полезности и благонадежности своего издания. Он был не готов поставить под удар свое успешное предприятие, выказывая излишнюю независимость суждений и тем самым рискуя потерять с трудом завоеванную благосклонность министерства[24]. Не могла соответствовать предъявляемым требованиям и гражданская печать, хотя и более независимая, но для профессиональных военных имевшая слишком мало авторитета в том, что касалось вооруженных сил.
В этих условиях, в конце 1905 г., с возращением c театра войны на Дальнем Востоке участников боевых действий, в установившейся атмосфере политической неопределенности и ожиданий основополагающих реформ, в Петербурге группой офицеров была основана первая в России «частная, независимая военно-общественная газета “Военный голос”». При всех прочих предпосылках появление этого полностью легального органа было бы все равно невозможно без изменений в законодательстве о печати, внесенных императорским указом от 24 ноября 1905 г. «Временными правилами» 24 ноября окончательно упразднялась предварительная цензура, а главное – запрещалось внесудебное преследование периодической печати, что положило начало настоящему газетному буму. К хору различных «голосов» прибавился и «Военный голос».
Газета начала выходить с 1 января 1906 г. В редакционной статье, помещенной в первом номере «Военного голоса», была отчетливо отражена «программа» издания: «Чтобы голос армии и флота был услышан, основывается наша газета. Не останавливаясь на частностях, редакция “Военного голоса” теперь же считает нужным заявить, что она будет стремиться к согласованию предстоящих военных реформ с возвещенными Высочайшим Манифестом 17 октября 1905 года “незыблемыми” принципами нового государственного устройства России», поскольку «Было бы пагубным заблуждением думать, что это великое ответственное дело (реформирование вооруженных сил. – А. Ф.) может быть совершено теми же приемами, теми же путями и средствами, которыми оно вершилось до сих пор и которые привели наши военные силы к Мукдену и Цусиме с одной стороны, к Владивостоку, Кронштадту, Севастополю – с другой»[25].
Как видим, в первом же материале новой военной газеты было сделано значимое политическое заявление. По мнению редакции «Военного голоса», успешные реформы в армии были возможны только при условии перестроения всей государственной жизни России на «новых (следует понимать, конституционных. – А. Ф.) началах». Давняя аксиома либерального движения, согласно которой никакие современные и «прогрессивные» явления государственной жизни невозможны при сохранении бесконтрольного произвола властей предержащих, была воспринята и частью военной среды.
Вполне ожидаемо «Военный голос» был категорически не согласен с попытками объяснить поражения русской армии исключительно (или в первую очередь) ошибками и полководческой бездарностью генерала Куропаткина[26]. В одном из первых номеров обозреватель «Военного голоса» вступил в заочный спор с (к тому времени уже покойным) видным российским военным теоретиком рубежа XIX–XX вв. генералом М.И. Драгомировым. Поводом стала посмертная публикация в газете «Молва» письма Драгомирова, в котором действия Куропаткина подвергались уничижительной критике. Драгомиров полагал, что итоги войны могли быть совершенно иными в случае своевременного смещения незадачливого главнокомандующего, которое бы непременно произошло, «если бы наша печать во время злополучной Русско-японской войны не находилась под гнетом невежественной военной цензуры, не допускавшей самой скромной критики». «Военный голос» же решительно отметал версию о том, что замена Куропаткина могла привести к перелому в войне. Настаивая на положении о принципиальной невозможности преодолеть издержки порочной системы путем отдельных удачных кадровых решений, «Военный голос» видел дополнительное ее подтверждение в том, что Драгомиров строго-настрого запретил публиковать это письмо при своей жизни: «И если хорошенько вникнуть в ужасный смысл этих слов, сказанных человеком независимым и обладавшим известным гражданским мужеством, то последствия нашего старого режима станут понятными. И тогда может меньше нам придется сваливать на одного Куропаткина» (3 января).
В 1908 г. участник Русско-японской войны, вышедший к тому моменту в отставку генерал-майор К.И. Дружинин, подготовил предназначавшуюся Комиссии Государственной обороны Государственной думы пространную записку «О главнейших несовершенствах и недочетах нашей армии». Во вступлении к записке Дружинин обратился к метафоре войны как экзамена для государства и состязания между народами, победу в котором одерживает тот, кто обладает более совершенным (в самом широком смысле) государственным устройством: «Война есть экзамен государственного строя, а потому государство с неудовлетворительной подготовкой своего государственного строя не может выдержать экзамен, т. е. должно проиграть войну в борьбе с более или менее равным по культуре, средствам и силам другим государством, обладающим более совершенным государственным строем»[27]. Далее Дружинин отчетливо сформулировал витавшее в воздухе заключение о том, что внутренние проблемы России стали основной причиной ее неудачи на Дальнем Востоке, и только внутреннее перерождение страны может спасти ее от новых поражений, гарантировать ее положение на международной арене: «Исходя их этого положения можно прийти к заключению, что в проигрыше кампании 1904–1905 гг. виновата не русская армия, а вся Россия, и ждать в будущем для нашего отечества возможности побеждать внешних врагов можно только при условии усовершенствования нашего государственного строя: тогда усовершенствуется сама собой и наша вооруженная сила; если же наш государственный строй безнадежен, то не стоит и думать о совершенствовании нашей армии»[28].
В суждениях, высказанных Дружининым, не было ничего оригинального. Многие участники войны на Дальнем Востоке и военные интеллектуалы аналогичным образом оценивали поражение России, полагая, что не только российские вооруженные силы, но сама страна со всеми ее порядками, государственными и общественными учреждениями не выдержала этот важнейший «экзамен». «Мы проиграли ее (войну. – А.Ф.), потому что не могли выиграть, а виноваты в этом мы, то есть поголовно вся Россия. Выигрывает в войне обыкновенно та сторона, в которой сильнее государственность. Японцы безусловно сильнее нас в развитии идеи государственности, в глубоком убеждении правоты и возможного совершенства своего государственного строя», – словно повторял Дружинина другой автор популярного журнала для военных[29].
Такая риторическая формула, перекладывавшая вину с армии и флота на всю страну, как будто позволяла военным уйти от ответственности за свои неудачные действия. Раз виноваты все, значит, не виноват никто в отдельности. После Русско-японской войны своего рода чемпионом по самооправданию и отрицанию личной ответственности был бывший главнокомандующий всеми силами, действовавшими на Дальнем Востоке, генерал А.Н. Куропаткин. Будучи одним из главных антигероев японской войны, Куропаткин посвятил изучению ее итогов объемные тома сочинений, в которых командующий неизменно изображался заложником неблагоприятных обстоятельств: отчасти географических, отчасти исторических, отчасти субъективно обусловленных действиями других лиц – его подчиненных, предшественников на посту военного министра, глав других правительственных ведомств и т. д.[30]
В глазах публики А.Н. Куропаткин нес двойную ответственность за поражение России в войне на Дальнем Востоке – как незадачливый полководец и как министр, в течение шести лет (с 1898 по 1904 г.) руководивший военным ведомством империи. Поэтому в своих послевоенных трудах генерал стремился доказать, что разрабатываемые им на посту военного министра планы по укреплению армии систематически откладывались и не выполнялись в полном объеме из-за постоянной нехватки финансирования. По его мнению, хроническое недофинансирование нужд военного ведомства было вызвано не столько объективными возможностями государственной казны, сколько чересчур жесткой бюджетной политикой Министерства финансов, боровшегося с увеличением военных расходов[31]. Кроме того, Куропаткин считал, что его предостережения относительно неготовности армии к войне на столь удаленном от ее основных баз снабжения театре и возросшей силы Японии недостаточно учитывались при формировании дальневосточной политики России[32]. Вдобавок генерал Куропаткин утверждал, что, несмотря на все тщательно проанализированные им обстоятельства, Россия даже после Мукдена и Цусимы все-таки была способна одержать конечную победу над Японией, если бы ей хватило политической воли для продолжения войны[33].
Это смелое предположение основывалось на том, что, по мнению генерала, последовавшая за Мукденским сражением передышка позволила русской армии, занявшей оборонительные позиции на Сыпингайских высотах, чрезвычайно укрепить свою материальную часть (благодаря улучшению сообщения с Европейской Россией) и пополнить численность, в то время как Япония уже была чрезвычайно истощена войной. Согласно Куропаткину, сознание растущего превосходства в силах укрепило и боевой дух войск, ждавших возможности взять у противника реванш. В конце мая 1905 г. к тому времени смененный на посту главнокомандующего Н.П. Линевичем, но оставленный на театре боевых действий в качестве командующего 1-й Маньчжурской армией Куропаткин писал, что «наша армия в Маньчжурии сохранена и <…> более сильна, чем когда бы то ни было»[34]. Аргумент об отнятой политическими обстоятельствами победе был, пожалуй, самым привлекательным из всех, что А.Н. Куропаткин приводил в свою защиту. Его разделяли некоторые офицеры Маньчжурской армии, полагавшие, что их лишили возможности поквитаться с противником и «смыть позор»[35]. Соглашаются с ним и отдельные историки – как прошлые, так и современные[36].
Однако большинство авторитетных военных историков все же сходится на том, что русская армия могла эффективно обороняться на Сыпингайских высотах, но в силу как проявившихся на предыдущих этапах кампании недостатков в умении руководить крупными операциями, так и воздействия прошлых поражений, а также революционных событий в России на боевой дух вряд ли была способна разбить японцев, перейдя в наступление[37]. Более того, сами Линевич и Куропаткин медлили с разработкой плана наступления (к чему их побуждал Петербург), поскольку в действительности испытывали большие сомнения относительно его перспектив[38]. А верящие в упущенную победу склонны выдавать желаемое за действительное. Современники событий в большинстве своем также скептически относились к идее о том, что Россия чудесным образом могла одержать победу на последнем этапе войны.
А.Н. Куропаткин писал свои оправдательные сочинения, отвечая на многочисленные попытки выставить его главным «козлом отпущения» за военные неудачи России в войне с Японией, назначить главным личным виновником поражения, на которого должно было излиться все общественное негодование[39]. Эта тенденция, разумеется, была сильна как в военной среде, так и в российском обществе в целом.
Оценкам деятельности Куропаткина, данным Драгомировым, вторил позиционировавший себя главным хранителем, популяризатором (и интерпретатором) наследия «учителя армия» полковник М.Д. Бонч-Бруевич. Как уже говорилось выше, Бонч-Бруевич списывал неудачные действия русской армии в войне против Японии на грубые «нарушения теории военного искусства» со стороны отдельных исполнителей. Прежде всего главнокомандующего. По логике Бонч-Бруевича выходило, что поражение России в войне на Дальнем Востоке было чем-то вроде досадного недоразумения, случайного сбоя военной машины. Поражение должно было обрести конкретных виновников, которые понесут ответственность (хотя бы символическую) за случившийся с великой империей конфуз. Бонч-Бруевич категорически не хотел начинать разговор о системных проблемах армии и российского государственного организма в целом. В общественном сознании победам всегда придается живое лицо того или иного деятеля. То же происходит и с поражениями. С той только разницей, что в этом случае «герои» предпочитают уклоняться от «славы». Не стал исключением и А.Н. Куропаткин. При всей тенденциозности трудов Куропаткина, прилагавшего усилия прежде всего к обелению собственной репутации, многие офицеры, участники Японской войны, соглашались со своим бывшим главнокомандующим в том, что причины поражения невозможно полностью свести к деятельности одного человека, какой бы ответственный пост он не занимал. Не отрицая полководческой бездарности Куропаткина, они стремились к более глубокому анализу причин неудач русской армии, чем у полковника Бонч-Бруевича. На войне с Японией русская армия не смогла одержать победы ни в одном серьезном столкновении с противником, чего ранее не случалось с ней в крупных военных кампаниях нового времени. Факты свидетельствовали о системных проблемах такого масштаба, что объяснить все произошедшее некомпетентностью одного исполнителя можно было только в погоне за самоуспокоением.
Авторы и сотрудники редакции «Военного голоса»
Одним из офицеров, старавшимся выделить системные причины обнаружившейся неподготовленности России к войне в условиях индустриальной эпохи, был подполковник Генерального штаба Дмитрий Павлович Парский. Подполковник Парский, как и многие российские офицеры того времени, был выходцем из военной семьи, представителем своего рода офицерской династии. Его отец (Павел Петрович Парский) и дядя (Василий Петрович Парский) были участниками обороны Севастополя, а на Русско-японской войне Д.П. Парский потерял двух братьев (Михаила и Павла Павловичей Парских) – строевых офицеров пехоты[40]. Сам Д.П. Парский, будучи офицером Генерального штаба, служил при штабе 3-й Маньчжурской армии, однако под Мукденом принял непосредственное участие в бою, за что был представлен к награде[41].
Подполковник Парский посвятил отдельный труд изучению системных факторов, обусловивших поражение России в войне с Японией. Парский стремился к объективному, научному рассмотрению проблемы и полемизировал с встречавшимися в печати поверхностными, упрощенными объяснениями сложных исторических событий. Попытки переложить всю ответственность на одного Куропаткина вызывали его прямое возмущение: «Часто приходится слышать и читать, что многие винят в неудачном для нас исходе последней войны чуть ли не одного главнокомандующего. Это мне кажется несправедливым: я далеко не разделяю способа действий нашего высшего управления армиями, о чем не раз говорил в своих воспоминаниях. Быть может, даже главную из причин наших поражений надо отнести на его долю, но это еще далеко не исчерпывает всего: трудно допустить, чтобы один человек, хотя бы и в таком исключительно решающем положении, как главнокомандующий, мог бы являться единственным ответчиком за неудачную войну»[42], – писал Парский в предисловии к своей работе. Версию о полководческой бездарности как основной причине поражения отвергал и генерал Дружинин, в своей записке 1908 г. во многом подводивший итог дискуссиям первых послевоенных лет: «…никакие таланты полководцев не спасли от гибели Грецию и Рим»[43].
Д.П. Парский, продолжая свой анализ войны на Дальнем Востоке, указывал, что «Причины неудач нашей несчастной войны нельзя исчерпывать какой-нибудь одной, их было много, как это всегда бывает в явлениях сложных, и они различны между собой по существу. Попытаюсь выяснить их в общих чертах. Я разделяю все причины наших неудач на три главные: из них одна, и самая основная, заключается в существующем у нас общегосударственном режиме»[44]. Развивая мысль о несовершенстве политического («общегосударственного») режима, явившемся причиной несостоятельности России перед лицом внешней угрозы, Парский писал: «Было бы ошибочно думать, что проиграли войну только мы, военные, <…> гораздо справедливее отнести неудачу войны не только на долю одной армии, а всей России. Мы мерились на войне с противником числом и качеством войск, их духом, степенью подготовки, умением распоряжаться и оказались слабее, что было очевидно для каждого. Но, ведь, если бы пришлось сравнивать все остальные стороны нашей государственной жизни с тем же противником, то разве мы не пришли бы к подобному же заключению? Непременно, да оно собственно так и было, только обнаружилось не столь рельефно»[45].
Вдумчивый анализ событий привел подполковника Парского к проведению закономерной, напрашивавшейся при привлечении широкого исторического контекста аналогии между Русско-японской и Крымской войнами: «…чем, в самом деле, последняя кампания лучше печальной памяти Крымской? <…> Далеко ли в общем ушли мы за эти 50 лет? И что же, как не общий режим, является тормозом к лучшему?»[46]
В своих сочинениях подполковник Парский обращался к событиям Крымской войны и до поражения на Дальнем Востоке. Опыт этой неудачной, но покрытой героическим ореолом войны привлекал Парского как начинающего военного историка и публициста. Перу Д.П. Парского принадлежит популярный исторический путеводитель по местам Севастопольской обороны, участие в которой принимали его отец и дядя[47]. О положительном отклике военной среды на эту работу свидетельствуют благодарные письма читателей, сохранившиеся в фонде Д.П. Парского: «…в деревне с полным удовольствием прочел памятники славной обороны Севастополя, где я, в юности моих лет, некоторым образом проливал кровь за отечество», – писал Д.П. Парскому один из ветеранов Обороны Севастополя[48]
