Путешествие в окружающие миры животных и людей. Теория значения
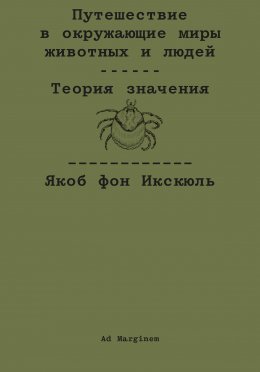
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Герменевтика живых существ Якоба фон Икскюля
В настоящем издании представлены переводы двух ключевых текстов Якоба фон Икскюля (1864–1944) – биолога, натурфилософа и признанного основателя зоо- и биосемиотики. «Путешествие в окружающие миры животных и людей» (1934) – одна из самых известных и блестящих научно-популярных его работ. «Теория значения» (1940) – систематическое изложение биологической теории Икскюля и ее основных концептов, которое резюмирует его предшествующие работы по теоретической биологии[1].
Сколько-нибудь заметных следов рецепции идей Икскюля в России мы не смогли отыскать – за редкими исключениями[2]. Его труды и идеи не входят в научный канон современной научной биологии, кроме одного направления – биосемиотики. Не претендуя на какую-то полноту, настоящее предисловие имеет целью поставить некоторые основные идеи немецкого биолога в релевантный исторический и систематический контекст, прежде всего – философского характера, а также дать отсылки к современной литературе, связанной с главными аспектами его наследия, которое несколько раз заново открыто в последние десятилетия.
Икскюль родился на территории Российской империи в аристократической семье балтийских немцев. С 1884 года в течение четырех лет он изучал зоологию в Дерптском университете, а в 1888 году перебрался в Гейдельберг, где занялся физиологическими исследованиями в институте Вильгельма Кюне. Много путешествовал с научными целями, в частности работал на старейшей морской зоологической станции в Неаполе. В 1907 году получил звание почетного доктора Гейдельбергского медицинского факультета за экспериментальные исследования нервов и мышц. После русской революции 1917 года и последовавшей земельной реформы потерял свое состояние в Эстонии, хотя и продолжал затем приезжать на побережье в летний дом. В 1924 году получил приглашение на место научного сотрудника и заведующего аквариумом в Гамбургском университете, где с 1925 по 1940 год возглавлял Институт исследований окружающей среды. В 1940 году переехал на Капри, где и скончался в 1944 году[3].
Нельзя не упомянуть, что Икскюль разделял антисемитские взгляды[4] и до конца своей научной карьеры был сторонником национал-социализма, постепенно, впрочем, отходя от активного в нем участия. Подписал, как и большинство биологов-холистов того времени, «Заявление профессоров немецких университетов и вузов о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства» (1933). Поддерживал отношения с теоретиком расизма Хьюстоном Чемберленом. Последние исследования показывают, что он, видимо, играл даже более активную роль в Комитете по немецкому праву Академии немецкого права, чем также приглашенные туда в 1934 году Мартин Хайдеггер[5] и Карл Шмитт. В настоящее время связь теоретических идей и политических воззрений Икскюля привлекает пристальное внимание, помимо прочего, в силу того что к его наследию обращаются представители так называемой «консервативной экологии», идентитаризма и в целом «новых правых». Эти изыскания, помимо безусловной исторической ценности, обнаруживают, впрочем, обескураживающую наивность современных политически-ангажированных историков, поскольку для них удивительным образом открывается, например, следующее: «Холистическое мышление не обязательно фашистское – но оно имеет тенденцию и процветает в соответствующей политической среде лучше, чем где-либо еще. Для того чтобы занять свое место в поле современных практик апроприации экологического мышления, важно серьезно отнестись к аргументу, что экология как таковая на самом деле не является левой»[6]. Ниже мы еще затронем вопрос о сопряжении теоретических и практических взглядов в теориях холистского и органицистского типа, к которым можно с некоторыми оговорками отнести и учение Икскюля.
К несомненным теоретическим инновациям Икскюля, прочно вошедшим в современную биологию, экологию, а также теорию систем или кибернетику (так что даже их источник часто забыт), можно отнести следующие.
Понятие «окружающего мира» (умвельта, нем. Umwelt)[7], введенное Икскюлем в 1909 году в работе «Окружающий и внутренний мир животных», плюрализирует представление о мирах живых существ. Они обитают не в едином мире, а в рамках собственных миров, каждый из которых формируется набором воспринимаемых признаков (Merkmal), релевантных для данного животного, реагирующего на их появление определенными действиями (Wirkmal). Всякое живое существо является «субъектом», вокруг которого формируется его собственный окружающий мир; организм и его среда образуют единое целое. Существа редуцируют сложность мира, чтобы обитать в нем с какой-то определенностью[8]. Чем проще животное, тем проще, но также и надежней его окружающий мир, однако «по мере возрастания количества действий, которые способно выполнить животное, возрастает и количество предметов в его окружающем мире»[9]. Речь идет не только о каких-то отдельных чувственных качествах или воздействиях. По отношению к субъекту релятивизируется также само пространство и время, возникает мир «мыльных пузырей», – так Икскюль поясняет пространственный эффект формирования окружающего мира. Мир дан живому существу лишь в избирательном аспекте его окружающего мира, в своей полноте он остается непознаваемой вещью самой по себе. По отношению к миру в целом мы все подобны обитателям того лесного дуба, о котором Икскюль пишет: он является «надежной опорой для всех окружающих миров, субъекты которых не знают и никогда не узнают о его существовании». Индивидуация окружающего мира по отношению к характеристикам его вида происходит благодаря опыту каждого существа.
Разумеется, речь идет о воспроизводстве в новом масштабе «коперниканского поворота» Канта, осуществленного в «Критике чистого разума»: «До сих пор считали, что всякие наши знания должны сообразоваться с предметами. При этом, однако, кончались неудачей все попытки через понятия что-то априорно установить относительно предметов, что расширяло бы наше знание о них. Поэтому следовало бы попытаться выяснить, не разрешим ли мы задачи метафизики более успешно, если будем исходить из предположения, что предметы должны сообразоваться с нашим познанием…» (в XVI). Впрочем, в теории окружающего мира Икскюля можно также найти некоторые отголоски монадологии Лейбница[10].
К началу XX века сформировались две основные линии интерпретации Кантовой теории субъективности. Одна из них (первоначально Якоб Фриз, затем Альберт Ланге и раннее неокантианство) трактует эту теорию психофизиологически: мир субъекта определяется его конкретной физиологической и психологической конституцией. В этом же русле находится также теория окружающего мира Икскюля, распространившего идею Канта, а заодно и понятие субъекта на весь органический мир: каждое живое существо конституирует мир своего собственного опыта. Отличие заключается в том, что психофизическая интерпретация оперирует поначалу родовым антропологическим понятием (человек как таковой) и лишь позднее возникают разного рода культурные и/или лингвистические варианты фрагментации и релятивизации (по типу, например, гипотезы Сепира – Уорфа). В этом же направлении продолжает развиваться и современная социальная теория, а следовательно – можно допустить – также и реальность, которую она стремится описывать: субъективация по отношению к прежним социальным классам или другим крупным группам – именно так можно резюмировать современные теории Рональда Инглхарта, Герхарда Шульце, Андреаса Реквица, Жиля Липовецки и др. Икскюль же сразу – и намного раньше – решительно распространяет субъектность и, следовательно, уникальность окружающих миров на всех живых индивидов: «всякий субъект живет в мире, где существуют лишь субъективные реалии, а сами окружающие миры представляют собой лишь субъективные действительности». Конечно, сегодня есть желание повторить подобный ход и распространить принцип субъектности также на неживые существа – искусственный интеллект и т. п. Современные биологи – последователи Икскюля используют в основном понятия «агентность» и «агент», иногда – понятие «самость» для обозначения момента субъективности живых существ. Но при этом продолжают проводить принципиальное различие между живыми и неживыми агентами. В своем всестороннем освещении биосемиотической теории и эволюционной истории агентности Алексей Шаров и Мортен Тённисен отмечают: «Одновременное использование термина „живой организм“ к искусственным системам было бы путаницей и вводило бы в заблуждение. Лучше и точнее использовать термин „агент“, который одинаково подходит и для живых организмов, и для созданных человеком автономных устройства»[11]. Последователь Икскюля из области культурной антропологии Эдуардо Кон предпочитает использовать для своих субъектов понятие «самость»[12].
Что же, однако, со второй возможной интерпретацией теории субъективности Канта? Она имеет форму трансцендентальной, а не психологической интерпретации и была развита в позднем неокантианстве (Пауль Наторп) и в какой-то мере в феноменологии Эдмунда Гуссерля после его трансцендентального поворота. Если ее предельно упростить, то она заключается в том, что познающий субъект не является собственно биологическим существом. Любое существо, перед которым могла бы возникнуть проблема познания, пришло бы к формированию инструментов и элементов, родственных человеческой науке, используя логику, математику, эксперимент, модели пространства и времени и т. д. У Гуссерля близкая идея выражена иным образом: восприятие и познание мира сущностно сходно для всякого сознания интенционального типа: так, Бог не имел бы никаких преимуществ перед человеком в познании вещей внешнего мира[13]. Применительно к работам Икскюля напрашивается в этом контексте следующий вопрос: не стоит ли предположить, что всё же существует возможность заглянуть за пределы своего «мыльного пузыря» и открыть перспективу окружающих миров других существ? Очевидно, что работы самого Икскюля открывают нам именно такую возможность: они дают нам объяснение (в «Путешествиях» часто сопровождаемое иллюстрацией), позволяющее до определенной степени понять поведение самых разнообразных существ – от клеща и астронома до девушки и коровы. Икскюль не может обойти этот вопрос и обращается к нему в финале обеих публикуемых здесь работ. В «Путешествии» его критический ответ на возможность расширения горизонта человеческих окружающих миров заключается в том, что у самих ученых, представителей разных дисциплин, они различны: «…роль, которую играет природа как объект в разных окружающих мирах естествоиспытателей, глубоко противоречива. Если мы попытаемся охарактеризовать ее объективные свойства, получится хаос». Это соображение является глубоко скептичным и может быть прочитано как выражение культурного кризиса научного миропонимания начала XX века, которое погружается в состояние всё большей дисциплинарной фрагментации и специализации, утрачивая роль интегрирующего мировоззрения, каким оно еще выступало в конце XIX столетия[14]. В заключении «Теории значения» Икскюль вновь возвращается к этому фундаментальному философскому вопросу, в той или иной форме пронизывающему все современные научные дисциплины и философские дискуссии[15]: «Хотя мы можем при помощи постоянно совершенствующихся аппаратов постигать все вещи, при этом мы не получаем нового органа чувств, и все свойства вещей, даже если мы разлагаем их на мельчайшие частицы – на атомы и электроны, – всегда остаются лишь воспринимаемыми признаками наших чувств и представлениями». Хотя это более оптимистичная позиция, Икскюль продолжает ограничивать возможности человеческого познания его сенсуалистической и психологической перспективой, оставляя нас в пределах человеческого «мыльного пузыря»[16]. В другом месте «Теории значения» он замечает в этой же связи: «Очевидно, что мы способны возвыситься над собой не посредством расширения пространства нашего окружающего мира на миллионы световых лет, но посредством знания того, что некий всеохватный план подразумевает существование вне нашего личного окружающего мира окружающих миров наших собратьев – животных и других людей». Это высказывание, с одной стороны, соответствует одной из ключевых идей Леопольда фон Ранке, выбранных Икскюлем, чтобы сформулировать свое отношение к теориям биологического прогресса («каждая эпоха стоит в непосредственном отношении к Богу»), с другой – вступает в перформативное противоречие с картиной окружающих миров других животных и людей, рисуемых самим его автором, равно как и с той теорией, которая за ней стоит. Чего стоит только вот эта прекрасная формулировка Икскюля в пользу этой теории: «Если мы попытаемся взглянуть на воздействия окружающего мира с точки зрения самого дуба, то вскоре обнаружим, что они подчинены общему природному правилу». Выразительные рисунки, сопровождающие текст работы о путешествиях в окружающие миры животных и людей, дают нам представление о еще одном ограничении нашей способности взглянуть на мир глазами других существ. Пытаясь описать метафорами и аналогиями картину восприятия морского ежа, автор в конце концов безнадежно резюмирует: «Изобразить это невозможно технически». Этот вывод Икскюля, как мне кажется, отложился в научной культуре биологов, несмотря на отсутствие его самого в научном горизонте львиной доли современных ученых. Когда в процессе подготовки этого текста я консультировался по поводу тонкостей его примеров с морскими ежами у одного из наших квалифицированных морских биологов, он почти буквально воспроизвел эту цитату, заметив: «Мы не представляем, как мыслит морской еж».
Как мы видим, Икскюль не совсем последователен в своей собственной позиции о возможности «перевода» различных окружающих миров, что ведет – даже если ограничиться кругом только миров человеческих – вглубь проблематики релятивизма во всех его многообразных исторических, культурных и политических изводах, в которую здесь не место вдаваться.
Тезис о том, что Икскюль в философско-теоретическом плане является последователем Канта, является общим местом в его интерпретации. Но стоит заметить, что это влияние всё же ограниченно в ключевом моменте: Икскюль не разделяет основной пункт представлений Канта о специфике живых организмов как систем, описываемых в терминах целей и средств[17], хотя и согласен с ним в том, что живое создание нельзя объяснить посредством «механической» закономерности. Икскюль явно избегает даже употребления понятия «организм», оно не входит в число основных концептов его теории, что явно противопоставляет его традиции органицизма, берущей начало в немецкой классической философии. Его позиция последовательно антидарвинистская, но далее он, скорее, колеблется: в его работах присутствуют элементы и телеологии (без которой Кант считал невозможным регулятивное понимание природы организмов), и креационизма («композитор», стоящий за дизайном живых существ), и витализма в духе Ганса Дриша, признающего за жизнью наличие особого типа причинности (Eigengesetzlichkeit)[18]. В целом Икскюль находится в той традиции мысли, которая противостоит механистическому монизму и рассматривает жизнь как сферу, где действуют собственные закономерности, но всё же не ограничивается простым (можно сказать – слишком простым) постулированием особой «жизненной силы». Он стремится найти третий путь – между дарвинизмом и витализмом – с опорой на стандартные научно-экспериментальные методы.
Еще один момент, который представляется мне актуальным в работах Икскюля, связан с окружающими мирами, но придает ему новое измерение. Какие бы оговорки он ни делал по поводу ограниченности человеческой способности постигать другие миры, он сам приглашает к путешествию и прогулкам по ним. И это путешествие основано на внимательном эмпирическом наблюдении и остроумном экспериментировании, стремящемся понять причины поведения тех или иных существ. В этом Икскюль следует за «Энтомологическими воспоминаниями» Жана Анри Фабра (в России традиционно публикуются избранные тексты этого десятитомного издания – «Жизнь насекомых»), ряд кейсов которого являются для него излюбленными примерами. Экспериментируя и наблюдая в своем небольшом саду в Провансе на протяжении многих десятилетий, Фабр, писавший вполне доступным языком[19], открыл читающей публике странный и сложный мир крохотных существ, от которых, за исключением разве что бабочек, люди привыкли лишь отмахиваться. Фабр по-домашнему вводит нас в жизнь своих насекомых, например описывая свое отношение к ним во время тяжелой болезни: «Когда из мрака бессознательности стали проступать моменты ясности, первой моей мыслью было желание проститься с моими перепончатокрылыми, давшими мне мои лучшие радости, и прежде всего с моим соседом галиктом»[20]. С такой же теплотой и проницательностью Икскюль открывает перед читателями множество окружающих миров различных существ, для обозначения которых он выбирает метафору сада, наполненных для нас поначалу совершенно загадочными символами: «Если мы будем перебирать в нашем уме окружающие миры, то мы обнаружим в садах, расположенных окрест телесных домов, субъектов, самые причудливые создания, служащие носителями значений, понимание которых нередко представляет большие трудности. Из-за этого создается впечатление, что носители значения являют собой тайные знаки или символы, которые понятны только индивидам одного вида, оставаясь совершенно непонятными для представителей чужих видов». Тем не менее кропотливое наблюдение и изобретательный эксперимент позволяют разгадать эти тайные знаки и понять причины или мотивы действий существ (последнее, разумеется, возможно в случае тех, у кого они могут быть). Икскюль, не будучи теоретическим доктринером, не всегда последователен. Так, он борется с антропоморфным понятием «цель» в биологии, хотя и не отказывается вполне от элементов телеологии. Однако на основании приведенных описаний окружающего мира даже такого создания, как инфузория-туфелька – существа, не обладающего, видимо, восприятием пространства и времени в каком-то доступном для нас смысле, – мы всё же понимаем его жизненный «план» (термин, которым Икскюль, насколько я понимаю, полемически заменяет ключевое понятие Фабра «инстинкт»).
Икскюль, как и Фабр, предлагает не только некоторую теорию живого, но, как и многие писатели-натуралисты, обладавшие не меньшей наблюдательностью, полноценную герменевтику живых существ[21]. Классическая богословская и историко-филологическая герменевтика постепенно расширяла свои границы, отталкиваясь от отдельных видов текстов, пока не замкнула свой горизонт всей совокупностью созданных человеком артефактов[22]. Биологическая герменевтика Икскюля открывает для понимания необозримое множество новых миров – уже не человеческих. И при этом сохраняет родовую эпистемологическую черту герменевтического познания – его незавершенный характер, чем и можно объяснить скепсис Икскюля в отношении совершенства нашего перевода чужих окружающих миров. К этому добавляется еще один аспект – эстетический. Неведомый создатель жизни – «композитор», а сама жизнь основана на музыкальных контрапунктах, музыкальной композиции, мелодии и музыкальной гармонии[23]. Но дело не ограничивается ключевой ролью музыкальной модели взаимодействия: «техника природы напоминает возникновение любого произведения искусства». Таким образом, два основных элемента «Критики способности суждения» Канта – эстетика и учение об организмах – приводятся Икскюлем в единство.
Это эстетическое отношение к живым существам, принимающее также форму удивления их функциональным совершенством, проявляется также в отрицании Икскюлем эволюции как формы прогресса живых существ. Он признает, что в прошлом живые существа были проще, но отказывается считать их несовершенными: «даже при изучении простейших животных мне никогда не встречалось и тени несовершенства». Взгляд натуралиста, соединяющий в себе эстетический аспект и оптику научного знания, открывает нам новый – совершенный и прекрасный – мир. Подобная способность видеть окружающий мир – как живой, так и неживой – изобретение модерной культуры, полностью оформившееся лишь в XIX веке. Ключевую роль здесь сыграл Александр фон Гумбольдт, исследования и экспедиции которого вдохновили множество современных естествоиспытателей[24], ему же мы обязаны закреплением за универсумом наименования «космос» (то есть гармонично упорядоченный). И надо сказать, что далеко не все мыслители того времени обладали подобным взглядом на мир. Тут можно вспомнить Гегеля, совершенно равнодушного к красоте природы. В особенности же наглядный антипод Икскюля в этом отношении – Владимир Соловьев. С одной стороны, Соловьеву принадлежит грандиозная и по сей день актуальная утопия эстетизации окружающего человека природного мира. С другой стороны, он смело ранжирует живые существа на объективно прекрасные и безобразные, причем больше всего в эстетическом порицании от него достается как раз излюбленным персонажам Икскюля – паразитам[25]. Здесь, не вынося эту ремарку в примечания, поделюсь одной личной историей. При посещении Воронежского заповедника, который был создан в свое время для воссоздания в первую очередь популяции бобров, мы встретились с Борисом Ромашовым, изучающим паразитов бобров (а это лучший специалист по теме, возможно, в мире)[26]. В своем кабинете он, конечно, раскрыл стеллажи с их заспиртованными образцами. Мягко говоря, я не проявил интереса. Но тогда он взял наугад препарат и положил под микроскоп. Заглянув в него, можно было увидеть волшебную симметрию не хуже, чем в калейдоскопе в детстве: эстетика в природе раскрывается не с первого взгляда.
Важнейший вклад Икскюля в биологию, а также затем в кибернетику состоит в формулировке принципа обратной связи между организмом и средой, который он называет «функциональным кругом» (Funktionskreis) – см. рисунок 3 в работе «Путешествия». Но если для кибернетического движения наследие Икскюля находится, насколько я могу судить, на периферии[27], то для биосемиотики он является несомненным классиком[28]; также в ее развитие во второй половине XX века внес заметный вклад его старший сын Туре фон Икскюль[29]. Важнейший принцип биосемиотики, сформулированный в теории значения (Bedeutung) Икскюля, заключается, по выражению Калеви Кула, в том, что организм рассматривается как коммуникативная структура. В связи с теорией значения и функциональным кругом возникает, однако, вопрос, насколько они потенциально соответствуют его собственному стремлению отделить живые организмы в особый регион, где не действуют «механические» закономерности. Вопрос возникает потому, что именно кибернетическая и информационно-семиотическая модель, существующая во множестве разновидностей, во второй половине XX века становится важнейшим претендентом на то, чтобы стереть границу между миром механизмов и организмов, то есть ликвидировать дуалистическую самостоятельность этих онтологических регионов. Причем это происходит путем формирования механизма более сложного типа. На мой взгляд, теория значения Икскюля также открывает подобную возможность, несмотря на его собственную уверенность в нередуцируемости органической жизни к каузальным механизмам неорганической природы. В стандартной классификации Чарльза Пирса, выделяющего знаки-символы, иконические[30] и индексальные знаки, биологическая семиотика Икскюля работает с одним типом знаков – индексальными[31]. Их особенность заключается в том, что они связаны со своим означаемым каузальным («механическим») образом: так, столбик термометра, являющийся для нас знаком температуры, движется в силу совершенно естественных причин. По емкому определению Гуссерля, который в своей классификации называет некоторые подобные знаки также вполне икскюлевским термином «метка» (Merkmal), знак и означаемое связаны здесь таким образом, что «некоторые вещи могли бы или должны существовать, так как даны другие вещи»[32]. И хотя Икскюль семиотизирует существование живых существ в их окружающем мире, однако это семиотизация индексального, то есть причинно-следственного, типа. Что и открывает возможность для монистической интеграции органического и неорганического в рамках последующих кибернетических моделей или своеобразных семиотических теорий эволюционного развития универсума[33]. В этой особенности биосемиотики также обнаруживается определенная двойственность идей Икскюля, которая в любом случае является продуктивной для их дальнейшего развития.
Эта двойственность, проходящая через разные аспекты его научного наследия, проявляется и в политических аспектах его взглядов. Маттиас Юнг в предисловии к немецкому изданию работ Икскюля, аналогичному данному русскому изданию, не мог, разумеется, обойти вопрос о политических импликациях его теоретических взглядов[34]. Не будем повторять подобное упражнение в расстановке политкорректных оценок, а попробуем пояснить механику действия научно-теоретических воззрений в концептуальной рамке Икскюля на следующие их них (если автор к этому склонен) политические воззрения. Не будем здесь повторять также то, что уже сказано в других публикациях по онтологическим, эпистемологическим и политическим аспектам герменевтики и органицизма – основного прототипа разных версий холизма[35]. Максимально упрощая, можно резюмировать это так. Холизм, то есть стремление анализировать феномен в целом, а не в разрозненных его частях, имеет две основные разновидности – назовем их плюралистической и тоталитарной. Для первой «целое» – это способ сделать целью каждую его часть; такова теория организма и этика Канта, которую можно проследить, например, до идеала всеединства Соловьева, в этом же русле находится и историзм Леопольда фон Ранке, к теории которого также обращается Икскюль. Для второй «целое» – это то, что важнее всех его отдельных частей (опыты Дриша с препарированием морских ежей, которые легли в основу его витализма, являются аргументом в пользу именно этого тезиса). В эпистемологическом измерении это ведет к следующему вопросу: знаем ли мы в полной мере целое и, соответственно, его части? В рамках эпистемологического правила герменевтики мы никогда не можем ответить на этот вопрос положительно[36]. И всё же может возникнуть искушение предположить, что целое и его части нам в фундаментальных чертах известны. В практическом (политическом) плане из этого следует, что для идеального функционирования этого целого необходимо лишь убрать мешающие, вмешивающиеся в его функционирование инородные «части». В теории Икскюля мы находим и ту и другую линию. Окружающие миры субъектов-организмов, представленные в образе телесно-индивидуализированных садов, – одна из лучших манифестаций холистического плюрализма, а метафора «парламента вещей» Бруно Латура, на мой взгляд, меркнет перед Икскюлевой метафорой морского ежа как «рефлекторной республики». Но это соседствует с его теоретической доктриной, в которой действует однозначно детерминированный «план» жизни любого живого существа, в котором всё однозначно определено рефлекторными дугами и функциональными кругами, где нет ничего избыточного и, выражаясь термином классического историзма и Юка Хуэя, контингентного. Икскюль часто не прочь нарисовать нам жесткий функциональный мир живого существа, в котором нет места ничему лишнему: «Абсолютно все объекты, попадающие в сферу окружающего мира, переиначиваются и преобразуются до тех пор, пока не превратятся в носитель полезного значения, в ином случае они совершенно не принимаются в расчет». Если перенести эту теоретическую рамку в сферу политики, где кто-то, как ему кажется, знает, как в целом и в частях устроен мир живого политического организма (например, государства), то возникает большой соблазн редуцировать все ненужные «значения» до оптимального состояния «плана» его жизни, что, собственно, и делал Икскюль в своих работах по «политической биологии». Всё это, разумеется, противоречит львиной доле логики его собственных работ об окружающих мирах животных и людей. С учетом понимания этой двойственности работ Икскюля их и стоит, мне кажется, прочитывать.
В заключение я хотел бы выразить признание Беломорской биологической станции МГУ за гостеприимство, возможность вновь окунуться в живую среду биологов и доступ к библиотеке ББС. Директору биостанции – Александру Борисовичу Цетлину – отдельное спасибо за обстоятельное обсуждение вопросов, связанных с идеями и тезисами Икскюля, и нюансов жизни морского ежа, а также за новейшую литературу по биосемиотике. Возможно, Икскюль поспорил бы с нами поначалу, но окружающие миры представителей разных наук всё еще проницаемы друг для друга.
Виталий Куренной
Путешествие в окружающие миры животных и людей
Предисловие
Настоящая книжка не претендует на роль проводника в новую науку. Ее содержание можно было бы скорее назвать описанием путешествия в неизвестные миры. Миры эти не просто неизвестны, они также незримы, и, более того, многие зоологи и физиологи отказывают им даже в самом праве на существование.
Такое утверждение, которое может показаться странным всякому знатоку этих миров, становится понятным благодаря тому, что доступ к ним открыт не для каждого, и, кроме того, некоторые убеждения способны столь плотно замуровать вход в них, что ни один луч грандиозного сияния, исходящего от этих миров, порой не может пробиться сквозь запертые двери.
Желающий и впредь придерживаться убеждения, что все живые существа – лишь механизмы, утрачивает надежду когда-либо увидеть их окружающие миры (умвельты)[37].
Не разделяющий же механическую теорию живых существ пусть задумается над тем, что будет сказано ниже. Все предметы нашего обихода и машины – это не что иное, как вспомогательные средства человека. Те из них, что нужны для работы, принято называть орудиями действия, к которым относятся все большие машины, служащие на наших фабриках для переработки природных материалов, а также железные дороги, автомобили и самолеты. Наряду с ними известны и вспомогательные средства восприятия или, иными словами, инструменты восприятия, например телескопы, очки, микрофоны, радиоаппараты и т. д.
Следуя этим умозаключениям, мы можем предположить, что животное – это не что иное, как набор необходимых орудий действия и восприятия, соединенных посредством аппарата управления в нечто целое, которое, хотя и остается механизмом, способно выполнять жизненную функцию животного. В сущности, это и есть позиция всех приверженцев механистической теории – и тех, кто сравнивает животных с неподвижными механизмами, и тех, кто прибегает к их сравнению с пластическими динамизмами. Такие теоретики склонны видеть в животных лишь объекты. При этом они не обращают внимания на то, что берут за основу искаженное представление о самом главном, а именно о субъекте, который использует вспомогательные средства, воспринимает и действует благодаря им.
Посредством ирреальной конструкции комбинированного орудия восприятия и действия была предпринята попытка не только сочетать органы чувства и органы движения животных подобно частям некоей машины (не принимая во внимание их восприятие и действие), но даже более того – попытка «машинизировать» человека. С точки зрения сторонников теории поведения (бихевиористов), наши ощущения и воля – лишь видимость, в лучшем случае их предлагается рассматривать как отвлекающие посторонние шумы.
Но если мы будем придерживаться того мнения, что наши органы чувств стоят на службе нашего восприятия, а органы движения – нашей деятельности, мы будем смотреть на животных не просто как на механическую (машинальную) структуру, но обнаружим и машиниста, который встроен в эти органы так же, как мы сами в свое тело. И тогда мы станем говорить о животных не как об объектах, а как о субъектах, активность которых почти целиком состоит из восприятия и действий.
Таким образом, мы приоткрыли врата, ведущие в окружающие миры, ибо всё, что воспринимает субъект, становится его миром восприятия, а всё, что он делает, становится его миром действия. Мир восприятия и мир действия вместе образуют замкнутое единство – окружающий мир.
Окружающие миры, столь же разнообразные, как и сами животные, открывают каждому любителю природы новые земли такого богатства и такой красоты, что путешествие по ним стоит того, даже если они откроются не телесным очам, а лишь его духовному взору.
Подобное путешествие лучше всего начать в ясный день у цветущей поляны, наполненной жужжащими жуками и порхающими бабочками, и мы начнем его с того, что поместим каждого ее обитателя в умозрительный мыльный пузырь, который представляет собой их окружающий мир и наполнен всеми теми воспринимаемыми признаками[38], что доступны для субъекта. Как только мы сами попадаем в такой мыльный пузырь, окружение, простиравшееся прежде вокруг субъекта, целиком преображается. Многие свойства пестрого луга полностью исчезают, другие утрачивают свою взаимосвязь, создаются новые сочетания. В каждом мыльном пузыре возникает новый мир.
Мы предлагаем читателю настоящего путевого дневника вместе совершить странствие по этим мирам. Авторы книги так распределили работу над ней, что один (Икскюль) трудился над текстом, а другой (Крисцат) занимался иллюстрациями.
Мы надеемся, что благодаря нашим путевым заметкам удастся значительно продвинуться вперед, убедить многих читателей в реальном существовании окружающих миров и открыть новую, бесконечно богатую сферу для исследования. Также эта книга должна служить свидетельством о той творческой и дружеской атмосфере, которая объединяет сотрудников Института исследований окружающей среды в Гамбурге[39].
Наш долг мы видим в том, чтобы выразить особую благодарность доктору К. Лоренцу, приславшему нам изображения, которые поясняют его глубокие наблюдения над галками и скворцами и очень помогли нам в работе. Профессор Эггерс любезно поделился с нами текстом обстоятельного доклада о своих опытах над мотыльками. Известный акварелист Франц Хут по нашей просьбе набросал изображения комнаты и дуба. Иллюстрации 46 и 59 были исполнены Т. фон Икскюлем. Еще раз выражаю всем перечисленным мной свою глубокую благодарность.
Якоб фон Икскюль
Гамбург, декабрь 1933
Введение
Всякому сельскому жителю, часто прогуливающемуся со своей собакой по лесу и зарослям, известно крошечное существо, которое, вися на ветвях кустов, караулит свою добычу, будь то человек или зверь. После того как это существо, величина которого не достигает и двух миллиметров, низринется на жертву и напьется ее крови, оно набухает до размера горошины (илл. 1).
Хотя клещ, или иксод, не опасен, всё же для млекопитающих и людей он – нежеланный гость. Мельчайшие подробности течения его жизни так хорошо описаны в новейших работах, что в ней почти не осталось белых пятен.
Из яйца вылупляется ещё не до конца оформившееся маленькое существо, у которого пока не хватает пары лапок и половых органов. В этом состоянии клещ уже способен нападать на хладнокровных животных, например ящериц, которых он поджидает, притаившись наверху травинки. После многократных линек клещ обзаводится недостающими органами и теперь отправляется охотиться на теплокровных.
