Дакия в огне. Часть третья. Под небом Перуна
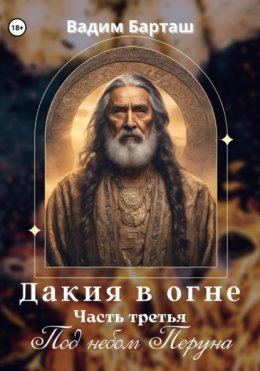
Предисловие
Рим во время Ранней империи, когда там правил Марк Ульпий Траян, гордая Дакия и встающие на ноги и набирающие силу далёкие предки славян в лице племенного союза карпов, и их ожесточённое противоборство в конце I и в начале II веков новой эры, обо всём этом и рассказывается в Третьей части моего романа «Дакия в огне».
Эта часть называется «Под небом Перуна». Причём это название у Третьей части появилось не случайно. Событий в романе много, и они нарастают стремительно. Однако происходят они не только в Дакии, но и вокруг неё.
Вкратце изложу их предысторию…
Император Марк Ульпий Траян, приняв власть из слабых рук престарелого Нервы, перебрался с Германо-Ретийского лимеса в Рим, и сразу же после этого вознамерился стереть с лица Земли царство свободолюбивых даков, которое как бы нависало над Балканскими провинциями империи и угрожало им постоянно. Однако от долгого противостояния и многочисленных военных разборок устали не только в Дакии, но и в надменном Риме. Римский Сенат категорически не хотел развязывать новую войну с северными варварами, и тогда Траян пошёл на хитрость. Он спровоцировал даков напасть на мост Аполлодора Дамаскина, и после этого перешёл со своими легионами через Дунай и развернул военные действия.
Однако и на этот раз противостояние с даками не получилось легким, ведь с легионами Рима вступили в борьбу не только Децебал и его отважные воины!
К дакам на помощь поспешили и их северные соседи, и союзники, карпы, которых возглавлял на тот момент князь Драговит. И потому Риму приходиться напрягать все свои силы и уже не в первый, и даже не во второй, а в который раз подступаться к «Дакийской твердыне», и брать её приступом.
Следует сказать, что у древних славян к тому времени наступил знаковый период в их истории, и я бы даже назвал его переломным. Это когда у них, во всяком случае у той части этих племён, которые обитали у порога Дакии, начали зарождаться первые городские центры, а вместе с ними проявлялись и зачатки государственности, и начало формироваться классовое общество. Из вождей, старейшин и их приближённых уже выделилась устойчивая верхушка общества, и более того появились даже князья.
А потому, тот же племенной союз карпов, располагавшийся в верховьях Днестра, к I – II в.в. новой эры уже вполне можно было бы считать ранним государственным образованием, хотя и находившимся ещё в стадии формирования.
Вот об этом одном из самых первых протогосударств, возникших у праславян, в основном и пойдёт речь в Третьей части исторического романа «Дакия в огне».
И так…
105-106 г.г. новой эры.
Область к северо-востоку от Карпских гор (нынешние Карпаты).
Верховья Данастрия (нынешний Днестр).
Укреплённое поселение Тамасидава (позже уличи его переименуют в Пересечень).
Часть третья
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Читатель, сообщу заранее, что я буду вынужден в своём повествовании по времени вернуться несколько назад, и ты вскоре поймёшь причину этого…
Заканчивался месяц червень (по нынешнему календарю – это июнь). Тамасидава вновь была взбудоражена. На этот раз из-за прибытия в город гостей от роксоланов, и прежде всего из-за дочери их Верховного вождя.
Савлея была не только голубоглазой красавицей c пышными русыми волосами, но и ещё упёртой во всём. В том числе и в проявлении своих чувств. И если уж она что-то решила, то переубедить её уже не было никакой возможности. Фарзон это знал прекрасно, и, хотя поначалу он и пытался увиливать и не желал давать своего согласия на заключение этого брака, но, в конечном итоге, это ни к чему не могло привести. Верховный вождь роксоланов это хорошо понимал. «Ну вся в неукротимую свою мать, в Дандамию,» – вздохнул Верховный вождь, и уже вслух добавил:
– А-а-а! Да пусть всё будет, как будет! Клянусь священным огнём, я что мог сделал! Но высшие силы захотели иного… И им противостоять у меня нет ни сил, ни желания.
Так в очередной раз Савлея добилась своей цели.
А тут ещё следует сказать, что у праславян не запрещалось вступать в любовную связь до заключения брака, это никак ими не порицалось, ну и нравы у наших предков в этой области были намного свободнее, чем в Средние века, когда они отринули язычество и перешли в христианство, тем более эти нравы были раскрепощенными у роксоланов, у которых до сих пор женщины сохраняли многие права и привилегии, и их нельзя было в чём-либо ограничивать, и потому ещё до того, как Воислав и Савлея сыграли свадьбу, они уже зажили вместе.
Драговит для Воислава и Савлеи выделил целое крыло в своих палатах, и велел до свадьбы их не тревожить. И это было благоразумно. Потому что молодые в первые дни не покидали своего ложа сутками, и никак не могли насытиться друг другом. Им даже еду и напитки приносили к закрытым дверям, и там их деликатно оставляли.
А между тем подготовка к свадьбе шла своим чередом.
Поначалу Драговит хотел её перенести на время по завершению похода в Дакию, но Вирута убедила его, что этого ни в коем случае не стоит делать.
– Пойми же, дорогой, – обратилась к князю она, – нам очень важно заручиться поддержкой Фарзона и его роксоланов, а для этого надо как можно скорее породниться с ним! Так что свадьбу ни в коем случае не переноси на потом. После свадьбы роксоланы окончательно и бесповоротно встанут на нашу сторону!
И Драговит согласился с доводами супруги. Она как всегда была мудра и многое предвидела.
***
А что же жених…
Про Воислава нельзя было сказать, что он являлся каким-то тихоней и упорно избегал всех девушек. Совсем нет! Девушки у Воислава появились лет с семнадцати. По очереди он встречался с несколькими соплеменницами, пусть это и делали они не сильно то и таясь, и по обоюдному желанию, но никому Воислав не обещал, что непременно женится. Однако одна из них очень уж хотела выйти замуж за Воислава.
Это была племянница воеводы Ратибора.
Родослава была дочерью сестры уличского воеводы. Она была под стать Савлеи, но чуть помладше её. Ей было неполных восемнадцать лет. И она страстно влюбилась в старшего сына князя, и поэтому известие о его свадьбе с роксоланкой её не могло не огорчить. Но она ещё надеялась стать со временем если и не первой, то хотя бы его второй супругой (у древних славян не запрещалось иметь несколько жён, при условии, что в таком случае мужчина должен был быть не бедным, и мог их всех достойно содержать).
Родослава попыталась воспользоваться тем, что как раз наступил праздник летнего солнцестояния и который назывался Ярилиным днём или Купалой, а это был главный летний праздник у праславян, который особенно любила молодёжь. В этот праздник босоногие и простоволосые юноши и девушки отрывались во всю, и никто их не мог удержать.
Они плели венки, совместно водили весёлые хороводы, пели, прыгали через разведённые костры, чтобы очистить себя, и совершали омовения в различных водных источниках.
Праздник длился на протяжении нескольких дней, и племянница воеводы надеялась, что Воислав не удержится и примет участие в нём, и уж тогда-то она его выследит и поговорит с ним наедине.
И вот на пятый день по прибытию Савлеи в Тамасидаву, Родослава застала старшего сына князя на берегу Данастрия, когда он оставил свою роксоланку и со сверстниками во всю веселился и прыгал через самый большой костёр.
Родослава подбежала к старшему сыну князя, одела на него заранее сплетённый ею венок и, ухватив Воислава за руку, увлекла его вниз, к реке.
Там не сговариваясь и беззаботно смеясь, они полностью разделись и бросились в воду. Когда же они вышли из воды, Родослава вновь схватила княжича за руку и увлекла его в разросшиеся кусты, и уже там…
Она всё точно рассчитала.
Там, в разросшихся кустах, между ними случилось то, чего девушка и добивалась. Воислав не долго сопротивлялся. И уже через некоторое время, как и прежде, с ней занялся любовью.
Родослава пол ночи не давала покоя княжичу. Она как никогда была страстна и раз за разом разжигала страсть и в Воиславе. А надо ещё заметить, что наши предки в любви были очень раскрепощёнными, и их желания и фантазии ничто не сдерживало. Для них не существовало никаких запретов в этой области. В отличии от более поздних времён. Но когда они оба подустали и разъединились, девушка, помолчав некоторое время, обратилась к возлюбленному:
– А скажи: кто лучше? Я или… она?
– Ну а зачем тебе это знать? – ушёл от ответа Воислав. – Вы обе хороши… Я не хочу вас сравнивать. За-ачем?
– А-а-ах та-ак?! Ну тогда и меня возьми в жёны! – разгорячённо произнесла Родослава, и вновь она прильнула всем телом к возлюбленному. – Я согласна стать твоей даже второй женой!
Но на этот раз он не захотел близости и резко отстранился от Родославы.
– Ну, почему?! Почему?! – сорвалась и чуть ли не закричала племянница воеводы. – Что тебе мешает завести помимо роксоланки через некоторое время и вторую жену? Ты же не простой вой, ты даже не воевода, а – княжич! Ты рано или поздно станешь князем и будешь во главе всех нас! Или она тебе не разрешает? Эта своенравная роксоланка?!
Воислав молча оделся и удалился, а Родослава вслед ему горько разрыдалась.
***
Я уже рассказывал, что избушка старой ведьмы Семаргалы располагалась на краю почти что непроходимых и весьма обширных болот, и потому её редко кто осмеливался посещать. Даже дикие звери, казалось, её обходили стороной.
Старуха Семаргала c раннего утра была очень занята, она варила различные снадобья и отвары, и, изрядно утомившись, сейчас отдыхала на печке, когда услышала бешенный лай своих бойцовских мастифов.
Псы её просто надрывались.
– Э-э-э, кого это не лёгкая там принесла? – проворчала старая ведунья, и кряхтя и охая стала слазить с печи. Но вот она, наконец-то, сползла, обулась в онучи, которые носила даже в летнюю и жаркую пору, и прошла к дверям. Поднявшись на верх, она увидела в отдалении всадников. Старуха прикрыла ладонью глаза, что бы её не ослепляло полуденное яркое солнце, и сильно прищурилась:
– Кто вы?! Что вам надо, залётные?! – прокричала старая.
– Да это же я!.. – в ответ ей закричал старейшина рода Дулёб Хвалимир.
– А-а-а! Это ты, красавчик… – старуха успокоила своих громадных и очень свирепых четвероногих охранников, которые могли разорвать любого, и даже вооружённого и крепкого мужчину.
Опасливо косясь на мастифов, Хвалимир бочком прошёл вслед за старухой в её убогую и вросшую в землю избу.
– Ну что у тебя за дело ко мне? – спросила Семаргала старейшину.
Хвалимир насупился и ответил:
– Помощь нужна…
– Ну, что ж, выкладывай…
– Так и ничего не получилось с сарматами.
– Да я уж об этом наслышана, – кивнула головой старая ведьма.
– Ну и что теперь мне делать? – беспомощно развёл руками старейшина рода Дулёб.
– Дай подумать… Мне надо всё хорошенько, хо-орошенечко обдумать… – откликнулась Семаргала.
Она велела своей помощнице пока что принести прошлогодней медовухи, которая была особенно крепкой. Хвалимир её выпил почти что залпом, крякнул от удовольствия и вытер пятернёй рыжеватую с проседью бороду и усы.
Наконец, Семаргала нарушила напряжённое молчание и заговорщически произнесла:
– Я думаю, у тебя ещё не всё потеряно, Хвалимир, и ты можешь добиться того, что задумал, но для этого… Ты должен для этого на кое-что решиться…
– Говори, что я должен сделать?! – нетерпеливо переспросил Хвалимир. – Я готов на всё!
– Тебе следует на предстоящей свадьбе отравить… сарматку.
– Дочь Фарзона?!
– Ну, да!
Хвалимир нервно почесал висок:
– А что? А по-другому никак нельзя?
– Нет, нельзя!
– И что мне это даст?
Старая ведьма стала старейшине рода Дулёб обстоятельно объяснять:
– Фарзон очень дорожит своей единственной дочерью, и если она на свадьбе будет отравлена, то он не станет разбираться, кто прав, а кто виноват, и сразу же начнёт мстить князю Драговиту… Ты понял, наконец-то, что я предлагаю?
Хвалимир не долго раздумывал над предложением старой ведьмы и согласился уже вскоре.
– Готовь яд! – произнёс он. – Ты права!
– А у тебя есть человек, который сможет этот яд подсыпать роксоланке прямо на её свадьбе? – переспросила Семаргала.
Хвалимир вновь почесал висок, уже нервно, затем бороду, и, наконец-то, произнёс:
– Я-я-а… я найду такого человека.
– Он надёжный?
– За него не сомневайся!
О цене Хвалимир с Семаргалой быстро столковались.
***
Вот и настал день долгожданной свадьбы Воислава и роксоланки Савлеи. День для свадьбы был подходящий, потому что именно в это время карпы больше всего их и играли.
И вновь вся Тамасидава не осталась в стороне и гуляла.
Драговит и Вирута были не меньше рады этому торжеству, чем виновники его. Князь угощал буквально всех горожан. Да и благо ещё с прошлого торжественного пира столы так и не успели разобрать. Но помимо этих длинных столов на главной площади перед княжеским теремом были поставлены и с два десятка качелей, вокруг которых вилась молодежь, и слышался ни на мгновение несмолкаемый её смех. Молодёжь веселилась не только днём, но и всю ночь. И никто её из старших не одёргивал.
Отца Савлеи на этом торжестве представлял Тагасий. Он не сразу согласился ехать в Тамасидаву, однако Фарзон настоял, чтобы именно старший сын заменял его. И теперь Тагасий повсюду сопровождал свою сестру. Но по его неулыбчивому и даже мрачному облику было видно, что эта церемония не слишком то старшего сына Фарзона и радовала. И что он не очень-то и доволен был приобретению среди карпов новых родственников в лице князя и его семьи. Тагасий считал, что зря его отец пошёл на разрыв с римлянами, и из-за Савлеи вновь вступил в союзнические отношения с карпами. Наследник Фарзона искренне полагал, что предпочтительнее дружить было с Траяном.
Все предварительные обряды были до мелочей соблюдены, в том числе и на капище Перуна, где жрец Богумил и его помощники провели жертвоприношения, и вечером, на самый последний день Купалы, в княжеских палатах зажглись десятки факелов, и начался свадебный пир. Во главе стола усадили молодожёнов. Они, облачённые в праздничные белые одежды и с венками на головах, принимали поздравления. А по левую и правую руку от брачующихся восседали их родственники, включая князя Драговита и его супругу.
Задействованы были сразу несколько оркестров. Музыка не смолкала. Звучала она очень громко, иногда даже заглушая застольные разговоры. Но помимо гусляров, флейтистов, тамбуристов и прочих музыкантов, развлекали собравшихся гостей и скоморохи.
Скоморохи себя вели иногда совсем уж развязно, задирая многих гостей, и даже князю и молодожёнам от них доставалось. Их шуточки порой казались совсем откровенными и скабрезными. Но на них мало кто обращал внимание. А один из скоморохов привёл с собой годовалого медвежонка, и тот на потеху всем отплясывал на задних лапах и настырно выпрашивал пряники.
Столы ломились от различных яств. Тут было кажется всё, что только пожелаешь! Были медовуха, пиво, ну и греческое вино, которое сейчас лились рекой.
Вскоре начали жениху и невесте преподносить подарки.
Эту особенно торжественную церемонию по традиции возглавили родители брачующихся.
Князь сделал царский подарок. Он одарил молодожёнов целым уделом с центром в Пироборидаве, только что отстроенном и укреплённом городище, располагавшемся примерно в тридцати верстах от столицы карпов, а Верховный вождь роксоланов дал целый табун превосходных скакунов и пятьдесят тысяч римских золотых ауреусов в придачу. Остальные подарки были разумеется поскромнее и попроще.
Когда преподносились подарки, даритель вставал и принимал чашу с медовухой, которую он должен был выпить до дна. Настал черёд преподнести подарок воеводе Ратибору и его родственникам. Ратибор вышел из-за стола, а за ним последовали его супруга, его дети, и семья его сестры, здесь же находилась и необычно бледная Родослава, совсем недавно отвергнутая Воиславом.
Воевода поздравил молодожёнов, пожелал им многих лет совместной счастливой жизни и кучу отпрысков, и объявил, что их семья дарит Воиславу и Савлеи пару парфянских ковров и римские доспехи старшему сыну князя. От сестры Ратибора преподносились римская посуда: бронзовые чаши и кубки, а также сосуды, очень красиво расписанные греческими искусными мастерами.
В самый разгар свадебного пира, уже далеко за полночь, Родослава решилась и, встав со своего места, подошла к невесте.
– Дорогая невестушка, – произнесла вкрадчиво Родослава, – ты сегодня неподражаема! Ты так…ты та-акая замечательная и… и та-акая… та-акая красивая! Ты прямо настоящая богиня! Я очень рада за тебя! И я хочу стать твоей подружкой…Ты согласишься?
Савлея благосклонно заулыбалась в ответ.
Родослава протянула Савлеи чашу с вином и добавила:
– Давай выпьем с тобой! Ну давай же за тебя выпьем, дорогая невестушка! Наша ты несравненная пава! И пусть Лада укроет тебя своим крылом!
– И за нашу дружбу! – ответила Родославе дочь Фарзона.
Родослава совсем стала бледной и просто впилась взглядом в роксоланку, когда та пила из преподнесённой чаши вино. Но вот чаша была Савлеей не сразу, но всё-таки осушена.
Родослава и Савлея обнялись и троекратно расцеловались.
– Теперь мы с тобой стали самыми близкими подружками! – произнесла вся светившаяся от счастья дочь роксоланского Верховного вождя.
Человек, который преподнёс Родославе яд от Хвалимира, пообещал племяннице воеводы, что он не сразу подействует. И Родославу вряд ли заподозрят в совершаемом преступлении. Яд должен был подействовать только через несколько часов, под самое утро.
И Родослава уже ни о чём не могла думать, и только со стороны внимательно наблюдала за роксоланкой, желая увидеть какие-то изменения в её поведении. Но шло время, час за часом, а Савлея не менялась, и только постепенно чуть пьянела и становилась всё более весёлой.
И вот под самое утро молодожёны покинули гостей и уединились в своих покоях. Им пожелали до утра не спать.
Ну а к вечеру следующего дня, по-прежнему радостные и счастливые, они появились перед всеми гостями, чтобы вновь присутствовать на своей свадьбе.
При виде обоих молодожёнов, Родослава едва не лишилась чувств.
Почему всё так случилось? И почему же роксоланка выжила и не испустила дух от яда старой ведьмы?
Да потому, что племянница воеводы просто не знала, что немая помощница старой ведьмы Семаргалы подменила порошок с ядом, и этим самым спасла дочь Фарзона от верной гибели.
ГЛАВА ВТОРАЯ
После переправы через Данувий и пересечения имперской границы у Квиета не было ни одного спокойного дня. Трибун постоянно недосыпал, нервничал и всё время находился в каком-то напряжении. Он до сих пор не знал, что творилось на Юге и в Центральной части Дакийского царства, велись ли там уже ожесточённые бои или пока всё развивалось ни шатко, ни валко, но приказ от Божественного получен и его следовало выполнять, причём неукоснительно и любой ценой.
Траян всё продумал и рассчитал. Всё-таки он незаурядный стратег! Он был умным, талантливым и всё, что касалось военного дела, то ещё и необыкновенно прозорливым! В общем, как многие считали, он был гением! И в это уже искренне уверовали не только римляне.
И вот потому номерная когорта VIII Ульпиева, под командованием новоиспечённого трибуна Лузия Квиета (в составе шести конных ал), продолжала исполнять, казалось бы, на первый взгляд совершенно безумный его приказ и упорно двигалась по труднодоступному высокогорью в глубоком вражеском тылу, но она уже продвигалась днём.
А ещё когорта Квиета далеко оторвалась от римских опорных баз и подвергалась постоянному риску быть обнаруженной и окружённой даками.
***
Когорта прошла за последние дни не малое расстояние и приближалась к местности, которая получила название Дакия Поролиссенсия. Это была обширная область так называемых северных или свободных даков, которые имели полунезависимый статус. Здесь обитало смешанное население, и даки давно уже перемешивались с приходившими к ним из-за Карпских гор иноплеменниками: чаще всего это были бастарны, пиквины, роксоланы, ну и те же карпы. Карпы за Горой селились целыми родами, потому что здесь земля была изобильной.
Центром этой области был довольно-таки крупный город Поролис, население которого составляло двадцать тысяч человек, а где-то ещё севернее его, в окрестностях крепости Альбурн, к когорте должен был присоединиться и второй проводник. И вот к этому условленному месту Квиет и его воины сейчас и приближались.
Квиет запомнил, что новый проводник должен был их уже в этом месте, наверное, дожидаться, и в качестве пароля обязан был предъявить асс, то есть половинку мелкой медной монеты. А первая половинка этой римской монеты была передана Лонгином трибуну при их расставании у переправы через Данувий.
Трибун не торопясь обходил воинов, которые сделали привал и сейчас отдыхали, после продолжительного перехода по горам. Он осматривал их и заговаривал с некоторыми. Так он спрашивал: не сбиты-ли копыта у коней, не голодны ли всадники, не ослаб ли кто или не захворал, и кого может что-то беспокоит, а также иногда шутил и отвечал на вопросы, которые ему задавались.
Один из воинов, который являлся декурионом и только недавно стал заместителем Цельзия, и теперь командовал его алой, пожаловался, что в дакийском высокогорье воздух уж сильно разряжён и ему с непривычки не то что передвигаться, а трудно даже дышать. Квиет тут же подсказал этому бывшему декуриону, а теперь уже префекту, как себя вести при таком разряжённом воздухе. В общем он сейчас как мог своих воинов успокаивал, просил их набраться терпения и обещал им, что вскоре станет немного полегче.
Отдельно он остановился у того места, где расположился Масинисса.
Масинисса, при появлении трибуна, тут же вскочил с земли.
– Ну что, как твоя нога? – спросил Квиет у приёмного сына. – Не беспокоит?
– Всё выправилось… – ответил Масинисса. – Уже вторую неделю не использую мазь. Нога восстановилась у меня и нисколько не тревожит теперь.
– Совсем?
– Ну, да. Про боль забыл. Даже могу, не хромая, ходить! – И Масинисса попытался продемонстрировать трибуну, как он уверенно и свободно ходит.
Но Квиет тут же попридержал приёмного сына:
– Верю, верю! Не показывай, а лучше отдыхай…
И Лузий прошёл дальше.
Обойдя так всю временную стоянку когорты, трибун вызвал к себе Гиемпсала, командира разведчиков.
Гиемпсал перед Квиетом вырос, как из-под земли.
На этот раз Квиет не стал придираться к мужу приёмной дочери. Он был в доспехах и спрятал свой нательный крестик, который некоторых воинов из когорты, ярых язычников, раздражал.
– Ну что мне скажешь? – обратился к Гиемпсалу Квиет. – Завтра сможем дальше продвигаться? Ничто нам не должно вроде бы помешать?
– Всё спокойно, трибун! Не переживай, ничего нам не мешает. Путь по-прежнему свободен, – ответил Гиемпсал.
– И даков никаких поблизости не видно?!
– Пока их в этой округе мы не встречали. Мы даже здесь не сталкивались с одиночными пастухами. Всё тихо. Как будто вымершая земля!
– Ну, ну… А, впрочем, это нам и на руку! Получается, что мы до сих пор не выдали своего присутствия… – согласился со своим командиром разведчиков трибун, и продолжил, – но я вот что хотел тебе сказать… – Завтра, с рассветом, отправь-ка вниз, в сторону крепости Альбурн, которая располагается по правую руку от нашего движения, и у подножия этого хребта, самых опытных своих людей, достаточно будет двоих, и они должны на дорожной развилке в трёх милях от крепости встретить человека с посохом и с половинкой медного асса. Вторая половинка его у меня… Вот она, взгляни на неё! – и трибун передал Гиемпсалу свою половинку мелкой римской монетки.
Гиемпсал повертел эту монетку в руках, осмотрел её придирчиво, и затем переспросил:
– А как мы этого человека узнаем?
– Э-э-э! Его не надо вам узнавать.
– Как же так?!
– Отвечаю: он сам должен вас увидеть и распознать. Только для этого… надо кое-что сделать… Выбери нумидийцев, причём таких, у которых кожа, как и у тебя, посветлее будет. Чтобы они походили внешне на даков. И пусть выбранные тобой нумидийцы, Гиемпсал, повяжут головы ещё и платками.
– Че-е-ем? Платками?!
– Вот именно!
– А зачем?
– Не перебивай! Платки у нумидийцев должны быть обязательно белыми. На манер… ну, знаешь, как это делают иберийские разбойники и пираты. Или как будто им стало вдруг жарко. Да-а-а, и, конечно, чтобы себя не выдать, они должны снять доспехи. И накинуть варварские куртки и штаны. Тебе всё понятно?
Гиемпсал кивнул головой.
– Ну тогда исполняй! – и Квиет махнул рукой. – Олимпийцы тебе будут в помощь! И пусть твои люди будут оч-чень осторожны…
***
Затем настала очередь Ореста. После разговора с Гиемпсалом трибун вызвал к себе его.
Когда дак появился, Квиет тут же увёл его в сторону от посторонних глаз.
Они уселись в некотором отдалении от их временной стоянки. При этом они примостились прямо на земле или вернее на двух валунах.
Орест как всегда был задумчив и отводил взгляд. Лузий несколько нервно откашлялся. Его этот вопрос занимал все последние дни, он не выходил у него из головы, и поэтому трибун не выдержал и прямо спросил у перебежчика:
– А вот скажи… Ты сам-то знаешь дорогу до нужного нам перевала?
– К которому мы идём?
– Ну, да. Осталось ведь до этого перевала не так уж и много.
– Дорогу до него я знаю, трибун.
– Ну и насколько хорошо она тебе знакома?
– Более-менее.
– Ты часто по ней проходил?
– Наверное, раз десять…Не меньше!
– Хм-м… Ну а то-о-огда… Тогда вот что мне объясни… А зачем нам понадобился ещё один проводник? А-а?
– Мне известна только длинная дорога, которая проходит намного ниже… уже в предгорьях, – стал пояснять перебежчик. – И я могу провести вас лишь только по ней. Но она для вас небезопасна. Поэтому, насколько я понял, и нужен вам второй проводник. Он проведёт когорту скрытно и тайной тропой. О которой почти никто даже из местных не знает. И проведёт по самой кромке этого высокогорья. Где мы вряд ли с кем-нибудь ещё столкнёмся…
– А-а-ах во-о-от значит для чего понадобился второй проводник…– удовлетворился ответом Ореста Квиет. Для него всё, наконец-то, в этом вопросе прояснилось.
– Да, для этого, трибун! – подытожил свои слова перебежчик.
– Ну, ну, хорошо… А сколько нам до нужного перевала тогда осталось идти? – попытался уточниться Квиет.
– Я могу лишь сказать примерно.
– Ну, хотя бы…
– Ду-у-умаю… это займёт ещё неделю… Ну, может… неделю с небольшим.
К вечеру следующего дня разведчики Гиемпсала привели второго проводника, который их дожидался уже в окрестностях Альбурна.
Однако это был уже не дак, а северный варвар. И это оказался не бастарн, не костобок, а самый настоящий карп.
***
Гиемпсал этого проводника подвёл к трибуну.
Квиет внимательно осмотрел его. Взгляды трибуна и второго проводника встретились. И эти взгляды были оценивающие. Трибун осмотрел карпа буквально с ног до головы.
Этот карп был не слишком старым. Кажется, ему едва ли перевалило за тридцать пять. Он и по облачению, и внешне очень походил на ту троицу, которую воины Квиета захватили сразу после переправы через Данувий.
Карпа этого звали Жданом, и он был из племени уличей. А ещё точнее, это был доверенный человек старейшины рода Дулёб. То есть, получается второй проводник подчинялся Хвалимиру, а значит и послан был к римлянам именно этим старейшиной. Впрочем, то, что Хвалимиру каким-то образом удалось связываться уже не только с роксоланами, но и договариваться напрямую с римлянами, чьи земли располагались за сотни миль от Данастрия, этого Драговит ещё не знал. А старейшина рода Дулёб развернул такую бурную деятельность, что уже вовсю пытался завязывать контакты с Южной империей за спиной князя.
Тут же появился несколько запыхавшийся Орест. Он с ходу стал переводить.
Квиет через Ореста спросил у второго проводника:
– А скажи, насколько трудна будет дорога до нужного нам перевала?
– Дорога будет не из лёгких, – подтвердил предположения трибуна этот самый Ждан. – Особенно для ваших коней… В некоторых случаях будем двигаться спешившись, и совсем уж медленно. Почти на ощупь, ну то есть гуськом.
– Г-гу-у-у… гуськом? Хм-м…А это как?
– Это- по одному! Чтобы не сорваться в пропасти. Торопиться не стоит. И потому добраться мы сможем до перевала, если нам ничто не помешает, не раньше, чем через восемь-девять дней…
– Мда-а-а…Я понял! Слу-ушай, а как я вижу, ты же не дак? – напрямую спросил второго проводника Квиет.
– Да, я не дак, – ответил тот.
– И лучше всех знаешь это безлюдное высокогорье… От чего оно тебе так хорошо известно? – заинтересовался трибун.
– Потому что я прожил здесь не один год, – ответил карп. – Ведь моя мать была коренной дакийкой. Она – из дакиек горянок. И родом из этих самых мест.
Квиет кивнул головой:
– Теперь понятно…
Трибун ещё кое о чём расспросил Ждана и хотел его уже отпустить, но тот почему-то замешкался, переступил с ноги на ногу, и, наконец, через Ореста всё-таки в свою очередь задал Квиету вопрос:
– Проводник спрашивает тебя, трибун: а что, в твоём отряде ещё есть соплеменники Ждана?
Квиет утвердительно кивнул головой.
Тогда посланный Хвалимиром проводник ещё спросил: а можно ли этих карпов увидеть, и с ними пообщаться? А также выяснить, как они оказались столь далеко от своего дома?
– Увидеть их? Ну, почему же, это мо-ожно… – согласился трибун. И тут же он велел тех трёх карпов, которых воины Квиета захватили сразу после переправы через Данувий, привести.
Квиет уже стал терять терпение, когда появился Гиемпсал. Командир разведчиков VIII Ульпиевой когорты был явно чем-то взволнован.
Подойдя к Квиету, он инстинктивно оглянулся по сторонам и как можно тише произнёс:
– Трибун, случилось непредвиденное…
– Что произошло?
– Северных варваров, которых мы пленили, нет. Они пропали…
– Как нет? Что-о-о?!! – лицо у Квиета от услышанного невольно вытянулось. – Они что, сбежали?!! Ко-о-огда?!
***
Вскоре выяснилось, что карпская троица, незаметно освободилась от пут и перехитрив свою охрану, состоявшую всего из двух воинов нумидийцев, сбежала.
Квиет распорядился за сбежавшими немедленно выслать погоню, но это не дало никакого результата. Сбежавшие карпы, как в воду канули. Что было не трудно сделать в высокогорной местности, если ты тем более эту местность знаешь лучше, чем твои преследователи.
Провинившихся двух охранников нумидийцев, заснувших на своём посту, следовало бы наказать, а по законам военного времени, так и вовсе не церемониться с ними и казнить, но Квиет сжалился над этими нерадивыми охранниками, и велел ограничиться десятью палочными ударами.
Квиет вызвал к себе второго проводника.
Со Жданом появился и Орест.
Трибун спросил через дака у карпа:
– А ты видел тех троих, которые от нас сумели сбежать?
– Мельком… Да и то, только из дали…
– Ты кого-нибудь из них признал? Скажи мне прямо!
– Ка-аже-ется…
– А если точнее?
– Узнал. Да, да! Я узнал одного из них.
– И что тогда скажешь?
– Могу сказать, что это были не поселяне… И появились они в этих местах совсем не случайно. По-о… по-мо-оему… это были лазутчики. Клянусь молниями Перуна! И пусть свидетелями моих слов станут Хорс и Сварог!
– Ла-азутчики, говоришь?!
– Совершенно верно!
– И кем они посланы?
– Я так думаю, что их послал побратим дакийского царя Децебала…
– Кто?!
– Я имею ввиду карпского князя…
– Конязя?
– Ну, да, это карпский правитель. И этого правителя зовут Драговитом. Он и должен на выручку дакам привести воинов, собранных из множества северных племён.
Услышав это имя, Квиет сразу же помрачнел.
Бывший гладиатор Квиет понял, что совершил непростительную ошибку, когда оставил пленённым карпам жизнь. Но теперь уже ничего нельзя было исправить.
***
VIII Ульпиева когорта приближалась к северной границе Дакийского царства. Пройдено ею было без малого несколько сот римских миль.
К концу подходил восьмой день продвижения этой когорты, после того как её повёл не Орест, а второй проводник, уже карп по имени Ждан. Оставалось совершить ещё один бросок и к вечеру следующего дня когорта должна была достичь долгожданной цели, подойти к намеченному перевалу.
Квиет приказал Гиемпсалу обследовать подступы к перевалу Орлиному, и его разведчики, только лишь на востоке забрезжили первые лучи встававшего из-за вершин солнца, снялись со стоянки и выдвинулись на север. Немного погодя снялась с временной стоянки и уже вся когорта, и двинулась тоже на север, к конечному пункту своего продвижения.
К полудню разведчики вернулись и сообщили, что перевал занят.
– Кем?! – удивился трибун Квиет.
– Кажется его заняли даки, – ответил Гиемпсал.
– А сколько их? Много? – встревоженно переспросил Квиет.
– Ну, наверное, сотни две будет, – ответил командир разведчиков. – Говорю примерно… На глаз их определял.
Лузий Квиет тут же приостановил продвижение когорты и спешно вызвал к себе Ореста. Когда тот появился, Квиет его тут же спросил:
– Что скажешь?
– А что такое?
– Нас опередили? Как могло такое случится? Кто-то Децебала предупредил? Или нас всё же даки выследили?
Орест немного подумал и затем произнёс:
– Не думаю, трибун. Мне, кажется, что царь просто сделал это из обычной предосторожности. И потому он повелел Пирусту, вождю племени Северных дайесов, взять под охрану этот проход, ведь он находится на территории этого племени. На всякий случай. И воины Пируста его будут охранять до подхода карпов и прочих союзников Децебала.
Квиет призвал к себе префектов ал и Гиемпсала, и стал с ними обсуждать сложившееся положение. Ему понадобилось со своими младшими офицерами посоветоваться.
Все префекты ал VIII Ульпиевой номерной когорты сошлись в едином мнение, что необходимо выбить охрану даков из Орлиного. До того, как сюда подойдут многочисленные отряды северных варваров.
И напасть на даков было намечено на раннее утро уже следующего дня.
***
Даков, которым поручили охранять перевал, оказалось действительно немного. Не больше двух-двух с половиной сотен. Они расположились у выхода из ущелья. Здесь они устроили свой небольшой лагерь и поставили палатки.
В центре их лагеря на высоком шесте развевалось знамя. Разноцветное и яркое, и для римлян очень необычное. Во всяком случае, Квиет такое раньше никогда не видел. Я опишу его…
Оно было выполнено не в виде привычного полотна, а в виде дракона, надувавшегося под потоком воздуха. Голова этого дракона была полая и в неё была вставлена трубка. И если ветер вдруг усиливался, то этот дракон начинал оживать и издавать свист. Временами этот свист был очень неприятным.
Дракон являлся едва ли не главным символом Дакии, причём с самой глубокой древности. По крайней мере он им считался уже при первых правителях этого народа, и тот же Замолксис ему покровительствовал.
Было видно, что даки собирались находиться у перевала Орлиного не один день.
Квиет в сопровождении Гиемпсала, Ореста и Ждана подобрались как можно ближе к расположению даков, и стали из надёжного укрытия наблюдать за ними.
– Насколько я вижу, у них выставлено всего двое дозорных, – произнёс Квиет. – Это мало… Они что, не опасаются нападения?
– А-а-а, не-ет, во-он, ещё двоих я вижу, – возразил Гиемпсал, и указал глазами ещё на двоих дозорных, которые находились в отдалении от лагеря и тоже бодрствовали.
– И в стороне, чуть-чуть левее, ещё трое… – добавил Орест.
– А я их сразу и не увидел, – согласился с перебежчиком-даком Гиемпсал.
Квиет ещё раз окинул взглядом расположение даков, ему сейчас было необходимо всё тщательнейшим образом оценить.
– Вначале спешимся, затем уберём их дозорных, и только потом нападём. Причём разом. И со всех четырёх сторон, – высказал своё мнение трибун. И тут же пояснил: – Чтобы ни один дак от наших мечей не ушёл!
Квиет, Гиемпсал и проводники осторожно отползли от укрытия и направились к своим.
Через примерно час когорта рассредоточилась и напала на даков. Но прежде разведчики Гиемпсала устранили дозорных. Да так ловко и бесшумно это им удалось сделать, что те даже не успели подать сигнала тревоги.
Пронзительно зазвучали тубы. Ну и затем раздалось…
– Ба-а-ар-р-ра!
– Ба-а-ар-р-ра-а!!!
– Ба-а-ар-р-ра-а-а!!!
Эти воинственные и подбадривающие крики раздались сразу с четырёх сторон, и горное эхо их подхватило, многократно усилило и разнесло по всей округе.
Это был воинский клич, к которому привыкли уже и перегрины. И который использовался только в римской армии и в подразделениях её ближайших союзников. Он должен был привести в смятение и ужас противника. А подражал он рёву взбешённых слонов, и начали его использовать римляне со времени их борьбы с Ганнибалом.
Воины когорты действовали слажено и в едином порыве.
Даки, ещё до конца не отошли ото сна и хватаясь за оружие, выбегали из своих палаток и сразу же попадали под копья и мечи нападавших на них негров, нумидийцев и мавретанцев, выросших как из-под земли. А ещё, к тому же, налетевших на них неожиданно и со всех сторон.
Квиет отдал приказ никого из даков не жалеть.
В итоге схватка продлилась не больше трёх часов, и уже вскоре с охраной перевала было покончено.
К трибуну подвели раненого сотника даков, которого нападавшие не стали добивать, и который по всей видимости и командовал отрядом, охранявшим перевал.
Разгорячённый ещё ожесточённой битвой, и получивший шрам на щеке, Кварт ударил сотника палкой по ногам и заставил встать на колени.
Квиет пленённого дака спросил:
– Когда появятся здесь отряды карпов и их союзников?
– Не спрашивайте! Я ничего не знаю… А если бы и знал, то ничего бы не сказал! – ответил хмурый сотник.
Квиет так ничего и не добился от пленного и, разгневанный, велел его отвести в сторону и зарубить.
Понимая, что в случае чего, даки никого из них не пощадят, трибун решил пленных больше не брать.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
После того, как бывший гладиатор Лузий Квиет, на протяжении короткого времени дважды спас Марка Ульпия Траяна от верной гибели, они сблизились и стали друзьями. Тогдашний наместник Верхней Германии Траян, уже намеревался присвоить другу более высокое воинское звание, а перед этим дать даже гражданство, но сенаторы в Риме не захотели прислушиваться к его рекомендации и утверждать это решение, и прежде всего потому, что друг Траяна был не белым, а всего лишь чернокожим, а такого ещё не случалось в Римской истории, чтобы какой-то там презренный негр, какой-то выскочка с необычным цветом кожи, уроженец глубинной Ливии, да ещё и бывший бесправный раб, занимал бы высокое звание в имперской армии. Это решение Траяна сенаторы единодушно высмеяли.
Траяну пришлось смириться с отказом и проглотить нанесённую ему заносчивыми патрициями хлёсткую пощёчину. Получается, что сенаторы его ни во что не ставили.
Ну а когда неожиданно для всех в Сенате выбор Нервы пал на проконсула Траяна, и тот стал его соправителем, то испанец вновь выразил желание отметить Квиета, но на этот раз уже сам Лузий не пожелал получать довольно-таки щедрый подарок от внезапно возвысившегося друга. Он отверг предложение нового правителя необъятной империи стать трибуном, а впоследствии возглавить легион.
Их предпоследнюю встречу с принцепсом Траяном Лузий до сих пор вспоминал…
***
Какое-то время, после того, как Траян стал соправителем престарелого императора Нервы, он оставался в Германии и продолжал наводить на Северо-Западной границе порядок. Однако, когда совсем одряхлевший Нерва переселился из Палатия в лучший из миров, и удостоился общения с самим Юпитером Громовержцем, Траян вынужденно засобирался в дорогу. Ему следовало срочно ехать в Рим.
Дальше откладывать этот переезд уже было невозможно.
Но перед отъездом Траян вновь вызвал к себе своего чернокожего друга. Они встретились во дворце наместника в Могонциаке, в атриуме. Рядом никого не было, и потому они, не соблюдая этикет, обнялись по-товарищески.
Траян предложил другу вина, но Лузий от него отказался.
Тогда, уже без всяких долгих и ничего не значивших вступлений, обращаясь к Квиету, Траян прямо заговорил:
– Выслушай меня, друг… Божественный Нерва, как ты уже знаешь, ушёл из жизни, и теперь мне не откладывая придётся покинуть Могонциак и перебраться в столицу… Я хочу тебя взять с собой. Мне нужны люди, которым я могу всецело доверять. Как ты на это посмотришь?
Лузий ожидал этого вопроса. И он уже всё обдумал заранее, и потому сразу же ответил на него:
– Я тебя благодарю за это предложение, Божественный, но… О Риме у меня остались слишком уж тягостные воспоминания… И мне вдали от него намного лучше. Мне здесь гораздо легче дышится. Ну не неволь меня, пожалуйста, я прошу тебя… Лучше я останусь в Германии.
Тогда они с Траяном расстались не лучшим образом.
Принцепс был не то что недоволен, а всё-таки обиделся, что его друг не захотел последовать вслед за ним. А Квиету не нравилась столица империи. И прежде всего потому, что с ней связаны были не самые лучшие воспоминания из его жизни. Ну и ещё из-за того, что «Вечный город» был сосредоточием оравы горделивых и слишком уж заносчивых патрициев. И в нём, как нигде больше, процветали пороки. Причём всевозможные, и даже самые что ни на есть гнусные, которые неудобно называть.
Это был на взгляд Квиета, не просто город, а какой-то вертеп.
***
И вот прошло несколько лет.
Лузий Квиет по-прежнему ни к чему не стремился и прилежно служил в скромном звании префекта алы на границе, на удалённом Германо-Ретийском лимесе. Можно сказать, что он случайно попал в имперскую армию.
Ему пришлось в неё завербоваться вынужденно. Ну и так сложились у него на тот момент обстоятельства.
Лузию необходимо было как можно быстрее покинуть Рим, ведь на него положила глаз не кто-нибудь, а распутная жёнушка Домициана, и она не давала ему прохода. А это было очень опасно. Потому что некоторые её любовники по принуждению были принцепсом раскрыты и безжалостно наказаны. Их подвергли изощрённым казням. И такая же участь могла ожидать и Лузия, если бы он промедлил и остался в Риме.
Честно признаться, поначалу Лузий Квиет вообще не собирался делать в римской армии какую-либо карьеру. Однако с годами, не сразу, а постепенно, его мнение на этот счёт начало меняться. И особенно на это повлияла их самая последняя встреча с Траяном, когда венценосный друг неожиданно вновь вспомнил о нём и повторно вызвал к себе.
После общения Лузия с Марком Ульпием Траяном, которое произошло в приграничных Дробетах, новоиспечённый трибун пересмотрел свои взгляды. Он пришёл к выводу, что не только сможет, но и должен уже со второй попытки достичь многого на военном поприще. И это полезно будет не только для него, но и для его близких, для тех же его приёмных детей. Так что отказываться от представившейся для него возможности было бы и глупо, и не разумно. Теперь ему необходимо было проявить себя. Уже в этой новой кампании.
И вот Квиет оказался в Дакии.
И под его командованием теперь была целая когорта. А это – почти тысяча опытных и закалённых нумидийских и негритянских бойцов! И с ними можно было горы свернуть!
***
Пока что Лузию Квиету по большому счёту везло. Уже который день он находился в Дакии со своей отдельной номерной когортой, и ещё ни разу они не попадали в серьёзный переплёт. Схваток с превосходящими силами врага так и не происходило. И они, наконец-то, достигли указанной им цели.
Но что же хотелось бы по этому поводу добавить….
Лузий не мог оставаться равнодушным к тому, что видел. Его уже захлёстывали эмоции, и они его в последние дни переполняли. Он не переставал удивляться этой стране и мысленно ею восхищался. И восхищение у него было совершенно искренним.
Это была не засушливая Ливия, и даже не Италия или Германия. О-о, нет! Дакия представлялась каким-то райским уголком. В ней было на что посмотреть! Боги щедро одарили различными благами её. Здесь имелось множество поистине великолепных мест. И их было не перечесть!
Карпские горы (или вернее, как их сейчас называют Карпаты), там, где собственно и располагался перевал Орлиный, несколько понижались и становились кое где более пологими. Но и там их высота иногда превышала две тысячи метров от уровня моря. И, в основном, они поросли густыми смешанными или хвойными лесами, кроме отдельных скалистых вершин.
Да-а-а, места здесь были действительно красивые, иногда какие-то совершенно дикие и завораживающие.
Воздух кажется был не просто свежий, но какой-то прозрачный, почти что хрустальный, а вода наичистейшая и необыкновенно вкусная. Ею невозможно было напиться.
Ну а что же из себя представлял сам перевал Орлиный?
***
Его, на мой взгляд, можно соотнести с тем, который сейчас называют Яблонецким, и который располагался примерно на километровой высоте в этих горах (в так называемых Восточных Карпатах).
Этот перевал соединял долины рек Пирита (Прута) и Малой Тиссии (Чёрной Тисы), а также крайнюю западную область тогдашнего расселения карпов и северные районы Дакийского царства.
Именно через этот перевал спустя одиннадцать с половиной веков пройдут полчища татара-монгольских воинов, направленные Великим ханом на завоевание Центральной и Западной Европы. Но не будем надолго отвлекаться от моего повествования.
И так, в Северных и Восточных Карпатах находилось с три десятка перевалов, через которые в древности северные народы могли проникать в Дакийское царство и дальше, в Римскую империю. Однако среди этих перевалов более-менее удобными для перехода являлись около десяти, а вот для карпов таковым считался прежде всего Орлиный, и потому принцепс Траян и поручил Квиету и его VIII Ульпиевой когорте этот перевал надёжно закупорить. Потому что Траяну стало известно от своей агентуры, что именно через этот перевал направятся северные варвары, для того чтобы помочь дакам в их борьбе с Римом.
***
«Пол дела, можно сказать, ими сделано, – удовлетворённо подумал Квиет. – Когорта достигла перевала? Да, она это сделала. И что не менее важно, достигла его вовремя. И в нём уже основательно укрепляется.»
Но Квиета беспокоили потери при захвате Орлиного. Он потребовал их подсчитать и доложить ему о количестве погибших и раненых.
Потери составили двадцать три убитых и чуть больше раненных. И среди раненых только семеро были тяжёлые, которые не могли встать. То есть, потери оказались не очень тяжкими для VIII Ульпиевой когорты. И после этого Квиет тут же собрал префектов ал и велел воинам лишь недолго передохнуть, и утром следующего дня начать спешно обустраиваться.
И вот, с самого раннего утра следующего дня, по всей округе раздался гулкий шум, вспугнувший белок и прочую живность, и подхваченный вновь ожившим горным эхом.
Этот шум производили многочисленные удары топоров, визг двуручных пил и падения срубленных деревьев.
***
Лагерь VIII Ульпиевой номерной когорты на глазах стал подниматься в виде частокола и засек. А также в виде стены, которая теперь преграждала самый удобный проход со стороны карпов в дакийские пределы. И буквально через пять дней основные укрепительные работы были завершены. А помимо этого, на север, уже на территорию карпов, и на юг, на территорию Дакийского царства, по приказу Квиета стали регулярно засылаться летучие дозоры, которые были усилены и которым было приказано внимательно отслеживать всё, что происходило вокруг.
Ну а к концу недели, после того, как когорта Квиета закрепилась на перевале, трибуну доложили, что даки всё-таки узнали о неожиданном появлении воинов Траяна у себя в глубоком тылу. И значит на это они должны были как-то отреагировать.
Относительно спокойная жизнь у Квиета и его когорты завершилась?
Наверное, так оно и есть.
Квиет понимал, что всё самое опасное для них в Дакии лишь только начиналось.
***
После свадьбы Воислава и единственной дочери Верховного вождя роксоланов Савлеи, племянницу воеводы Ратибора как подменили. Она стала избегать их обоих, но ревность её по-прежнему душила и не давала спокойно жить.
Родослава всё вспоминала их прежние встречи с Воиславом. Их свидания, наполненные страстью, и которые она никак не могла забыть. Если где-нибудь она с кем-то из этой влюблённой и невыносимо счастливой парочки встречалась, то Родослава бледнела и невольно опускала глаза.
Поначалу Савлея не обращала на это внимания, потому что полностью находилась во власти своих чувств. Свадьба только что состоялась, и они с Воиславом редко расставались, а если и расставались, то ненадолго. Они до сих пор не могли успокоиться и утолить до конца свою страсть.
Но рано или поздно должно было что-то произойти.
Так оно и вышло…
***
Перед концом первой недели липеца (это нынешний месяц июль) мать Родославы послала её к брату, что бы тот передал им часть мяса от убитого на недавней охоте огромного тура, и когда Родослава появилась в усадьбе дяди, то столкнулась с соперницей, с ненавистной ей красавицей роксоланкой.
Савлея пришла к воеводе по просьбе Воислава. Тот тоже захотел получить свежего турьего мяса от недавней удачной охоты. На удивление карпов, Савлея быстро сняла свой свадебный белый наряд, скроенный на карпский манер, и вновь облачилась в привычную для неё мужскую одежду: в полотняную отбеленную рубаху, в роксоланские куртку и штаны, заправленные в остроносые сапожки на низком каблуке. Только золотые серёжки и такие же золотые массивные браслеты на запястьях обоих рук подчёркивали её женскую сущность. Но Савлея всё равно была очень привлекательна, и это с сожалением Родослава должна была признать.
Не сумев увернуться от встречи с постылой и более счастливой соперницей, Родослава поздоровалась с роксоланкой, причём это сделала резко и с некоторым вызовом, и спросила её как бы между прочим:
– Ну и как у вас жизнь, молодожёны?
– А что?
– Всё ещё как мёд? Или уже успели наскучить друг другу? Меж собой не начали ссориться? А может бьёте всё, что не попадя и что окажется под рукой…И только от всех скрываете это?
Савлея в ответ добродушно заулыбалась. Она пока что не очень правильно говорила на языке суженного, но уже всё понимала:
– А с чего со-ори… со-ори-иться нам? Та-а-ак, бывает что-то… но по… по мелочи… И мы не обращаем на них внимания. Ну как их?
– На мелочи?
– О, во-во! И… и на по…попадя…
Последнее высказывание роксоланки почему-то не рассмешило, а окончательно вывело из себя Родославу, и у неё вырвалось почти что истерично:
– А знаешь, до тебя Воислав был чей?
– Бы-ы-ыл? Че-ей?
– Да-а-а!
– И-и че-ей?
– Он был мой! Мо-о-ой!!! И даже перед самой вашей свадьбой у нас с ним была близость! На берегу реки! Мы любили друг друга там…
– Лю… любили?..
– Да, да, да! Любили! И представь, он со мной был очень страстный! И клянусь Ладой, Мокошью и самим Сварогом, я всё сделаю для того, чтобы он бросил тебя и вернулся ко мне!
После неожиданно вырвавшегося откровения, Родослава разрыдалась и, забыв про всё, как ужаленная выскочила из усадьбы дяди, воеводы Ратибора, и не разбирая дороги бросилась подальше прочь.
Савлея вернулась к Воиславу и по ней было видно, что кто-то ей испортил настроение.
Воислав сразу это почувствовал и попытался как-то отвлечь возлюбленную от неприятных мыслей. Он начал что-то говорить о намечавшейся охоте, её любимом развлечении, но Савлея перебила его на полуслове:
– А вот скажи мне, кто есть э-э-эта… Ро… Р-ро… Ро-одослава?
– Ну как кто? – не сразу и нашёлся что сказать старший сын князя Драговита.
Роксоланка же ещё больше нахмурилась:
– О-о-она у-у…у-утверждать, что вы друг друга любить…прямо во время нашей свадьбы? Это было? Вы любились, а? Призна-айся!
Воислав всё понял. От ревнивицы этой можно было всего ожидать! И она начала Воислава и Савлею преследовать и настраивать друг против друга. «Вот же такая сякая негодница! Ну никак же она не успокоится!» – в сердцах подумал княжич.
Воислав попытался обнять свою разгневанную молодую женушку, но она решительно отвергла его ласки:
– Так скажи мне, кто есть такая Ро-о… Родослава?
– Это – племянница Ратибора! Я её давно знаю! Но я не люблю её! – ответил молодой жене Воислав. – И не любил никогда. Поверь мне… И успокойся!
Однако Савлея так и не успокоилась.
– Поклянись, – потребовала она.
– Клянусь молниями грозного Перуна и милостями всемогущего Рода! – тут же решительно поклялся суженной Воислав. – Она мне не люба!
И только после этого разгневанная роксоланка немного успокоилась.
***
А на следующий день после всего произошедшего, в Тамасидаву, наконец-то, прибыл старый Божен. А вместе с этим князем склавинов прибыли и его воины. Всего с Боженом подошло семь тысяч воев, которые встали отдельным лагерем на левом берегу Данастрия.
Теперь настал черёд рассказать: а кто же такие были эти склавины?
Отвечу, читатель. И отвечу более-менее подробно.
Это был один из трёх основных праславянских народов на рубеже новой эры. Но эти самые склавины, имели одну существенную особенность. Они, в отличии от карпов и венедов, несколько под отстали в своём социальном развитии. Очевидно из-за того, что они обитали уж очень далеко от тогдашних главных центров цивилизации, коими являлись Рим, Парфия или держава кушанов, занимавшая Среднюю Азию и Северо-Запад Индии. Так у склавинов ещё не было ни одного своего города, не слишком развились ремёсла, кроме разве что кузнечных и гончарных, и княжеская власть у них только-только зарождалась, и ещё совершенно не утвердилась.
И вообще, можно сказать, что склавинами назывался совсем недавно сложившийся союз праславянских племён, обитавших к северо-востоку от карпов и земли которых доходили до Данаприя, включая и его верховья.
Сильнейшим и наиболее многочисленным племенем у склавинов считались анты (по некоторым данным, название это пришло от ираноязычных кочевников, от тех же роксоланов, и имело значение «крайние», так как это племя обитало очень далеко от больших и развитых городов, выросших по берегам Срединного моря и Понта Эвксинского). Вот этих антов, а вместе с ними и весь племенной союз склавинов, и возглавлял уже лет двенадцать Божен.
Божен был невысокого роста (он не дотягивал и до плеча Драговита). И был старше князя карпов. Ему перевалило далеко за шестьдесят, но он ещё вполне себе был крепок. Его даже можно было бы назвать и живчиком.
Драговит радушно встретил князя склавинов.
Встречал он его как важного и особо почётного гостя перед воротами Тамасидавы.
***
Драговит и князь склавинов спустились с коней, подошли к друг другу и крепко по-братски обнялись и после этого троекратно расцеловались. Они знали друг друга уже давно.
Затем Драговит и Божен посетили капище Перуна, в окрестностях Тамасидавы, где вместе со жрецом Богумилом принесли жертвы Перуну и прочим склавинским и карпским богам, ну а дальше, ближе к полудню, в сопровождении двух десятков дружинников, они вновь вернулись в Тамасидаву, и здесь уже, в своих палатах, Драговит усадил Божена напротив себя.
– Очень хорошо, что ты откликнулся на мой призыв и со своими воями здесь, – произнёс Драговит. – Мы вас в Тамасидаве ждали. Нам обязательно следует выручать соседей, попавших в большую беду. Децебал очень надеется на нашу помощь… Он нас с нетерпением ожидает.
– Ну это понятно. А вот скажи… – продолжил Божен, – я слышал, что правитель Южной империи сам участвует в этой войне. Это правда?
Драговит кивнул головой:
– Правда. Он в ней участвует сам.
– Э-э-э, это плохо… – погладил свою бороду Божен. И князь склавинов покачал сокрушённо головой.
А Драговит продолжил:
– Насколько я знаю, он тоже пересёк Данувий и уже на территории Дакии. И за собой он ведёт огромную силищу, по нашим последним сведениям – двадцать легионов!
– О-о-ого-о-о! – вырвалось из уст Божена. Старый князь не скрывал своих эмоций и вновь покачал головой: – Мда-а-а, вот это сила! Это действительно си-илища! О-ох, и тяжко придётся дакам…Ну и нам…
– И не говори…– поддержал мнение склавина Драговит.
– Но сможем ли мы как-то помочь царю даков? Ведь наши общие с тобой силы, Драговит, будут чуть больше двадцати тысяч…– выразил некоторое сомнение склавин.
– Со дня на день сюда подойдут ещё и бастарны. Во главе с Клондиком. И тогда нас будет почти тридцать тысяч! – заметил князь карпов.
– Ну, допустим… А правитель Южной империи, этот самый Троян (так карпы и склавины называли Траяна), подошёл уже к столице даков?
– Пока что ещё он не добрался до неё. Он на подходе к Сармизегетусе. Но нам не следует со своим выступлением тянуть. К концу этой недели, сразу как подойдут к Тамасидаве бастарны, мы должны уже выступить…
Божен вновь не сдержался и вздохнул, погладил свою совершенно седую длинную бороду и произнёс:
– Значит мы пойдём самым коротким путём? Через перевал Орлиный?
– Да, через него. И нам надо спешить, – подтвердил слова Божена Драговит.
Но к вечеру того же дня кое-что изменилось…
***
В Тамасидаве появились Мал и два его товарища.
Они были разведчиками, которых Драговит почти четыре месяца назад послал в Дакию, и которые надолго куда-то запропастились. А оказывается, они были захвачены римским военачальником Квиетом и воинами его VIII Ульпиевой когорты, и лишь только удачный случай помог им сбежать из плена.
И вот этот самый Мал принёс князю карпов неприятную весть…
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Бывшему римскому центуриону, Гнею Цикатрикулу, не удалось покушение на принцепса. Он скорее напугал Траяна и только слегка его ранил в щёку, но тут же был зарублен преторианцами. К Траяну вызвали Тита Статилия Критона, это был грек из Гераклеи, и он давно являлся личным врачом принцепса.
Критон обработал ранку и дезинфицировал её, а затем, подняв голову, заметил:
– Всё, что от меня требовалось, я сделал…
И Траян отпустил врача.
Когда Критон собрал все свои принадлежности и направился к выходу, к нему обратился Публий Элий Адриан, сын двоюродного брата Траяна, родившийся тоже в Италике, и один из ближайших сподвижников принцепса:
– Что с Божественным? Как он? – спросил чуть ли не шёпотом Адриан.
Врач Траяна произнёс:
– Ничего опасного, рана у Божественного не глубокая, я бы даже сказал, что это и не рана, а царапина…Через пару дней не будет от неё и следа, я уверяю!
Слуги, вооружившиеся скребками, губками и мочалками, появились уже через несколько минут в императорском шатре. Они убрали изрубленное тело перебежчика и смыли оставленную им кровь.
Траян быстро пришёл в себя и тут же собрал Военный совет. Все высшие офицеры из его окружения пришли к мнению, что, не делая никакого перерыва, следует продолжить наступление на дакийский отряд Редизона, преграждавший путь римской армии через ущелье Бауты.
Но один из легатов, командующий VI Железным легионом, Луций Аврелий Цезон, на этом совете высказал особое мнение. Он предложил очень неожиданную идею, которая принцепсу настолько понравилась, что тот тут же решил её реализовать…
***
Рассвет только-только зарождался. Тени явственно даже не проступили и на небе кажется ни одна звезда ещё не погасла.
Редизон отдыхал в своей палатке, после того, как проверил все дозоры, причём не только в самом ущелье, вдоль стены, но и по склонам соседних вершин, когда его разбудили. В палатку дакийского военачальника просто вихрем ворвался Скорио.
Редизон нехотя поднялся со своего лежака, потянулся и широко-широко зевнул.
Потом он обратился к сыну:
– Ну что случилось такое срочное? Я совсем мало спал… Только преклонил голову и тут ты…
– Прости, отец, но у меня важное сообщение…– извинился Скорио.
– Ну уж говори, коль разбудил, – в ответ произнёс недовольным тоном Редизон, и вновь не выдержав зевнул.
– Отец, – заговорил необычно возбуждённый Скорио, – в римском лагере во всю ревут буцины и тубы! В них римляне дуют, как ошалелые! И уже очень долго!
Редизон прислушался и хмыкнул:
– И правда! А по какому случаю? Что у них там происходит?
– Отец, у римлян настоящий переполох!
– Ну угомонись! Что-о, что у них там случилось? – Редизон кулаками протёр по-прежнему слипавшиеся глаза.
Скорио запальчиво продолжил:
– К моим разведчикам в руки только что попал сириец, он был приставлен к мулам в римском обозе и служил погонщиком. Он заблудился и случайно вышел на нас…
– Ну и-и-и…
– Ты не представляешь, отец, в общем он нам признался, почему у римлян начался такой переполох… На римского правителя, на императора Траяна, совершенно покушение…Случилось это вчера. И Траян едва не погиб! Его ранили. Ранение у него очень тяжёлое, и сейчас он находиться в бессознательном состоянии. Между жизнью и смертью!
У Редизона тут же исчезла вся его сонливость. Её как рукой кто-то смахнул.
Он соскочил с лежака и, схватив сына за плечи, встряхнул его:
– А ну повтори! На Траяна совершено покушение? Он тяжело ранен? Он что, находится уже в шаге от смерти? Я не ослышался?!
– Да, отец. В шаге… Может и до утра не дожить!
Взгляд Редизона загорелся, дак поднял глаза вверх и, не сдержавшись, прокричал:
– Всемогущий Замолксис, я благодарю тебя! Ты нас не забыл!!! Ты даруешь нам долгожданную победу над Римом!
***
Когда до Помпеи Плотины, супруги Траяна, дошла весть, что на её мужа совершено покушение, и он едва не погиб, её уже никакая сила не могла остановить. Вместе с сестрой мужа, Марцианной, они велели немедленно им взнуздать коней и в сопровождении двух турм конных преторианцев направились из тылового лагеря на передовую, и примерно к полудню следующего дня добрались до ущелья Бауты.
Первой в шатёр императора ворвалась его супруга. Увидев Траяна, она замерла.
Траян был жив-здоров, да ещё при виде супруги и Марцианны широко и беззаботно заулыбался.
Бледная Помпея Плотина воскликнула:
– Душа моя, мой господин, о-о, о, какое счастье, ты выходит не ранен и здоров?!
– Ну, конечно… – Траян притянул к себе дрожавшую всем телом супругу и, обняв её, троекратно расцеловал. А затем к нему бросилась в объятия его старшая сестра, и он тоже расцеловал уже Марцианну.
– А на-а-ам… нам сообщили, что на тебя покушались… И что ты плох… – пролепетала Помпея Плотина. Она до сих пор не могла прийти в себя. Голос у неё по-прежнему срывался на фальцет.
– Ну, как видишь, я на ногах, и со мной ничего не случилось, – ответил Траян.
Он ещё долго успокаивал своих женщин, но, когда заикнулся, чтобы они вернулись в тыловой укреплённый лагерь, и Помпея Плотина, и Марцианна, наотрез отказались ему подчиняться, и настояли на том, что останутся с ним рядом.
***
Редизон собрал в своей палатке всех старших командиров, и сообщил им, что у римлян произошло событие, которое может самым решительным образом изменить ход всей нынешней кампании.
Воодушевлённый Редизон заявил:
– Великий Замолксис нас услышал! Правитель Южной империи, Траян, при смерти… Он не приходит в сознание! И получается, что римляне сейчас обезглавлены! И, к тому же, их командование подавлено и совершенно растеряно…
– Ка-а-ак? Тра-а-аян при смерти?!
– Что-о-о?! – раздались с разных сторон удивлённые голоса.
– Что там у этих римлян произошло?!
– Проясни нам, Редизон!
Со всех сторон и наперебой стали вопрошать даки.
Редизон поднял правую руку.
Все окружившие его даки притихли. И он продолжил:
– На императора совершенно покушение. Римляне обескуражены и сейчас по всей видимости растерялись… Я предлагаю воспользоваться этим и напасть на их передовой лагерь!
Один из подчинённых Редизона не сдержался:
– Но это же безумие!
– Почему? – переспросил недовольный военачальник.
– Сколько нас, и сколько римлян! – ответил подчинённый Редизона. – Их же по меньшей мере в двадцать раз больше чем нас!
– Всё верно. Но я предлагаю только сделать вылазку…– продолжил убеждать своих командиров дакийский военачальник. – Мы нападём неожиданно на их лагерь, на тот, где находится императорский шатёр! Причём мы это сделаем не днём, а ночью… Да, да! Нам надо сделать ночную вылазку! Ну и если удастся задуманное… Если мы его в императорском шатре застанем и добьём… То тогда победа в этой кампании будет за нами! Я считаю, мы можем это сделать! Другого такого шанса у нас не будет… И мы можем потом пожалеть, что его упустили.
Командиры дакийского отряда долго рядили и спорили, но в конце концов согласились с предложением Редизона.
***
Уже которую ночь римляне ждали вылазку даков.
Траян был уверен, что Редизон обязательно должен клюнуть на приготовленную для него наживку. Римляне готовы были встретить даков, и вот…
На пятые сутки, глубокой ночью, даки вышли из-за своих укреплений и напали на римский лагерь. Для этой вылазки Редизон отрядил половину своих наиболее боеспособных воинов. И возглавил этот отряд он лично. А Скорио, с остальными пятью тысячами, оставил в ущелье. Весь расчёт Редизона основывался на факторе неожиданности.
Даки, стараясь не шуметь, почти бесшумно пробрались к передовым римским постам, и произвели на них нападение. И тут же весь огромный римский лагерь ожил и осветился тысячами и тысячами факелов. Римляне, оказывается, уже ждали даков.
Началась беспощадная рубка.
Даки были сразу же окружены. В этой ночной вылазке погибло почти три тысячи лучших дакских воинов. Самого Редизона тяжело ранили, и воины, являвшиеся телохранителями дакийского военачальника, чудом его спасли. Они вынесли своего предводителя на руках из окружения.
Римляне попытались на спинах беспорядочно и поспешно отступавших даков, ворваться в их укрепление, преграждавшее ущелье Бауты, и им едва это не удалось сделать. Даки с неимоверными усилиями, но всё-таки отбились от наседавших со всех сторон римских легионеров.
А уже утром, на виду даков, римляне в качестве устрашения, воздвигли на возвышенности кресты и распяли на этих крестах триста раненных и захваченных при ночной вылазке воинов Редизона.
Траяну почти удался его замысел.
***
Место под будущее решающее сражение Децебал выбирал не долго. Оно находилось неподалеку от дакийской столицы. И если легионы Траяна прорвутся через заградительный отряд Редизона, перекрывший ущелье Бауты, то обязательно направятся в сторону Сармизегетусы, и тогда эту сравнительно ровную местность, окаймлённую с трёх сторон возвышенностями, и которую римляне и даки уже использовали в предыдущую военную кампанию, нападающие никак не обойдут. Теперь же осталось собрать все силы даков и их союзников. И приготовить поле для будущей решающей битвы.
И Децебал этим сейчас и занялся.
***
Каждый день с разных сторон к дакийской столице подходили всё новые и новые отряды даков. И уже вскоре под стенами и на ближних подступах к Сармизегетусе собралось свыше шестидесяти пяти тысяч дакских воинов, впрочем, Децебал ждал ещё подхода ополчения, набранного из западных и северных дакских племён, которые должны были привести ряд вождей, включая и вождя Северных дайесов. Но Пируст что-то всё не появлялся. Почему-то он задерживался.
Царь даков всем подошедшим отрядам устраивал смотр и проводил ежедневные учения. Особые надежды царь Дакии возлагал на воинов, вооружённых ромфеями. Если римляне опасались сик (которые они называли фалькатами), то ромфеи были ещё более грозным оружием. Это было тоже изобретением фракийских оружейников. Ромфеями назывались мечи с изогнутыми клинками. Только, в отличии от сик, ромфеи были в два раза длиннее и намного тяжелее, а ещё они были двуручными. (Длина ромфей достигала полутора метров и даже больше), и ими можно было без проблем разрубить тяжёлые римские щиты скутумы и любые доспехи. Нередко опытные дакские воины, искусно владевшие этими самыми ромфеями, без труда разрубали римских легионеров на двое. И римские легионеры страшно боялись этих самых ромфей.
Всего у даков опытных воинов, учившихся чуть-ли не с юных лет владеть главным и самым страшным национальным оружием, набиралось пять с половиной тысяч, и они должны были прорывать сомкнутые передние ряды наступавших римских легионов. Таких опытных и умелых бойцов в Дакии ценили. Кстати, очень искусно умел фехтовать этим грозным национальным оружием сам Децебал.
Но, впрочем, это далеко не все ещё были сюрпризы, которые готовил для напавших на Дакию римлян Децебал.
***
Был ещё один очень неприятный сюрприз, и он уже касался Сервия Туллия и его команды, занимавшейся больше двух лет метальными машинами. У Децебала внезапно созрела идея, как их использовать в предстоящем решающем сражении с Траяном… Вернее, на эту идею его натолкнул сам римский перебежчик, бывший ученик знаменитого архитектора Аполлодора Дамаскина.
И вот как Сервий Туллий предложил эти машины использовать…
Для этих машин приготовили особые укрепления, за которыми они должны были надёжно спрятаться от римских стрел и пилумов (это были земляные валы, усиленные брёвнами), и в нужный момент метательные машины даков должны были неожиданно заявить о себе…
Им поручалось засыпать наступающего противника разящими снарядами весом не меньше, чем в два таланта (примерно в шестьдесят килограммов), и попытаться внести в его ряды если и не панику, то всё-таки серьёзную сумятицу.
По приказу царя Сервий Туллий и его люди провели новые испытания. Уже на поле предстоящего решающего сражения.
Катапульты, онагры, скорпионы и прочие метательные орудия Сервия Туллия должны были пристреляться к местности.
Испытания проводились пол дня и их результатом Децебал в целом остался доволен.
Он подозвал к себе римского перебежчика, и они вместе с бородатым и загорелым Сервием Туллием прошли по обширному и более-менее ровному пространству предстоящего решающего сражения.
Вокруг были разбросаны поражённые камнями и внушительными стрелами мишени. Это были всё те же мешки, набитые соломой. Самые дальние из этих мишеней находились на расстоянии почти что пятисот-пятисот пятидесяти шагов от укреплённых позиций метательных машин.
– Очень, о-о-очень неплохо, клянусь благосклонностью Замолксиса! – осматривая поражённые мишени произнёс Децебал. – Ты славно потрудился, Туллий! Все команды обучены! Аппараты в рабочем состоянии и далеко стреляют!
Царь и один из его сопровождающих наклонились и подняли с земли ближайший к ним снаряд. Это был камень круглой формы, внушительных размеров и очень тяжёлый. Но долго его удержать им не удалось. Децебал и его напарник от напряжения побагровели. Они каменный снаряд, наконец-то, отбросили.
И Децебал, повернувшись к Сервию Туллию, спросил:
– А сколько приготовлено таких вот снарядов для твоих орудий, Сервий?
– Достаточно, государь. По семьдесят-сто на каждое орудие.
– Ну а если легионеры пойдут в быструю атаку, к примеру, побегут, сколько залпов твои люди успеют в их сторону сделать?
Сервий Туллий не сразу ответил.
На какое-то время он задумался, взглядом окинул всё равнинное пространство, и, наконец, произнёс:
– Государь, ну-у-у… ну, по-хорошему, три-четыре залпа мы успеем сделать.
– Ты проверял на время?
– Да!
Децебал что-то в уме тоже прикинул и одобрительно хмыкнул. И этот ответ ему тоже понравился, и царь вновь счёл нужным римского инженера-перебежчика похвалить.
***
А к вечеру следующего дня в Сармизегетусу прибыл долгожданный гонец от вождя Северных дайесов. Вождь этого дакийского племени, Пируст, сообщал, что в ущелье Орлином укрепились какие-то римские всадники числом до тысячи, и они вознамерились преградить дорогу армии северных племён. Вот поэтому и произошла задержка с выступлением ополчения Северных дайесов.
Пируст не знал, что ему делать. А вернее, он собирался разблокировать проход для князя Драговита и других союзников даков, и только попросил на это разрешение у царя.
Децебал не долго размышлял и быстро составил ответ. А ещё он предложил Пирусту, чтобы тот для большей верности взял себе в помощь ополчение ещё одного северного дакийского племени. Ополчение сагаратов Бикилиса, земли которых тоже находилось поблизости с этим самым ущельем.
Но не успел человек от Пируста отправиться с сообщением на север Дакии, как в Сармизегетусе появился ещё один гонец. И новость он принёс очень тревожную.
А новость эта была с Юго-Запада. И исходила она от Редизона.
Отряд его уже был измотан и совершенно обескровлен, и едва держался в Баутах. Ну а сам возглавлявший его Редизон тяжело был ранен во время неудачной ночной вылазки на римский лагерь.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Лишь только Мал и два его напарника благополучно добрались до Тамасидавы, и об этом узнал Драговит, как тут же князь пожелал с разведчиками встретиться, не дав им даже толком передохнуть и повидаться с родными.
Впрочем, их всё-таки прежде накормили и затопили им баню, чтобы они смыли дорожную грязь и накопившуюся усталость. Затем они переоделись во всё чистое и их провели в княжеский терем.
И вот, в палатах на втором этаже, разведчики предстали перед Драговитом.
Они приблизились к князю и поклонились ему в пояс. Князь спросил прежде всего Мала:
– Рассказывай! Что видел?.. Что узнал о приграничье?..
– Мы чудом выжили, княже…– ответил Мал.
– Вас пленили?
– Да!
– Но не язиги, получается?
– Почему же? Вначале мы попали в руки этих самых язигов. Мы по неосторожности переплыли Тиссию и к ним как-то по-глупому угодили. И что нас к ним занесло?! Нам не следовало проходить в их землю. Но потом уже воины Траяна нас взяли в плен. – Мал показал ссадины на запястьях рук и пояснил: – А язиги нас связывали и держали на своей стоянке. Они не зарезали нас только лишь потому, что в последний момент надумали продать в качестве рабов, но мы их перехитрили. А уже когда мы сбежали от язигов и направлялись домой, то случайно наткнулись на римлян… Однако это были какие-то особенные римские воины… Это были не природные римляне. Ты не представляешь, княже, какие они с виду!
– Ну и какие же? Сможешь их описать?
– Постараюсь.
– И-и-и?
– Траян привёл в Дакию всех воинов, которых только смог собрать. И мы оказались в руках у-у… Ты не поверишь, но они, эти римляне… они – чёрные.
– Хм-м, чё-ёрные?! В смысле?!
– Во-во! Чёрные-пречёрные! Ну точно, как дёгтем перемазанные! Посмотришь на них и тут же оторопь берёт! Как будто это не люди, а оборотни какие-то. Те, что обитают на болотах с лешими и кикиморами. И прийти могут из потустороннего мира. И с которыми не может совладать даже владыка этого самого загробного мира Хорс! Они будто чёрные духи. И я не думал, что даже есть такие…
– Так сколько этих оборотней и-или чёрных духов?
– Примерно скажу…
– Ну-у-у… И сколько же их?
– Где-то около тысячи…
– А они точно люди, а не призраки?
– Точно-точно!
– А как они сражаются? И как вооружены?
– Оружие у них – римское. И сражаются они умеючи. Эти чёрные римляне – опытны в воинском деле. Тут ничего про это не скажешь.
Драговит много ещё о чём расспрашивал Мала и двух других его напарников. И, наконец, в завершении их разговора, спросил:
– А для чего Траян заслал этих чёрных как дёготь и очень странных воинов, так похожих на оборотней или на чёрных духов, в глубокий тыл даков? Чтобы нам помешать прийти на помощь Децебалу?
– Ты скорее всего прав, княже! – подтвердил предположение Драговита Мал.
И уже когда Драговит собирался отпустить Мала и его людей, один из разведчиков произнёс:
– Княже, разреши ещё кое-что тебе высказать?
Драговит жестом дал понять, что слушает.
Сопровождавший Мала разведчик, тот что был по моложе, продолжил:
– Перед самым нашим побегом, мы видели ещё одного карпа, который появился в отряде чёрных римских оборотней…
– А-ах, да-а-а…– поддакнул напарнику Мал. – Я совсем об этом забыл тебе сказать. Я на него тоже обратил внимание.
Напарник Мала тем временем добавил:
– И мне показалось, что этот карп не являлся пленником.
– Почему ты так подумал? – переспросил Драговит.
– Да потому, что его никто не связывал. Он передвигался по стоянке чёрных римлян свободно. И я его… я е-его, ка-ажется… всё же узнал…
– Кто он?
– Его зовут Жданом. И он – человек старейшины Хвалимира…
– Ты не обознался? Ты не мог всё-таки ошибиться? – переспросил озадаченный Драговит.
– Нет, нет! Точно! Хотя я его видел и издалека, но я его признал. Это точно был человек именно старейшины Хвалимира.
Драговита эта новость сильно не то что озадачила, а даже поначалу удивила, а потом и вовсе обескуражила. Но больше ничего не добившись от Мала и его подельников, Драговит их отпустил повидаться с родными.
***
О бастарнах, я думаю, читатель, тебе тоже следует кое-что рассказать.
И так, я уделю им немного внимания и сделаю отступление…
Бастарнов давным-давно поглотило безжалостное время. Но они не сгинули бесследно, а частью своей всё-таки влились в формировавшийся в Восточной Европе большой праславянский этнос.
Населяли они обширную территорию к северо-западу от карпов. В то время бастарнские племена располагались между одним праславянским племенным союзом, называвшимся карпским, и другим, более западным и северным, и известным римским и греческим писателям под именем венедов. Ну а сами бастарны, скорее всего, были кельтами с немалой примесью германской крови, и пришли они в северные отроги Карпат где-то в середине III века до новой эры из восточных областей Галлии.
Греческий писатель Плутарх так описывал этих бастарнов: «… все они до одного наёмники, люди, не умеющие ни пахать землю, ни плавать по морю, ни пасти скот, они опытны лишь в одном деле – сражаться и побеждать врага… Бастарны физически развитые и чрезвычайно рослые, и они возвышаются над всеми, как колонны, и на диво ловкие и проворные…»
Бастарны были облачены в свои кольчужные доспехи и вооружены были кинжалами, длинными мечами и секирами. Секира была их национальным оружием, как, например, та же сика у даков. Однако среди пришедших бастарнов были не только пешие воины, но и всадники. И всадников насчитывалось несколько тысяч.
У бастарнов было два предводителя. Их возглавляли вождь племени пиквинов Клондик и вождь костобоков, другого уже их крупного племени, Делдон. А ещё тут были воины и из других бастарнских племён: преимущественно из анаратов, атмионов и сидионов. Всего в итоге бастарны привели за собой почти одиннадцать тысяч опытных бойцов (именно столько набралось среди них добровольцев, желавших поучаствовать в войне с Южной империей).
Сказать откровенно, Драговит не ожидал, что с такими силами заявятся бастарны, а, следовательно, готовая к выступлению соединённая армия северных племён, не желавших, как и даки, склонять головы перед безудержной экспансией Рима, превысила ожидаемую численность довольно-таки значительно.
Перед общим выступлением князь карпов собрал у себя всех военачальников союзной армии, а также здесь были воевода карпов Ратибор, старший сын князя Воислав и Верховный жрец и по совместительству волхв-предсказатель Богумил.
К этому времени Драговит уже точно знал, что старейшина Дулёбов, коварный и двуличный интриган Хвалимир, встал окончательно на путь измены, и ему даже удалось установить связь с Южной империей и начать действовать на её стороне.
– Для нас самый удобный путь в Дакию проходит через перевал Орлиный, – произнёс князь карпов. – Но этот путь уже не является свободным. Его перекрыли. Это сделали римляне… И вот я хочу посоветоваться… Как нам теперь поступить?
– А сколько этих римлян, которые заняли перевал Орлиный? – поинтересовался предводитель склавинов, старый Божен.
– Примерно тысяча… – ответил Драговит.
– Хм-м-м… Тысяча? Всего-то? Так это же и не так много, – несколько пренебрежительно по этому поводу высказался склавин.
– В общем то можно сказать, что и немного, – подал голос старейшина карпов, чернявый полугрек Градибор, – однако перевал Орлиный – довольно-таки узкий и труднодоступный, и римские оборотни, которые его преградили, явно к его обороне основательно уже подготовились. И они нас там ожидают.
– Ха-а, но есть же и другие пути на Юг, в царство даков… – высказался рыжебородый увалень, бастарн Клондик.
– Есть, – согласился с бастарнским вождём князь Драговит. – Их не один, и не два… Только другие пути в два – в два с половиной раза подлиннее будут, и пока мы к ним подойдём, там вполне может уже выпасть снег. И тогда… Если выпадет снег, да ещё если выпадет сразу глубокий, как иногда бывает, и заметёт перевалы, то то-огда эти перевалы станут совсем непроходимыми…Даже для пеших.
– Предлагаю всё-таки направиться к Орлиному…– высказал своё мнение воевода Ратибор, – нас уже свыше тридцати пяти тысяч, а чёрных римлян-оборотней на перевале – намного меньше… Мы можем смести со своего пути их… Я уверен, мы прорвёмся!
В конце концов, мнение, которое высказали воевода Ратибор и князь Драговит, возобладало, и союзная армия северных племён приготовилась к выступлению.
Однако прежде чем выступать, необходимо было сделать ещё одно очень важное дело…
***
Карпы, как и остальные праславяне, совершали свои жертвоприношения обычно либо утром, на рассвете, либо на закате. И время для этого выбирали только их жрецы. По каким-то только им известным приметам. Доподлинно об этих приметах никто из непосвящённых ничего не знал, так как они хранились в тайне.
На этот раз Богумил, Верховный жрец уличей и всего карпского племенного союза, выбрал поздний вечер. С его слов этот обряд можно было совершить только когда солнце окончательно сядет за горы. По обычаю, заранее были разведены десятки больших и малых костров. И вот, их огненные языки вырвались к небу и стали лизать наступавший на земную твердь мрак.
Событие намечалось неординарное и чрезвычайное, и поэтому Богумил объявил, что ограничиваться одними жертвенными животными нельзя. Придётся принести в жертву не только быков, но и людей. Причём не одного кого-то, а нескольких. Впрочем, что это будет так, многие из карпов уже догадывались. Обычно в таких случаях приносили в жертву пленников, но Богумил во всеуслышание заявил, что этого будет недостаточно.
И тогда карпы вынужденно бросили между собой жребий. И он выпал на трёх человек. На двух мужчин и на одну молодую женщину.
Среди тех, кому выпала эта прямо скажем нерадостная и роковая честь, оказался и только что вернувшийся из плена разведчик Мал.
Все, кому выпал жребий, приняли свою судьбу молча и с достоинством.
Им дали проститься с родственниками. Затем им позволили омыться, облачили их в длинные льняные рубахи и одели им на головы венки.
Ну и вот как происходило это жертвоприношение…
***
В центре капища была выставлена жертвенная ладья. И все трое карпов, которым выпал жребий, босиком и мертвенно бледные выпили специальный отвар и медленно-медленно взошли на жертвенную ладью.
Самым последним поднимался Мал.
Он на пол пути замешкался и обернулся, его взгляд встретился со взглядом супруги, которая была беременной и ждала очередного ребёнка, потом перевёл взгляд на дочерей, а их у него было три, и на престарелую мать.
И приговорённый Мал им всем прокричал:
– Прощайте, родные! Мы встретимся! Мы встретимся с вами обязательно! Уже в другом мире! Я буду вас там ожидать… А сейчас… Хорс придаст мне силы! Не переживайте за меня! Я смогу! Я приготовился!
При этом лицо Мала-разведчика было не естественно бледным.
Беременная супруга Мала перестала рыдать, закачалась и ноги у неё подкосились, и она рухнула на землю. Супруга Мала потеряла сознание.
Среди собравшихся ещё кто-то громко разрыдался. Скорее всего это была престарелая мать Мала.
У неё вообще от увиденного остановилось сердце, и она вслед за сыном ушла из жизни.
И только последние отблески заката погасли и непроницаемый мрак окончательно спустился с ближайшей Чёрной горы, как Богумил подал знак, и его помощники запалили жертвенную ладью.
Вскоре всех троих обречённых охватило пламя.
Жертвы тут же истошно закричали, однако пламя быстро поглотило несчастных.
Ну что же, по этому поводу, читатель, тебе сказать?
Таковы были традиции у наших далёких предков, тогда являвшихся язычниками и для которых были обычным явлением человеческие жертвоприношения. Как говорится: слово из песни не выкинешь!
И в самые тяжёлые и ответственные моменты наши предки приносили в жертву языческим богам своих соплеменников.
***
– Славься! Сла-авься Перун – бог огнекудрый! Ты посылаешь стрелы во врагов наших! Ты воинам храбрым – честь и суд! Праведен ты! И златорун! – разнёсся голос Богумила над всей округой.
Помощники Богумила поддержали главного жреца. Они, что есть мочи, прокричали вслед за ним:
– Ты воинство ведёшь наше по ратной стезе! Ты наполняешь воев храбростью, волей и стойкостью!
– Придай всем нам своей силы и решимости! – вновь послышался голос волхва и ведуна, верховного жреца карпского племенного союза.
Все дружинники и остальные воины, собравшиеся на капище и вокруг него, сняли головные уборы и шлёмы, и в едином порыве преклонили колени и повторили последние слова за волхвом Богумилом…
И в заключении все они прокричали:
– Славься, Перун!!! Сла-а-авься!!!
Тьма окончательно взяла верх, но её по-прежнему в клочья рвали языки многочисленных костров.
Ну а что же из себя представляло капище Перуна, где всё это драматическое действо и происходило?
О нём я уже неоднократно упоминал, но на этот раз всё-таки хочу кое о чём обстоятельнее рассказать…
***
Это капище, как и полагалось, окружал частокол, и находилось оно на высоком правом берегу Данастрия. Ну а вокруг него раскинулась обширная дубрава.
Дуб считался священным деревом, и именно он посвящался богу Перуну, и поэтому карпы и посадили поблизости от своего главного общеплеменного святилища эти деревья. Они специально высадили дубы в виде целой рощи ещё за семь поколений до описываемых событий. Примерно тогда Перун и стал у карпов их главным богом.
Идол Перуна стоял в самом центре капища, и сделан он был из цельного могучего дерева, но голова бога-громовержца была серебряной, а усы и борода отливали жёлтым металлом, особенно ослепительно сверкавшим в лучах заходящего солнца, потому что их сделали из чистого золота.
Идолы Хорса, Даждьбога, Сварога, Стрибога, Велеса, Мокоши и других богов были намного меньше и как бы составляли хоровод, взявший в кольцо грозного повелителя грома и молнии.
Следует сказать кое-что и о самой праславянской языческой религии…
Ей к тому времени уже было много-много столетий!
Первоначально она ничем не отличалась от религии остальных ариев, обитавших от Алтая и до равнин Восточной Европы, но после отделения праславян от основного арийского древа, их религия стала развиваться обособленно и, в конечном итоге, пошла своим неповторимым путём.
Произошло это примерно за II тысячелетия до новой эры.
Теперь главным богом у карпов уже являлся Перун.
Однако им он стал не сразу, а сравнительно недавно. Примерно век с небольшим назад. И встал он во главе праславянского пантеона богов лишь после того, как у карпов и венедов из привычных вождей начали выделяться правители, которых можно было бы назвать по-настоящему первыми князьями, и которые начали вокруг себя собирать дружины, состоявшие исключительно из профессиональных воинов. А для них, для князей и их дружинников, и потребовался свой особый покровитель.
Но вот до этого…
А вот до этого всё было несколько по-иному…
***
Следует знать, что наиболее древним богом у праславян – и поначалу самым главным в их пантеоне – являлся не Перун, и даже не Велес и не Сварог, а… Род.
Он повелевал всем сущим во Вселенной, и ему подчинялись все остальные боги. Он считался творцом и родоначальником всего. Род влиял на весь жизненный круговорот. А также он существовал повсюду, и не имел ни начала, ни конца.
Род управлял жизнью и смертью, изобилием и нищетой. Его никто никогда не видел, а вот он видел каждого. От него нельзя нигде было скрыться. Корень его имени присутствовал повсеместно в речи праславян: рождение, родственники, родина, урожай, и ещё во многих других важнейших словах праславян присутствовал незримо этот древнейший их бог.
Как я уже сказал, Род на начальном этапе развития праславянской религии был самым авторитетным богом, и не только простые смертные, но и все остальные боги и богини из древне славянского пантеона ему беспрекословно подчинялись. Однако время шло и постепенно положение его стало понижаться. Он по-прежнему считался родоначальником всего сущего, явного и не явного, но постепенно на первые позиции выходить стали более молодые божества.
Ими по очереди успели побывать и Велес, и Сварог, и Даждьбог, но с установлением княжеской власти стал набирать силу именно бог громовержец и покровитель всех воев – Перун.
Обряд закончился под утро.
А уже следующим днём союзная армия северных племён двинулась на помощь дакам.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
А теперь, читатель, мы вновь вернёмся к Траяну.
Уже пошёл седьмой год, как он перебрался из воинского лагеря на Германской границе в Рим и стал в Палатийском дворце единолично хозяйничать. Следует признать, что престарелый Нерва, лихорадочно подыскивая себе преемника, сделал на редкость удачный выбор. Усыновлённый им Траян, за время своего правления, приобрёл огромную популярность. Причём он пользовался популярностью, как у народа, так и в высших кругах общества, и что немало важно и в государственном аппарате. Ну а об армии я уже и не говорю. Армия его просто боготворила. Траяна считали едва ли не лучшим императором за всю многовековую историю Рима. Так, каждому из последующих правителей, после его восхождения на трон в Палатийском дворце, желали: «Быть счастливее Августа и лучше Траяна!»
Вот как, к примеру, римский писатель греческого происхождения Дион Кассий описывал принцепса Марка Ульпия Нерву Траяна: «Среди всех остальных правителей он выделялся отчаянной храбростью и жаждой справедливости. В привычках же был непритязателен, и его совершенно не прельщало присущее его предшественникам стремление жить в роскоши и неге. Он не проявлял зависти по отношению к другим, никого без веской на то причины не преследовал и не приговаривал к наказанию, и любой достойный человек в нём всегда мог найти участие и поддержку. При нём ни один человек не был по какой-либо прихоти казнён.
Также, принцепс этот никогда не испытывал ненависти или страха перед достойными и талантливыми людьми, и потому старался таковых приблизить к себе.
Рачительно он распоряжался и поступавшими в казну деньгами. А поступление их при его правлении было огромным. Но он не расходовал их на пиры и какие-либо излишества, а тратил поступавшие деньги на благоустройство столицы и провинций. Не жалел он казённых денег и на вооружение легионеров и подготовку армии к новым военным действиям, и при нём армия империи приобрела невиданную до этого боеспособность.»
Каков же у Траяна был характер?
Тут, помимо Диона Кассия, и Плиний Младший, и Павсаний, и Евтропий были единодушны. Вот, что, к примеру, о нём написал другой древний автор, Евтропий: «Принцепс Траян отличался общительным нравом и поэтому находился всегда на виду. Он постоянно пребывал с народом: и на каких-либо торжествах, и в трудное для сограждан время. Часто и без охраны Траян любил посещать дома простых людей. И хотя он не получил хорошего образования, и не предавался каким-то там уж совершенно отвлечённым и заумным рассуждениям, но никто не мог его назвать простофилей или тем более глупцом.»
Я бы от себя ещё добавил: этот принцепс совсем мало тратил денег из казны на себя, но за то не жалел их для улучшения жизни сограждан.
И ещё, вслед за Дионом Кассием, и другими авторами, я добавлю…
Траян, как личность, был очень разносторонен. Он прославился не только своими успешными военными кампаниями, в ходе которых к империи были присоединены огромные территории (как в Европе, так и на Востоке), но и своей строительной деятельностью. Причём настоящая строительная лихорадка при нём развернулась не только в «Вечном городе» и в остальной Италии, но и затронула многие провинции. Как на Западе, так и в Азии, и в Северной Африке.
Проектировал и руководил строительством всех главных объектов в империи при Траяне выдающийся архитектор и личный друг принцепса, сирийский грек Аполлодор Дамаскин.
Только в столице, за двадцать с небольшим лет правления Траяна, были возведены сорокаметровая колонна его имени, ознаменовавшая победы римлян над даками, новый великолепный Форум, роскошные термы, базилики и очередной акведук, протянувшийся на десятки миль и улучшивший водоснабжение двухмиллионного столичного мегаполиса, безмерно разросшегося к тому времени по обоим берегам Тибра.
В тогдашних морских воротах Рима, в Остии, был построен огромный порт, который принимал одновременно десятки судов, ну а в провинциях, помимо храмов, терм и прочих общественно значимых сооружений появились новые мощённые дороги, протяжённостью в двадцать тысяч миль, а также был реконструирован и углублен канал, соединявший Средиземное и Красное моря, и позволивший наладить регулярную торговлю с Аравией, и даже с далёкой и сказочно богатой Индией и с ещё более дальним Цейлоном.
Ну а что сказать о Траяне не как о политике и правителе огромной империи, а как о полководце?
Думаю, что тут опять правомерно обратиться к Диону Кассию.
И вот что этот грек написал: «Среди римских полководцев его ещё при жизни причислили к одним из лучших. Его ставили на второе место после Юлия Цезаря. Ну а если сравнивали не только с римскими, то его включали в пятёрку самых талантливейших. После Александра Великого, Ганнибала, Пирра и Цезаря он замыкал пятёрку великих.
Можно сказать, что Траян был всегда готов возглавить армию и выступить в поход. Потому что ему довольно быстро надоедала праздная жизнь в роскошном дворце. Она ему прискучивала.
За то он редко снимал доспехи и его внешний облик выдавал в нём прежде всего не правителя, а военачальника.
В любом походе он не бросал легионеров, и твёрдой походкой шёл впереди. Вместе со своими легионами он переправлялся через реки и горы, попадавшиеся им на пути. При этом он в походе мог спать даже на земле, завернувшись в плащ. Он никому не передоверял командовать армией в решающих битвах, и нередко в молодости, и даже уже будучи принцепсом, сам возглавлял легионеров на поле боя.
Вот так описывали Траяна римские и греческие писатели, но давайте вновь вернёмся к этому принцепсу, как к политику.
Не стоит забывать, что он продолжил развивать алиментарную систему в империи (так именовалась система государственной поддержки малоимущих). Впрочем, справедливости ради надо сказать, что её начали внедрять ещё при предшественнике Траяна, при Нерве, однако при следующем принцепсе она набрала новые обороты и одним из ключевых её новшеств стало то, что в поддержке бедных граждан приняли участие помимо государства и различные частные фонды, в том числе созданные и поддержанные самой императорской семьёй.
Эти частные фонды тоже стали выплачивать пособия и раздавать бесплатно продукты питания малоимущим, а также детям сиротам и вдовам, ну а ещё они предоставляли и бесплатные зрелища (так, за счёт императорской семьи, устраивались гладиаторские бои и гонки колесниц на цирковых аренах).
При Траяне упорядочили работу и налоговой службы, отныне не сдиравшей с подданных по три шкуры и зачастую раньше обогащавшей самих мытарей. Смещены были с должностей многие халатные и не чистые на руку чиновники, и куда не коснись, везде проявлялись благотворные результаты его деятельности.
Поистине, Траян был великим и самым достойным правителем!
Но даже он, хотя и обладал неиссякаемой энергией и разнообразными талантами, не сумел бы совершить столько успешных дел и во-многом преобразовать империю, если бы у него не было не менее способных и талантливых сподвижников.
И одним из ближайших из них являлся Луций Лициний Сура.
***
Об этом друге Траяна мне тоже следует рассказать…
Сура по происхождению был иберийцем (то есть, не латинянином, а коренным испанцем) и родился в колонии Цельсе, располагавшейся в долине Эбро. Ещё его отец получил римское гражданство и сделал успешную карьеру по большей части на магистратской службе. Ну а вот Сура не пожелал идти по стопам отца. Вначале он проявил себя на юридической стезе, и быстро стал одним из самых знаменитых и востребованных адвокатов в Риме. К примеру, поэт Марк Валерий Марциал вообще его считал едва ли не величайшим оратором своего времени. Но после сорока Луций Лициний Сура надумал всё-таки сменить адвокатскую практику на военную карьеру. И вскоре его назначили легатом I Минервина легиона. Однако командовал он легионом сравнительно не долго и уже вскоре получил должность наместника в ранге консулярия. Вначале его отправили в Верхнюю Германию, а потом перевели в Белгику.
Расцвет карьеры Суры пришёлся на правление Флавиев, однако особое место он занял при Нерве. Именно в это время Сура приобрёл такую силу и авторитет, что во многом уже влиял на настроения различных фракций как в Сенате, так и при дворе. И когда Нерва, опасаясь преторианского бунта, обратился за советом к Суре, что ему делать, чтобы сохранить себе жизнь, то именно Сура и посоветовал престарелому и бессильному старику усыновить Марка Ульпия Траяна. И посоветовал Сура Траяна не только из-за того, что они оба были родом из Испании, но и потому ещё, что уже достаточно близко познакомились и подружились.
Луций Лициний Сура участвовал в обоих походах Траяна на Дакию, и даже при первом из них принцепс поручал ему вести переговоры с царём Децебалом. Примерно за полгода до второго похода, когда ближайший друг и соратник Траяна вернулся из Сирии в Рим, они встретились в Палатии, и у них там состоялся продолжительный и совершенно приватный разговор.
– Ну как тебе Восток? – спросил друга Траян.
Сура был старше принцепса, и это бросалось в глаза. Он был среднего роста, но скорее не коренаст, а сухощав, и виски у него рано поседели. Вид же у него был примечателен, потому что глаза у Суры, как у Александра Великого, были разноцветные. Левый глаз был голубой, а правый – зелёный. И помимо этого, на лбу у Суры часто собирались глубокие морщины, и такие же отходили от крыльев носа. Кожа же на щеках была не чистая, с заметными рябинками.
Сура поправил тогу, и только после этого ответил:
– Я так и не привык к Востоку, и к его нравам, Божественный…
– Из-за климата? Слишком он жаркий и трудно переносимый?
– Не только…
– А ещё из-за чего? Поясни.
– Ну как бы тебе сказать поточнее, Божественный? Восток – это другой мир! Он совершенно не похож на наш! Ла-а-адно, ещё Сирия, Египет, Иудея и другие наши провинции на Востоке… они уже давно и изрядно эллинизировались, и потому там как-то можно нам приспособиться и ужиться, и нас местные не воспринимают как совсем уж чужих, некоторые из них даже поклоняются нашим богам и говорят на нашем языке, на греческом или на латинском, но вот да-альше… Если отправиться за Евфрат…В ту же Парфию… Или в Месопотамию… О-о, там, Божественный, совсем уже другой мир.
Траян в ответ не сдержался и усмехнулся:
– Я тоже успел побывать на Востоке, правда это было давно… И мне не показалось, что он такой уж непонятный, и с нами совершенно несовместим.
– А почему ты меня об этом сейчас спрашиваешь? – немного удивился данному вопросу принцепса Сура.
– А потому, – продолжил Траян, – что я задумал новый поход…
– Неужели на Восток? На Парфию?
– Да! На Парфию!
Сура в замешательстве покачал головой:
– Ну и ну… Божественный, ну а ты представляешь, какие на тебя и на наши легионы выпадут трудности и какие нас подстерегают опасности? Ведь там, на Востоке, безводные пески, полноводные реки, высочайшие горы, огромные и почти безлюдные пространства… И зачастую там будут встречаться совсем дикие племена…
– Представляю! Но я вот что на это скажу… Однажды Александр Великий уже прошёл через всю Азию и достиг Индии, так почему мы за ним не сможем этого повторить?
– Александр Великий? Но он же был гением! Непревзойдённым в военном деле!
– Ну и что? А я его постараюсь превзойти! – произнёс Траян.
В конце концов, Траян убедил друга в том, что грандиозный поход на Восток, сравнимый с походом Александра Великого, вполне осуществим. Но для его начала необходимо было подготовиться, и ещё кое-что сделать.
А что именно необходимо было сделать, Траян тоже Суре при том их приватном разговоре объяснил.
– Ты считаешь, Божественный, что перед походом на Парфию следует разделаться с даками? – переспросил принцепса Сура.
– Разумеется. Именно так я считаю. Это нам необходимо! И я объясню, почему на этот раз мы должны с даками разделаться окончательно! – заявил принцепс. – Перед тем как наступать на Восток, нам следует обезопасить свой тыл, – продолжил Траян. – И поэтому Дакия должна быть повержена! Её не должно быть!
Траян о чём-то задумался, и только после некоторой паузы задал ещё один вопрос самому близкому своему другу, которому он всецело и во всём доверял:
– А вот скажи мне, Сура, насколько царь даков подвержен внешнему влиянию? Он и впрямь вспыльчив? Что, Децебал, как неразумный мальчишка, чрезвычайно вспыльчив и чрезмерно горяч? Ты же вёл с ним переговоры и лично познакомился с царём даков. Мне необходимо это всё знать… Для того, чтобы, в том числе, вынудить его выступить против империи.
Сура обстоятельно ответил на этот вопрос. Он сказал, что царь даков был всегда горяч, и иногда горячность эта приводила его к непродуманным поступкам, а иногда она даже переходила в безрассудство, но в последние годы Децебал стал меняться. Он уже стал сдержаннее и набрался мудрости. Хотя и по-прежнему у него в груди бьётся львиное сердце, и он, как и Траян, прежде всего не правитель, а истинный и бесстрашный воин.
Выслушав Суру до конца, принцепс многозначительно заметил:
– Ну, ничего, ни-и-ичего, я всё-таки сделаю так, что он мне даст повод объявить ему войну… Пусть Сенат пока и против этой войны, но я её развяжу… Потому что без этого я не смогу приступить к походу на Парфию, и к завоеванию всего Востока!
И действительно, Траян сумел спровоцировать нападение дакийского полководца Котиса на приграничные римские укрепления, и после этого развязал Вторую Дакийскую кампанию.
***
Сура возглавил отдельную римскую колонну, которая с некоторым опозданием двигалась к сердцу Дакии немного севернее главной.
Пробиться в лоб к столице даков, через ущелье Бауты, пока не удавалось. Хотя и по всему чувствовалось, что сопротивление даков с каждым днём всё заметнее ослабевало.
Траян поинтересовался у командира своих паннонских разведчиков Тиберия Клавдия Максима:
– Что слышно о Суре и о его легионах?
– Пока что ничего не могу сказать, Божественный, – развёл руками разведчик. – Уже неделю, как мы с проконсулом Сурой не связывались.
– А что известно о Квиете?
– Кажется, он уже занял Орлиное… – ответил Тиберий Клавдий Максим.
Принцепс удовлетворённо покачал головой:
– Это хорошая новость… Я очень надеюсь на трибуна Квиета. Впрочем, он и прежде никогда меня не подводил. Так что он не должен пропустить северных варваров через перевал Орлиный.
***
Ну а что же сейчас происходило на пути к столице Дакии с Юго-Запада, где продвигалась главная колонна имперской армии?
А там происходило сейчас вот что…
Прошло примерно около недели после того, как поверив в слух, что Траян находится при смерти, и решив воспользоваться наступившей сумятицей в стане врага, даки напали на римский лагерь. И после этого нападения они понесли тяжёлые потери. И теперь римляне беспрерывно атаковали Редизона, и силы его отряда, защищавшего ущелье, таяли прямо на глазах.
Скорио взял командование отрядом на себя, а тяжело раненного отца отправил в тыл.
Скорио понимал, что римляне со дня на день их дожмут и прорвут оборону даков, и после этого им уже ничто не помешает пройти до столицы царства, а там… А вот там Децебалу придётся за Сармизегетусу сражаться. И сражаться в невыгодных для него условиях. Потому что помощь с Севера ещё явно не подошла. Да и потому, что царь даков ещё не успел собрать все свои отряды.
И вот, в этом, казалось бы, совершенно безнадёжном положении, Скорио видел только один выход… Необходимо было в ущелье Бауты задействовать главную ударную силу даков, хотя бы половину того отряда, который состоял из наиболее обученных и опытных воинов, вооружённых ромфеями – страшными серповидными двуручными мечами, и которыми эти воины могли сокрушить любого противника.
И вот Скорио послал гонца к царю, чтобы тот направил на подмогу хотя бы часть этого отряда, состоявшего из нескольких тысяч отборных меченосцев, наводивших ужас на всех, и в том числе даже на римлян.
***
На востоке забрезжил рассвет. Скорио его встретил на ногах и уже прошёл по всем постам, проверив, как готовились его воины к очередной атаке римлян. А уже через час с небольшим во всех трёх римских лагерях, устроенных перед ущельем, ожили буцины и тубы, и меньше чем через час римляне вновь выстроились в так называемые «черепахи» и пошли в атаку на даков.
Двигались римляне уверенно и неудержимо.
– Ба-ар-р-ра!
– Ба-а-ар-р-р-а-а!!
– Ба-а-а-ар-р-р-р-ра-а!!!
Вновь разнёсся обычный римский воинский кличь по ущелью и его окрестностям, и эхо охотно подхватило его и разнесло ещё дальше.
Римляне накатывались волнами, одна их волна сменялась другой, и примерно к полудню, после нескольких часов их беспрерывных и упорных атак, даки совершенно выдохлись и обессилили.
Скорио, подбадривая своих людей, сам возглавил отчаянную контратаку. Он успел поразить трёх легионеров, и тут…
Откуда-то прилетела римская стрела и поразила его в грудь. Он еле-еле выдернул её, пошатнулся и упал. Тут же кто-то с боку ударил его мечом. Удар пришёлся на голову, но юношу спас шлём с гребнем. Два воина, бившихся с ним рядом, успели его оттащить от первой линии обороны, где продолжалась беспощадная рубка, и накрыли своими плащами. Голова у юноши кружилась, ему было трудно дышать, и он чувствовал, что уже теряет сознание…
«Не выдержим… Римляне прорвутся… Э-эх, не удалось нам выполнить приказ царя…Неужели всё пропало?» – в отчаянии пронеслась мысль в голове раненного Скорио.
И уже совсем теряя сознание он всё-таки услышал, как из рядов его воинов разнеслись воодушевлённые крики:
– Замолксис нас не оставил!
– Он по-прежнему с нами!!!
– Не сдаёмся, братья!!! Бьёмся!!!
– Славься, Замолксис!!!
– Сла-авься!!!
У Скорио впервые за последние дни на лице появилась слабая улыбка и он понял, что отборные дакийские меченосцы, хотя и в самую последнюю минуту, но успели подойти на помощь к защитникам ущелья, и даки и на этот раз всё же смогли отстоять свои позиции.
Римляне через ущелье Бауты так и не прорвались.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Замок Рамизадава являлся одной из самых впечатляющих твердынь в Дакии и располагался на крайнем Востоке царства. Он был практически неприступным и негласно считался, как бы второй резиденцией дакийских правителей, и именно сюда Децебал отправил свою семью и часть царских сокровищ. Подальше от опасностей, которые сулило неожиданное вторжение римлян.
Замок этот увенчивал отвесную скалу и сложен был из внушительных каменных глыб и представлял в плане неправильный четырёхугольник с семью башнями. Так называемая Дозорная башня, была самой высокой и располагалась на западной стороне этого замка. Здесь же находились и единственные его ворота.
А у подножия этой скалы располагался одноимённый небольшой городок с населением не больше трёх тысяч жителей, и несколько ещё меньших по размеру поселений.
Супруга царя Андрада и его дочь Тиссия уже на третий день по прибытию в замок освоились в нём. Они заняли так называемый дворец, тоже выложенное из камня внушительное здание в три этажа и состоявшее из двадцати восьми комнат, и имевшее внутренний дворик, и даже открытый и достаточно глубокий бассейн, предназначенный для омовений.
Сопровождавшие их слуги расставили любимые Андрадой скульптуры, развесили картины по стенам (в том числе и ту самую копию, обожаемую Андрадой, на которой знаменитый греческий художник Апеллес изобразил «Похищение Зевсом Европы»), поставили привычную мебель.
Рядом с этой резиденцией располагались семь цистерн для воды. В них собиралась так необходимая для обитателей этой твердыни влага, которую – если наступал засушливый сезон – брали из ближайших источников.
Ею заполняли бурдюки, грузили их на осликов, и поднимали по одной единственной извилистой тропинке, которая вела к воротам Рамизадавы.
Охрану замка составляли царские телохранители, хорошо вооружённые и опытные воины. И им приказано было даже даков из близлежащих поселений без особого на то разрешения в Рамизадаву не пропускать.
***
Андраду вновь преследовали ночные кошмары, она из-за этого плохо спала и часто поздно вставала. Так и на этот раз ей опять привиделось нечто… Какое-то чудовище, которое гонялось за ней. Но на этот раз это были не огромный козлище, и не медведь-шатун или кто-то ещё, а внушительных размеров и весь заросший длиной шерстью бык. Прямо какой-то минотавр. Но бык особенный. У него была человеческая голова, увенчанная изогнутыми рогами.
Этот бык, в конце концов, нагнал царицу и начал её бодать.
Андрада в лице этого страшного человеко-быка узнала римского повелителя Траяна, которого изображали на имперских монетах, и которые ходили в Дакии на ряду с местными котизонами. «Да, это был он, этот римский император! Он зловеще при этом улыбался. Даже нет, не улыбался, а скалился. При этом у него показывались внушительные кинжалы-клыки!»
От ужаса Андрада закричала и проснулась.
Тут же появилась Тиссия.
Дочь спала в соседней спальне и прибежала на крик матери.
– Что с тобой? – встревоженно спросила Тиссия. – У тебя опять был плохой сон? Тебя опять донимали кошмары?
– Ничего-ничего, не бери в голову… Всё хорошо… – попыталась Андрада успокоить встревоженную дочь.
– Но ты же та-а-ак громко кричала? – возразила обеспокоенная Тиссия.
– Да-а-а… сон мне приснился… – призналась дочери Андрада. – Не очень приятный…
– Ну что, и опять кошмарный?
Андрада закивала головой.
Тиссия обняла мать и поцеловала её в щёку, и после прошептала:
– Успокойся, мамочка… Всё у нас будет так, как мы ждём… Ведь римляне уже не в первой к нам в Дакию вторгаются, ну и что из того? Мы же всё равно выживали, и будем и дальше выживать. Отец у нас самый смелый, самый умный, и самый сильный! Он самый-самый! И его никто не сможет победить! А римляне… А что римляне? Они уйдут. Я верю в это. И я так же верю, что всесильный Замолксис по-прежнему на нашей стороне! Замолксис нам поможет, он нас обязательно спасёт!
Андрада в свою очередь приласкала дочь и спросила её:
– А тебе что снится?
Тиссия в ответ замялась, но Андрада вынудила дочь признаться, и та, густо-густо покраснев, тихим голосом всё же ей призналась:
– А мне вот снится… один юноша…
– Я его знаю? Кто это? – во взгляде Андрады загорелось неподдельное любопытство.
Тиссия долго отнекивалась, однако Андрада смогла выяснить, по ком вздыхала её дочь.
– Э-это сын военачальника Редизона…– наконец-то, призналась Тиссия.
– Скорио?!
– … Д-да, мамочка… – совсем уже тихим и дрогнувшим от волнения голосом подтвердила догадку Андрады Тиссия.
Тиссия уже который год вздыхала по этому юноше, но Скорио об этом даже не догадывался. Она впервые в этом своём чувстве призналась. Скорио и Тиссия знали друг друга с самого детства, потому что оба они воспитывались в Сармизегетусе при царском дворе. Только Скорио был постарше и поэтому защищал Тиссию, особенно от Котизона, её брата, который вечно пытался обидеть её.
Андрада ещё крепче прижала к себе дочь и прошептала ей на ушко:
– Если тебе так нравится он, этот самый юноша, этот Скорио, то мы с твоим отцом всё устроим… Вы со Скорио поженитесь. Но надо лишь только дождаться окончание этой проклятой войны…Когда к себе уберутся римляне.
На смягчившееся было лицо Андрады внезапно вновь легла тень.
Супруга Децебала произнесла:
– А меня вот тревожит ещё кое-что…
– Что мама?
– Неизвестность… Я не знаю, что с твоими дедушкой и бабушкой? Добрались ли они до безопасного места? Всё ли у них сейчас хорошо?
– А что?
– Уже два месяца мне о них ничего не известно…
И Андрада тяжело вздохнула.
***
А Сармизегетуса тем временем готовилась к предстоящей схватке.
Лишь только Децебал отправил гонца к вождю Северных дайесов Пирусту с приказом разблокировать ущелье Орлиное, и вернулся во дворец в Сармизегетусе, как тотчас же, без какого-либо предупреждения, перед ним появился Регибал.
Регибал сейчас был странным. Он был сам не свой. Брат жены царя ещё с большим трудом передвигался, губы у него заметно дрожали и лицо было совсем бледным:
– Ту-у-ут… тут вот какое дело…– На глазах Регибала навернулись слёзы, и он даже по бабьи не удержался и всхлипнул: – Бе-е-еда… Б-бо-ольшая беда у н-нас! О-о-ой, беда-а-а, царь!
Децебал был недоволен, что Регибал сейчас отвлекал его от важных дел, но он всё-таки согласился выслушать родственника.
Регибал вновь всхлипнул по бабьи и изменившимся голосом, который стал уже почти совсем писклявым, продолжил:
– Я о-отправил недавно наших с Андрадой р-родителей в своё с-самоё удалённое поместье, к-которое находится на с-севере, высоко в г-горах. И-и-и… и только что узнал, что их… Что они… Что они… О-они попали в р-руки…
– Да говори же яснее! – рассердился Децебал на родственника, потому что тот никак не мог толком объяснить, что у него произошло, и всё продолжал мямлить, запинаться и жевать сопли.
– Они з-з…з-за-а… они з-захвачены… И-их схватили… р-римляне…
От услышанного у Децебала заходили желваки. Его эта новость тоже вывела из себя.
Вскоре выяснилось, что Бесистис и Верия, родители Регибала и Андрады, захвачены были действительно римскими воинами, чёрными и похожими на каких-то потусторонних оборотней или, как прозвали их уже некоторые даки, чёрными духами.
Децебал тут же вслед за первым гонцом, отправил к Пирусту второго, с новым приказом: немедленно двигаться не к перевалу Орлиному, а повернуть несколько в сторону, и освободить родителей супруги.
***
Высокогорье есть высокогорье. В нём обычно мало кто появляется. Даже горные козлы здесь бывают редкими гостями. Только орлы в эти края залетают. Да и то, лишь изредка.
И потому поместье Орудава производило впечатление совершенно вымершего места. Но сейчас в этом поместье стало шумно, так как людей в нём прибавилось, и добавилось их весьма значительно.
Квиет, оставляя Цельзия в этом поместье, велел ему не спускать глаз с родителей супруги дакийского царя. Это, конечно же, была очень ценная добыча, и этих ближайших царских родственников следовало по возможности сохранить для Траяна, и доставить их к принцепсу уже в целостности и сохранности, и тогда, когда это станет возможным.
Ну а пока…
Пока же у Квиета для этого не было лишних людей.
Цельзию в Орудаве было скучно, однако он крепился и какое-то время всё же как-то, но держался. Впрочем, делать ему было нечего, и вскоре, найдя в подвалах поместья несколько объёмных амфор с вином, префект алы этому несказанно обрадовался, и сорвался в запой. Уж вино-то он любил, и особенно неразбавленное. А тут над Цельзием сверху никого не было, и никто его не мог удержать…
И вот, на пятый день его затянувшегося запоя, случилось непредвиденное. Три сотни дакийских всадников, которых возглавил лично вождь Пируст, ранним утром подобрались скрытно к Орудаве и напали на неё с разных сторон.
***
Три десятка нумидийцев, мавретанцев и негров Цельзия не представляли для нескольких сот даков какого-либо серьёзного препятствия, и, к тому же, их командир был в безсознательном состоянии, и потому они не смогли долго сопротивляться и вскоре все полегли под мечами и стрелами нападавших.
Самого же Цельзия, который в это время даже не очухался и был по-прежнему вдрызг пьян, нашли в винном подвале и приволокли к вождю Северных дайесов.
Пируст брезгливо осмотрел мало что соображавшего римлянина, и велел его облить холодной водой.
Только с третьего раза Цельзий немного очухался и приоткрыл глаза.
Пируст подозвал к себе дака, который понимал немного латынь, и велел ему спросить у пленного:
– Какого племени вы, пришельцы? И сколько вас?
Дак перевёл слова вождя.
Цельзий удивлённо уставился на Пируста:
– А ты кто? – произнёс не очухавшийся ещё до конца Цельзий. – Ты мне не привиделся, дак? Ты – оборотень?! И-и-или призрак?
– Нет, я не привиделся! И не оборотень! – брезгливо усмехнулся Пируст. И тут же он добавил: – Кто я? Я – дак! И мы все здесь – даки! И это наша земля! А вот вы то, что здесь делаете? Вы что у нас потеряли, римляне?
Пируст велел ещё окатить холодной водой Цельзия. И только после этого тот пришёл в себя окончательно. И уже не на шутку перепугался.
Узнав от Цельзия, что когорта трибуна Квиета в количестве тысячи всадников, перекрыла перевал Орлиный и готовится не пропустить в Дакийское царство армию союзников Децебала, Пируст велел сбросить префекта Цельзия со скалы.
Когда префекта два дака схватили и поволокли к скале, он всё понял и от страха начал кричать и молить о пощаде.
Но Пируст не пожелал захваченному воину Траяна даровать жизнь.
Так бесславно закончил свои дни старый товарищ Квиета.
***
А тем временем когорта VIII Ульпиева основательно готовилась к защите перевала, называвшегося у праславян и у их соседей даков Орлиным (как я ранее отмечал, ныне этот перевал называется Яблонецким).
Но на перевале Орлином пока что было тихо. Однако каждый день Квиет проверял, что сделали его воины, и ждал. Со дня на день отряды северных племён должны были появиться на подступах к Орлиному. И вот, на четырнадцатый день, после того, как когорта Квиета подошла к перевалу, на подступах к нему появились первые разведывательные разъезды северных племён.
Об этом трибуну незамедлительно было доложено.
Перед трибуном Квиетом появился командир разведчиков Гиемпсал.
Они с Квиетом отошли в сторону, чтобы их разговор никто не услышал, и нумидиец произнёс:
– Через день-два на перевале должны появится отряды союзников царя Децебала. В каком количестве они будут, можно только приблизительно сказать. Мои люди за ними наблюдают и с их слов, армия северных варваров не маленькая, она явно превышает тридцать тысяч…
– О-ого-о! – Квиет невольно свёл брови. – Значит их ещё больше, чем мы думали!
– Да, их явно больше, трибун!
– Ну что же, этого и следовало ожидать… – произнёс Квиет. – Всё только-только начинается… Э-эх, надолго ли нам удастся на этом перевале продержаться?.. Хотя о чём я?! Это только одним богам известно… – уже как бы сам с собой разговаривая, произнёс Лузий Квиет.
И дальше о чём-либо говорить он не захотел. Теперь он и вся его когорта были во власти Фротуны. Им предстояло биться за этот перевал на смерть! И другого выхода у них не было.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Собравшиеся вожди не пожелали оспаривать у Драговита общее командование и передали его с охотой и вполне добровольно, ну а в Тамасидаве он за себя оставил Воислава, и поручил старшему сыну с семью тысячами воев и частью дружины охранять рубежи карпского племенного союза.
Однако, после того, как Драговит с Фарзоном породнились, князь уже не сильно беспокоился за роксоланскую границу. Всё-таки любимица Фарзона, единственная дочь его, своенравная Савлея вышла замуж за старшего сына князя.
Многотысячная армия северных племён, в которую входили не только пешие и конные воины, но и обоз, растянулась на пол дня пути, однако до перевала Орлиного она продвигалась ускоренным маршем, не делая никаких продолжительных остановок. Следовало торопиться. Час развязки в противоборстве даков с Траяном неминуемо приближался.
И вот, армия северян, преодолев несколько водных преград, уже оказалась на подступах к этому перевалу. И там действительно дальнейшее её продвижение преграждали откуда-то взявшиеся странные римляне. Когорта очень необычных темнокожих римских воинов, которая основательно укрепилась на перевале, в самом его узком месте.
В нём, в этом месте, была выстроена стена высотою примерно в полтора человеческих роста. Она была устроена из сосновых брёвен. Причём с права эта стена упиралась в скалу, а слева граничила с отвесной пропастью, и это укрепление никак нельзя было обойти.
Впрочем, предусмотрительному Квиету этого показалось недостаточно, и он приказал своим воинам воздвигнуть на некотором удаление ещё одну стену, и эта вторая стена уже прикрывала когорту с юга, со стороны даков. А с южной, дакийской стороны тоже могло последовать нападение. Трибун Квиет этого не исключал, потому что даки уже знали о VIII отдельной номерной когорте, которая произвела дерзкий рейд и оказалась у них в глубоком тылу.
В этой импровизированной крепости, которую римляне создали за считанные дни, была воздвигнута даже башня, на которой теперь постоянно находились дозорные.
Когда армия северных племён подошла к расположению римской когорты, то она не стала окапываться, а решила с ходу прорвать оборонительные укрепления воинов Траяна. Драговит послал вперёд конников бастарнов из племени пиквинов во главе с их вождём, медвежеподобным увальнем Клондиком.
По обыкновению, к атаке бастарны начали готовиться заранее. Они нанесли на свои лица боевую раскраску и стали настраивать себя на воинственный лад. Как я уже отмечал, бастарны хотя и являлись кельтами, но у них не мало имелось и германской крови, и особенно это проявлялось, когда они выступали в поход и сражались с кем-либо. Вот и сейчас они, как бы разогревая себя, начали исполнять бардит.
Что такое бардит? О-о, римляне, прослужившие на Германском лимесе, хорошо знали, что это!
Это была германская воинственная песня, переходившая постепенно в невообразимые вопли и устрашающий вой. И она должна была ещё до столкновения сломить волю врага и привести его в смятение и ужас.
Бастарны стали раскачиваться и потрясать своими секирами, которыми они орудовали с необыкновенной ловкостью. У Клондика была самая большая секира, тяжёлая, обоюдоострая, и он первым прервал бардит и по-звериному зарычал, а затем вскочил на ноги и истошно завопил:
– С нами Один! Он смотрит на нас!!! О-о-оди-ин!!! Он жаждет крови!!!
– О-оди-ин!!!
– О-о-оди-и-ин!!!
– Пи-и-икви-и-ины-ы, в атаку!!!
– Над нами уже витают прекрасные девы-валькирии!!! И они призывают к себе!!!
– Вальхалла ждёт нас!!!
Поддержали вождя Клондика остальные всадники бастарны из племени пиквинов, и они тут же разом сорвались с места.
Конная лава бастарнов-пиквинов стремительно сближалась с укреплением римской когорты.
Квиет приказал своим воинам приготовить луки и по его команде стрелять.
***
Уже вскоре конные бастарны совсем приблизились, и Лузий Квиет что есть мочи отрывисто закричал:
– Натянуть тетивы луков!!! Стре-е-еляйте по моей команде!!!
Нумидийцы, мавретанцы и негры произвели залп из луков и пращей, и около двух десятков бастарнов слетели со своих коней. Некоторые из них тут же отправились на свидание с небесными валькириями. Остальные же всадники спешились и продолжая взывать к богу войны Одину, бросились стремглав вперёд.
Вот бастарны достигли укрепления и стали через его стену перепрыгивать. Что для этого они проделывали? А им не понадобились лестницы или ещё какие-нибудь дополнительные приспособления. Они быстро изловчились. Так они вскакивали на подставленные щиты товарищей, и уже с них прыгали внутрь римского укрепления. Вскоре за стеной оказалось больше пяти десятков бастарнов и они, орудуя секирами, начали оттеснять воинов Квиета от бревенчатой стены.
Квиет увидел это и сразу понял, что начала назревать чрезвычайно опасная ситуация, и тогда он призвал на помощь своих самых близких друзей:
– Кварт! Ша-а-адар! Вы где-е-е?! Ко мне! На помощь!
– Мы здесь! – закричали оба ближайших друга Квиета.
– Вспомним, как мы сражались в цирке Флавиев против разъярённых германцев! Когда мы были в меньшинстве!!! Мы же – по-прежнему с вами кто? Вы не забыли? Мы – гладиаторы!!! Разве не так?!
– Верно, Лузий!
– Ты прав, мы по-прежнему с тобой!!! Как и тогда, в Риме, на арене цирка!!!
– Один за всех! И все – за одного! Мы – гладиаторы!!! – поддержали одновременно своего друга Кварт и Шадар.
И в едином порыве они бросились вслед за Квиетом на бастарнов.
Ярость бывших гладиаторов была неукротима.
