Бабочка – или смерть. Стихи из Новой Таволжанки
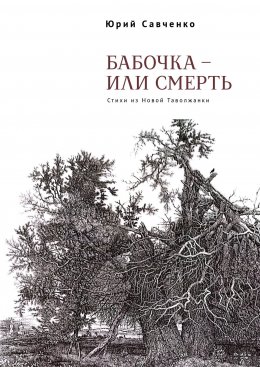
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ
© Ю. Э. Савченко, 2025
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2025
Свет завета, или Синий вечер Юрия Савченеко
О кончине русской поэзии кто только ни высказывался. Даже наши замечательные стихотворцы – современники, не говоря о людях, далёких от «поэзии в виде стихов», как выразился известный киношный персонаж. Тем не менее, жизнь жительствует и преподносит нам отрадные подарки.
Книга Юрия Савченко «Бабочка – или смерть», пятая изданная по счету, проникнута тем же несякнущим светом единства мира и человеческой души, что и предшествующие публикации. В нее вошли избранные лирические стихотворения, написанные с 2015 по 2024 гг. в белгородском селе Новая Таволжанка, с начала СВО находящемся под обстрелом. Новая книжка поэта, как и предыдущая, «Стрежень живого разлома. Стихи военного пограничья(Белгород, 2024), тоже впитала «дымный воздух фронтовой полосы южного Белогорья», и в неё тоже включены стихи, обращенные к сыну, сражавшемуся и тяжело раненному на Сватовском направлении на Луганщине.
Удивленные явлению «настоящего поэта», который продолжает вести жизнь почти закрытую, в то время как эфир забит «порожняком» или «диавольским теньканьем» (определение И. Баха), что мы скажем, когда прошла первая оторопь знакомства?
Что лирика Савченко – лаконична; и за это поэту – отдельная читательская благодарность.
Что лирика Савченко – мелодична. В поэзии немаловажна только мысль, но и звук. Орфическая традиция побуждает к пониманию, что читаемое произведение заходит в нас, прежде всего, своим мелосом, интонацией – даже если мы читаем глазами, а слушаем. Я бы сказал, что речь следует вести о «звукосмысле» об этом осмелился написать великому Г. В. Свиридову).
Поэт Савченко никогда не забывает о внутреннем звуке стихотворения. Краесогласие, или, как говорила одна харьковская подружка Есенина, «рыфмочка» (поэт ее так и звал), важно, конечно, но не менее интересен звуковой гул, катящийся по строке или по строфе далее. Однако важна мера, золотое сечение, как всегда в искусстве или инженерии.
Сочинения Савченко инструментованы виртуозно. Это ненарочито предъявлено мастером уже в первой книге, «Вкус полыни» Москва, 1996), карманного формата, 64–страничной, стихи из которой, по моему мнению, следует переиздать – они не должны пройти стороной, как проходит косой дождь».
И как грунтовка подсвечивает изнутри живописное полотно, пуще сказать, как левкас икону, стихи этого поэта подсвечены звуком. Ткётся звуковая ткань иногда сразу несколькими мелическими нитями сразу.
В нашей частной беседе поэт прокомментировал «музыкальный вопрос» в том духе, что надо не конструировать строки, а «просто видеть картину и провязывать слова, как нити, пропуская их сквозь слуховые фильтры». О такой «лёгкости» говорил М. Булгаков, мол, пьесы писать очень просто: достаточно представить в воображении сцену, словно в сказочной коробочке, и размещенные в ней персонажи заговорят «сами собой».
Еще одна особенность поэтики Ю. Савченко – непостижимое соединение льда и пламени в сосуде одного стихотворения. Классика стихосложения требует, чтобы «поверхность», лицо произведения оставалось спокойным. И этим аристократическим мастерством владеет наш автор.
Поэт видит «синий вечер», – будто давно усвоил утверждение русского живописца, «мир – искуссника» Константина Сомова, считавшего, что заданием для художника является передача того неуловимого состояния, <света>, когда день переходит в ночь.
В новой книге, отражающей контекст нынешнего, сельского бытия автора, восхищает обилие и различие подаваемых читателю состояний природы, включая животный и растительный мир. Казалось бы, при таком чтении можно устать от «однообразия содержания, ан нет! – стихов вообще много подряд не прочтешь, а уж если, как в случае Савченко, мы имеем дело с космизмом, отсылающим читателя к традиции Фета и Тютчева (притом очень разным!), если мы слышим эхо Басё или видим отсвет пророков Востока, если автор ретранслирует нам Свет Завета и, в конце концов, напоминает нам о том, что больно не только людям, но и всему живому, претерпевающему смертные муки по вине «человека воюющего», то торопиться и подавно не получится.
То есть в стихах Савченко перед нами открывается «пейзаж предстояния», скажем так, а можно назвать его философским, вспомнить классические стихи этой традиции, к примеру, лермонтовское «Выхожу один я на дорогу…». Наш современник пишет тонко очеловеченный пейзаж – ма́стерской умной кистью, незаурядным языком с обширным словарем. Это первые слои восприятия, так сказать, – природа и человек в контексте природы и неизменного присутствия Господа (новое измерение, невещественное).
Замечательно стихотворение «Пусть гаубица – валькирия / Невмерлых вбивает в гроб», написанное, что называется, на днях, строка которого дала название книге. Окончание это опуса:
- Хотя бы к Покрову зябкому
- С укропом своим успеть,
- А там уже будь по – всякому:
- Бабочка – или смерть.
- А гаубицы – валькирии,
- Как молнии, бьют и бьют,
- Где солнечные подалирии
- Саваны жизни ткут.
«Саваны жизни» – троп преизрядный, невиданный. Тезис «Бабочка – или смерть», конечно, сначала побуждает вспомнить девиз испанских антифашистов и свободной Кубы «Родина или смерть» (в оригинале Patria o muerte), но мы не забываем и об изобилии прекрасных бабочек в русской поэзии, а также в китайской японской. И стократ полней открываются грандиозные (на мой взгляд) образ и посыл из процитированного стихотворения, если припомнить, что русские мыслители Василий Розанов и отец Павел Флоренский называли бабочку «энтелехией» (внутренней силой, Аристотелю), душой гусеницы и куколки, словно утверждая: бабочка – лучшее, что есть в этом существе. То есть мысль о бабочке вырастает из краеугольной идеи христианства о безсмертии души; гусеница, куколка и бабочка являются, с одной стороны, как бы разными, совершенно не похожими друг на друга существами, но, с другой, остаются фазами развития одного и того же существа. Вопрос гусенице, куколке и бабочке – которое же "я" их?» Розанов задал своим друзьям – Каптереву и Флоренскому, «естественнику» и священнику. Ответ о. Павла был удивительно глубок и точен: «конечно, бабочка есть энтелехия гусеницы и куколки».
Подобстрельная жизнь на «живом разломе» формирует и поэтическую речь. Но даже в таких обстоятельствах поэт находит возможность улыбнуться, – краешком губ, с частушечной интонацией, то и с блистательным сарказмом. Поэту Савченко свойственно порой открыто выходить на песенный простор. Вот строки из книги Стрежень живого разлома»:
- Теперь слова чуть – чуть иные
- У жёстких песен фронтовых:
- В них бьют по сердцу – запятые,
- И многоточия – под дых.
- Их про себя твердит пехота
- Под восклицания арты.
- В них слышен ритм гранатомёта,
- Что скальп сдирает с высоты…
А вот финал глубокого сочинения «Божественное – в беспредельном знает меру…» из той же книги:
- И до кипенья раскалёнными стволами
- О мире с миром говорящая война.
Автор вообще нередко афористичен:
- Любовь и право – двуедины,
- Но право без любви – война.
И в новой книге находим несколько сочинений, адресованных сыну Александру:
- Хмурится горизонт,
- К ночи суля метели.
- Ближе бой… Неужели
- Снова провален фронт?
- Выдержать. Устоять.
- Духа нам даруй, Боже,
- Пусть Он, как дрожь по коже,
- Нашу охватит рать!
Ещё в предисловии к книге Ю. Савченко «Судьба, не торопи…(Москва, 2004), поэт Фёдор Черепанов, в прошлом атаман казачьей общины Усть – Каменогорска, сформулировал: «Серьёзность отношения к слову – вот первое ощущение от поэзии Юрия Савченко. Оно возникает буквально при приближении к его стихам и требует от читателя ответной душевной собранности. Сосредоточенность их на главном подчас граничит с художественной аскетичностью, но это – царственная аскетичность».
Под этим углом посмотрим на стихотворение «Дом» (24 июня 2023 г.), обстоятельства появления которого нам ясны:
- Дом стоит, как прежде, войне назло, —
- Пусть прошёлся враг, осквернил село,
- Пусть неровен час, непокоен лес,
- Пусть не всё упало ещё с небес.
Как мы знаем теперь, с небес падает не только благодать, не только манна, но и натовские ракеты. И наверняка не просто так падают, и только потому, что таков сценарий «мировой закулисы», убеждён поэт: они нас чему – то должны научить…
- Забрезжит свет под увертюру миномёта,
- Вспоёт петух – и паузу возьмёт.
- Она висит, неслышимая нота,
- И, как струна, натянут небосвод.
- Немного погодя рассыпется сорочий
- Шальной короткий холостой заряд,
- И флейты птиц, гоня остатки ночи,
- Без партитуры враз заговорят.
- Какой тут сон? – и то, что снилось,
- не припомнишь,
- Бьёт миномёт, но птиц не удержать,
- И жизнь, похоже, держится на том лишь,
- О чём живому невозможно знать.
Сочинение, датированное 14 июня 23 г., дает повод вспомнить, особенно двумя последними строками, философскую лирику Тютчева и, на мой взгляд, воронежца Алексея Прасолова 1930–1972).
Поэт свое село покидает крайне редко, живые контакты минимизировал, растит с женой Валентиной розы и даже под каждодневным обстрелом пишет стихи, достойные пристального внимания любителей отечественной словесности, самого взыскательного читателя, тем самым занося в земные и небесные скрижали родную Новую Таволжанку.
Станислав Минаков
«Осень подёрнула охрой и хною…»
- Осень подёрнула охрой и хною
- Тощей травы межевую косу.
- Пёстро мелькает сквозь блёклую хво́ю
- Смелая сойка в сосновом лесу.
- Пахнет с горчинкой наследие лета, —
- Всё ещё дышит живая листва,
- Но и тепла, и короткого света
- Ей напоследок хватает едва…
- Жизнь умолкает, зовёт примириться,
- Не упуская насытиться впрок
- Ягодой, шишкой, метёлкой щирицы,
- Сыпью зерна вдоль обочин дорог.
- И ни печали в ней, ни сожаленья, —
- Всё принимает, открыта, проста,
- Как зимородок, застыв на мгновенье,
- В тёмную воду ныряет с моста.
«Сине́е высь над золотом берёз…»
- Сине́е высь над золотом берёз,
- И строже даль в сентябрьской благостыне.
- Я столько грусти осени принёс! —
- И вся она растаяла, как иней.
- Я снова чист, как этот небосвод,
- Взывая запоздалым жаворо́нком:
- – Свети, свети! – и так, разинув рот,
- Стою под солнцем в оглашенье звонком.
- О, ты, пора невыдуманных слов,
- Смиренной неги вянущего мира!
- О, как наряд твоих осин пунцов,
- И гладь полей задумчива и сира!..
- Молитвен трав твоих, упавших ниц,
- Ещё зелёный, шёпот под ногою,
- Неповторим прохладною зарёю
- Твой ритуал мышкующих лисиц.
- Как долго, как таинственно горит
- Над горизонтом дымное светило!
- И как звезда с землёю говорит —
- О том в ночи, чтоб так навеки было!..
Сказка
- В земляной ли, дремучей русландии,
- Там, где ягоды волчьи горят,
- Мухомор в горностаевой мантии
- У опят принимает парад.
- В чащах – иволги жёлтые промельки,
- На берёзках – златые листы…
- Чьё там счастье в соломенном домике,
- Где будылья вьюном завиты?
- Мышка, мышка, готово ль имение
- Встретить зиму по – русски, тепло?
- Иль зерно, запасённое жменями,
- В утаённую норку легло?
- Тишина… Только шорох чуть слышимый,
- Только дятла короткая дробь…
- Добрый Пан, дядька – леший с кулижины!
- Этой дудке с мышиною хижиной,
- Птице – эху меня уподобь!
«Жёлтый шелест под ногой…»
- Жёлтый шелест под ногой.
- На щеке прохлада.
- Вот и встретились с тобой,
- Вьюга листопада.
- В зябкой роще на ветру,
- Верховом, осеннем,
- Я тихонечко замру
- Под твоим круженьем.
- И услышу, как в слова
- Возвращается листва…
«Над белым одеялом…»
- Над белым одеялом —
- Испариной земли —
- Последним клином малым
- Уходят журавли.
- И, запрокинув лица
- В невидимую высь,
- Мы сами, словно птицы,
- Вот так бы унеслись.
- Неужто света мало,
- Или нехороша
- И от хлопот устала
- И мается душа,
- Что, как нелётной птице,
- Ей не бывать в дали,
- Что саваном искрится
- Испарина земли?
- Наверно, и не жили,
- Коль в малости своей,
- Когда б смогли, уплыли
- За клином журавлей…
«Тревожных туч за гроздью гроздь…»
- Тревожных туч за гроздью гроздь
- С забужья нанесло.
- Ещё не снег – холодный дождь
- Царапает стекло.
- Смиренны и строги леса,
- Поля туманит грусть.
- И только псы на голоса
- Облаивают Русь.
«Умолкну, охвачен размером…»
- Умолкну, охвачен размером,
- Кружащим осеннюю даль.
- Он – дождь в полусвете неверном,
- Он – жёлтой метели спираль.
- Он бредит, он кружит над полем,
- Пустым травостоем звенит,
- Он стоном осиновым болен
- И жалобой голых ракит.
- Плывёт над стволами, качаясь,
- И я эту боль узнаю,
- И я этой музыкой маюсь
- В широком, как небо, краю.
- Осине в пунцовой рубахе,
- Ни слова ещё не найдя,
- Её наиграл амфибрахий[1]
- На стынущих фибрах дождя.
«Вверив слепым небесам паруса…»
- Вверив слепым небесам паруса,
- Полон октябрь перепутного ветра.
- Пугалу модное рваное ретро
- Штопает морось, остра и коса.
- Самое время лохмотья чинить! —
- Всё покромсав, оборвёт и размечет…
- Вылущен чёт, водворяется нечет,
- Треплет неясыть отборную сыть.
- К этой страде не привыкнешь никак, —
- Сколь повидал октябрей и построже,
- Но всякий раз – как крапива по коже
- Этот прощальный смертельный сквозняк.
- И всякий раз успеваешь вкусить
- Благость нежданно бодрящего лиха, —
- Силу, чьи сроки верстаются тихо,
- Будто бы с нитью стачается нить…
«Зрелость пришла в твой сад…»
- Зрелость пришла в твой сад.
- Что же ты ей не рад?
- Ты же свободен стал
- От прописных лекал,
- Гонки за злобой дня
- В тайных заботах «я».
- Может быть, в том беда,
- Что ледяна вода,
- И, долюбив дотла,
- Жизнь в листопад вошла?
- Что неотступный счёт
- Жёстче от года в год?
- Полно, сочтёшь ли всё…
- Бурей сад обнесёт.
- Что тебе до листвы?
- Это уже не ты.
Ноябрь
- Пройдёшь низиной пять минут, —
- Без цели, для ходьбы, —
- А ноги сами приведут
- К осинкам по грибы.
- В траве ни шляпки, ни зонта,
- Ни рыжей головы,
- И роща голая пуста
- Без трепета листвы.
- И будто нечем говорить,
- И не о чем, – зачем?
- Во рву чернеющая сныть
- Уже глуха совсем.
- Туманный тёплый тихий день
- Смирен и молчалив.
- К холму с кустами набекрень
- Полураздетых ив
- Течёшь без тени, без следа
- Бесплотною волной,
- Как будто с ними навсегда
- Стал тайною одной.
«Козы не держал никогда…»
- Козы не держал никогда
- И яблонь не мучил привоем.
- Вкушал от простого плода,
- Кропя магазинским надоем.
- Но не коржавел инвентарь,
- И руки не знали покою,
- И мой немудрёный словарь
- Жирнел от надоя к надою.
- И чувства, что тёрли, черствы,
- За летней страдою грубея,
- В саду облетевшей листвы
- Мягчели, как лоб от елея.
- От глаз уводил Козерог
- Светила свои с горизонта,
- Где снегом молочным истёк
- Подол заходящего фронта.
«По первому снегу, собачьему следу…»
- По первому снегу, собачьему следу
- К пролеску троплю колею.
- Присвистнув, синицу вспугну, непоседу,
- И ворону – эх! – подпою.
- Зальётся визгливо взахлёб собачонка,
- Ответят баском в стороне,
- И вот уходящему солнцу вдогонку
- Оркестр отлажен вполне.
- И долго играет от края до краю,
- Уже и уснуло село.
- Пойду – ка я завтра на луг погуляю,
- Там пусто, и всё замело…
«Мёрзлою грубой стернёй…»
- Мёрзлою грубой стернёй
- Буро щетинится поле.
- На леденистом подоле
- Царствует мглистый покой.
- Холодно. Птичьих следов
- Припорошённые строчки.
- В инее, как в оторочке,
- Лес и камыш берегов.
- В заросли клён семена
- Связками вывесил густо.
- Тихо. Ни скрипа, ни хруста, —
- Пауза зимнего сна.
- День чёрно – белый течёт
- В сумрачный вечер короткий.
- Времени мерою чёткой,
- Ключика чуткой бородкой
- Скоро закроется год…
Колода
- Лежала колода до нового года,
- И с нового года лежала колода.
- И как не текла под колоду вода,
- Пока есть колода, так будет всегда.
«Декабрь. Мороз. Шершавое шоссеь…»
- Декабрь. Мороз. Шершавое шоссе.
- Безлистье над бесснежьем ледяным…
- Ведь было то наивное в отце, —
- Ребячество, что не исчезло с ним.
- Оно во мне, и безоружны мы, —
- Но можно ли роптать на неуют
- И улетать с качелями зимы
- В тоску, что меланхолией зовут?
- Ему не жаль минут, не жаль трудов, —
- Утащишь ли за пазухой с собой?
- И лишь его я бросить не готов
- Под этой мглой дороги ледяной.
«Декабрь белым обрастёт…»
- Декабрь белым обрастёт,
- Легонько прошуршав по крыше…
- Под старость встрепенётся год
- Снежками ловкими мальчишек;
- Задумается, прослезясь
- Туманной оттепелью вялой —
- И бросит вылезшую грязь
- В оковы стужи небывалой…
«На траве декабря серебристый пушок…»
- На траве декабря серебристый пушок,
- Что – то медлит со снегом зима.
- Поднимай недопитое на посошок,
- Жизнь дорогой расскажет сама,
- Что же всё – таки: птиц – или так, пузыри
- Ты пускал из глубин в небеса?
- Или сам же назначил себя в звонари,
- Высоту словесам приписав?
- Серебрится пушок от версты за вершок,
- На которой кончается век.
- Меж законченных строк, знаешь: ляжет, глубок,
- Белый снег, белый снег, белый снег.
Смирение
- Будто очнулся от мутного сна
- Трезвою ночью:
- Скрыла снегов круговая стена
- Бездну сорочью.
- Кто – то кричал из низин за бугром,
- Звали, грозили.
- Падал и снова вставал, невесом,
- Стебель будылий.
- Свет прорезался – и вновь угасал,
- Тлел еле – еле.
- Чистыми хлопьями смяли провал
- Крылья метели.
- Счастье сгорать в заметённом краю
- Искрой бездымной,
- Кротко, навеки
- Вослед сорочью
- Бросив тоску изжиту́ю свою
- Бездне пустынной…
Снегопад
- Так всё кругом связует снегопад,
- Миротворит и метит чистотою,
- Что всякий раз, как было жизнь назад,
- Стою, молчу и ничего не стою.
- Над целым миром хлопьев простыня
- И наволоки снега на жилищах,
- Как малого, баюкают меня,
- И ели улыбаются в усища.
- Покой и свет, хоть занавешен свод,
- Хоть скрадены, туманны светотени,
- И улицы знакомый поворот —
- Как тайный ход в загадочные сени.
Ни о чём
- Листы пролесок собраны в гармошку,
- Давно уже бескровны и сухи.
- Протаял снег, и холодно немножко,
- И вечер сам ложится на стихи.
- Народ гудит, как шмель над медоносом, —
- Гуляют свадьбу и не в лад поют.
- За сизым облаком багряноносым
- Раскрыло солнце красный парашют.
- Назавтра ветер южный по приметам,
- Тяжёлый снег, похмелие с утра,
- А то, что недосказано поэтом,
- Тому давно домыслиться пора.
«Декабрь одет в морозный цвет…»
- Декабрь одет в морозный цвет,
- Как холм терновый по весне…
- Столь перевидел, сколько лет.
- И кажется, ступаешь в след, —
- А будто в детстве и во сне:
- Кольчуга дыбом на сосне,
- Осыпан стрелами камыш,
- И на ковровой целине —
- Стерильной, царственной луне —
- Бесстрашно наследила мышь.
«Над порошей мглистою света сноп сгорит…»
- Над порошей мглистою света сноп сгорит.
- Ветер вздует истово уголёк зари.
- Обожжёт, недолгая, заревом глаза,
- Где камыш метёлкою хлещет небеса.
- Выметет до вызвезда непогоды взвесь.
- Ну, а мы – так вывезло – проживём, как есть.
- По траве приснеженной пустишься ли вспять
- Ловкою валежиной венчики срывать?
- Ничего, разлегчится, – в нетях, посмотри,
- Всё ещё невестится лепесток зари.
Первая вьюга
- В ночь подморозило немного —
- Поля седы от инея.
- Под утро в пелену востока
- Вплелась глухая линия.
- С зарёй, распластанный в аллюре,
- Равниною раздо́лился
- Поземец южный, вестник бури,
- Раб силы Кориолиса[2].
- И, шеи вытянув, качались
- Деревья ошалелые,
- И солнца кровяную завязь
- Пучины рвали белые…
«Ни обид, ни горечи, ни мрака…»
- Ни обид, ни горечи, ни мрака, —
- Непрощённым прошлым не прожить…
- Чей – то страх облаяла собака,
- Не умея по – другому быть.
- Снизу холод, сверху снег незрячий,
- Пьяный полуночник глотку рвёт, —
- Не поёт, лишь воет по – собачьи,
- Матеря свой непослушный рот.
- Кружит ночь, и тень за ним, дрейфуя,
- Словно грех, бредёт, блюдя дозор,
- И тесна тоска ему, как сбруя,
- И собачий нескончаем хор.
«Ранняя пороша. Сумеречный свет…»
- Ранняя пороша. Сумеречный свет.
- Птицы над дорогой чуткий силуэт.
- Что глядишь, ворона, глазом ледяным?
- Мы свою недолю сами разглядим.
- С голой ветки сизой не косись вослед, —
- Без тебя хватает на веку примет.
- Не ворчи, не каркай, не ерошь перо, —
- Брось, стара повадка, и враньё старо.
- Знаю сам, ворона: нам пощады нет.
- Снежная дорога. Сумеречный свет.
«Слово сердца слышится нечасто…»
- Слово сердца слышится нечасто, —
- Просто достаётся нелегко.
- И не оттого, что жизнь несчастна.
- Оттого, что сердце глубоко.
- Сердце ведь не всякому открыто,
- Да и не у всякого своё…
- Прокричишь до самого зенита, —
- Не ответит даже вороньё.
- Так что собирай свою изнанку
- И располагайся на ночлег.
- А как выйдешь к речке спозаранку, —
- Смотришь, и найдётся человек…
«Тучами запад задёрнут…»
- Тучами запад задёрнут.
- Дрогнул, оттаял мороз.
- Неба распахнутый ворот
- Плещется в космах берёз.
- Диву даёшься, как скоро
- Правила рушит зима!
- Солнце летит с косогора
- В чан, где кипит кутерьма.
- Чем это выльется? Снегом —
- Или дождём ледяным?
