Танцы на пепле судьбы
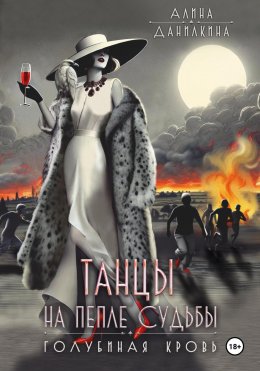
Книга посвящается моим любимым бабушкам и дедушкам, которых я всегда буду помнить:
Ушедшим Болотовой Любови Николаевне,
Данилкину Александру Петровичу,
Болотову Николаю Ивановичу
и ныне живущей Данилкиной Елене Борисовне.
Автор книги (Данилкина Алина Сергеевна) не разделяет политических и других взглядов ни одного из персонажей романа «Танцы на пепле судьбы. Голубиная кровь». Автор романа с уважением относится ко всем государствам, нациям, странам, культурам и религиям и выступает за мир во всем мире. Ни одна цитата из книги «Танцы на пепле судьбы. Голубиная кровь» не навязывает читателю точку зрения, лишь являясь выдумкой автора.
Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во Мне мир.
В этом же мире вас ожидают невзгоды,
но будьте мужественны! Я победил этот мир!
Евангелие от Иоанна 16:33
Бесшумное веретено
Отпущено моей рукою.
И – мною ли оживлено —
Переливается оно
Безостановочной волною —
Веретено.
Все одинаково темно;
Все в мире переплетено
Моею собственной рукою;
И, непрерывно и одно,
Обуреваемое мною
Остановить мне не дано —
Веретено.
Осип Мандельштам
Судьбу надо выжигать,
а на пепле её изящно танцевать,
следуя движениям своей души.
«Лёд одинокой пустыни», Алина Данилкина
Глава 1
Vilniaus miesto apylinkės teismas nuteisė Rusijos pilietę Taisiją Meisanę laisvės atėmimu iki gyvos galvos, taip pat konfiskavo jos visą turtą. Teismo sprendimu, Taisija Meisanė yra kalta dėl nužudymo Lietuvos valstybės tarnautojo, Gustavo Petersono.1
«Закройте глаза. Расслабьтесь. Медленно думайте об Испании. Что вы чувствуете?
Страсть и нежность? Борьбу и невозможность разъединения? Обволакивающее облако чуть шипящего "с"? Только женщина может вызывать такую бурю эмоций, не так ли?
Испания – это женщина. Настоящая женщина, которая сводит с ума и бесцеремонно отворяет дверь в твои унылые однотонные сны. "Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка…" Вы помните?
Вы всё, конечно, помните… Такую женщину не забывают, даже если видели ее всего один раз. Мадрид, Барселона, Валенсия, Тенерифе. Пока я встречала ее только в этих четырех амплуа, но при каждом столкновении она меняла своё лицо, повадки и запах. В Мадриде – достопочтенная аристократка, величественная, строгая и одухотворённая. В Барселоне – неприступная, необузданная, но такая гостеприимная, требующая иллюзорной независимости и несуществующей справедливости. В Валенсии робкая, убаюкивающая и добродушная. Вольная на Канарах, легкомысленная и невесомая. Слышали песню "libre como el viento", "свободная как ветер"? Это все про тебя, Испания.
Тебя боюсь я. Страшно и странно быть живым, чувствуя при этом, что ты в раю на земле, в нескольких метрах над уровнем неба…
Утро. Шум на Рамбле. Первые мурашки от испанского бриза. Свежие устрицы и звук вылетающей дубовой пробки из бутылочки розе "Moet & Chandon". Рынок ,слияние запахов вяленого хамона и мускатной дыни. Я люблю тебя за то, что с тобой я никуда не спешу. Испания. Siesta. Ретардация. Спать с тобой в унисон под пальмами и внимать извне самый эротичный "голос" мира. Твой язык, как магнит, как желание, которое невозможно заблокировать. Я хочу слышать твой голос… Всегда и везде.
Эта женщина жаждет крови. И неважно, быка ли, тореадора или только приезжего туриста, горький сок сердца которого она выпивает при первом же знакомстве. У этой женщины есть король. Выходит, она королева?
Женщина-опасность. Любит погорячее. Водные лыжи, виндсёрфинг, ночные клубы, азарт. Втянет в любую авантюру, а затем без сожаления выбросит в открытое море, язвительно ухмыльнувшись. Она любит танцевать до утра и пить ежевичную сангрию, вольно срывая с тебя грусть, агонию, тлен принципов и обязательств. Женщина-головоломка, муза, почти идеал. Она вдохновляла Веласкеса, Мачадо, Гауди и Сервантеса. Но ей всего мало. Испания ненасытна. Она рождает таланты. Испания – это стих. Это красивее, чем проза жизни. Красивее, чем проза. Красивее, чем жизнь…»
– Что ты так усердно записываешь в своем блокноте? – спросил меня отец, продолжая обжигать шершавое небо горячим ристретто.
– Мысли об Испании. Так не хочу завтра возвращаться домой, поэтому желаю остаться в этой стране хоть на бумаге…
– Таисия, тебе скоро сдавать вступительные в университет. Завязывай со своими мечтами о писательстве. Ты будешь серьезным журналистом-международником, а не умершим от передоза писателем без зарплаты и кресла в офисе. Мы так решили на семейном совете. Не расстраивай меня.
– Да, наверное, вы были правы. Я грущу не поэтому…
– Тогда в чем причина? Если ты меня обманываешь, я готов пойти против всех. Даже не поедем на собеседование, а в следующем году поступишь в Литературный, я тебя поддержу. Поддержу тебя всегда, дочь, – ласково улыбнувшись, сказал отец.
– Я боюсь, что университет не станет для меня родным, как лицей. Лицей – больше, чем просто школа. Это мой дом, в котором вместо столовой и тушеной капусты с горохом – французское кафе с лавандовыми эклерами и шоколадным фонданом. Дом, в котором вместо писклявого звонка, беспрестанно колотящего по перепонке, занятия начинаются и завершаются одним из времён года Вивальди. Дом, в котором преподают профессора университетов, доктора наук, а не тираничные авторитарные тетки, верящие в свою вседозволенность и власть над детьми.
– Дом – это дорогие сердцу воспоминания, которые всегда можно забрать с собой. Значит, твой дом будет с тобой повсюду. Весь крутящийся вокруг солнца шарик – твой дом, – расправив мои ресницы, с улыбкой произнёс папа.
Я захлопнула свой потертый блокнот, заслонила набухающие от растормошенного испанского солнца бирюзовые глаза треснутыми запотевшими очками и предложила отцу провести крайний предотлетный день в Барселоне темпераментно и сумасбродно. Однако папа, как всегда, настоял на своём плане, которому я, зарыв в себе юношеский кураж, безбунтующе поддалась.
Мы отправились на рынок Бокерия, чтобы с жадностью проглотить свежие устрицы, которые семидесятилетний Карлос открывал металлической зубочисткой, щедро заливая трепещущую слизь зелёным табаско с мякотью халапеньо, после чего присели в рыбную лавку и перечитали список продуктов, присланный моей тетей Диной, которая недавно от затянувшейся меланхоличной хандры решила перейти на правильное, хоть и экзотическое питание.
Папа с братской нежностью презирал родную сестру, забросившую медицинский университет ради богатенького деспотичного мужа, бесформенной дульки, заколотой бамбуковой палочкой для суши, и кулуарных сплетен, которые стали для нее благоговейным утешением в статусе отчаянной домохозяйки. Несмотря на злоречивые упреки, которыми изредка жонглировал отец, он продолжал любить и принимать Дину со всем ее слегка подгнившим и выдохшимся естеством. Он щедро потакал всем прихотям тети, напитываясь при этом мимолетным удовлетворением затухающего эго мужчины за сорок пять.
Ради Диночки мы приобрели на углу Passeig de Gràcia нейлоновый чемодан с велюровыми вставками и поехали на Бокерию, чтобы наполнить его продуктами до хруста спиральной молнии и помятости выверенных швов ворсистой тесьмы.
Пройдя от овощного прилавка, за которыми торговали два костариканских брата-близнеца с горбатыми крючкообразными носами, мы купили для тети спелые афинские абрикосы для нормализации работы кишечника ее парализованного свекра, тюрбо из местной рыбной фермы для восполнения витаминов группы В, японскую мушмулу, насыщенную бета-кератином для экстренного воскрешения ломких волос, серые ракообразные «десятиногие» креветки для званых ужинов с брюзгливыми и великовозрастными партнерами ее супруга, морского черта, которого она символично дарила на религиозный праздник своей верующей золовке, иберийский хамон для фальшивых членов еврейской синагоги и омара, пойманного, по словам продавщицы Перлиты, в Атлантическом океане между Норвегией и Марокко.
Но этим тетя Дина не ограничилась, уговорив нас привезти ей алый рамбутан, похожий на волосатый подбородок нашей столетней соседки по даче Вилены Владимировны, коричневый салак, чешуйчатую аннону, рогатую дыню, несколько видов сухофруктов, звездчатый анис, помидоры из Наварры с замявшимися будто послеродовыми складочками, связку острого перца гуиндилья, копченые сардины, масло для салата из чеснока и орегано, палестинские оливы и мансанильи, традиционный каталонский белый лук кальсот, грибы ровеллоны с широкими шляпками, как у приезжей на лазурное море одесситки, вареную колбасу мортаделла с фисташками и какао бобы в темном шоколаде. Мы нашли каждый ингредиент из списка Диночки на магическом, словно выдуманном, рынке Бокерия, где, казалось, есть все: начиная от свежевыжатого сока из киви и заканчивая десятками разновидностями сладкой, тающей во рту и руках пастилы.
Моей маме не хватало тетиной наглости, поэтому она никогда ничего не просила, ссылаясь на истоптанную трафаретную фразу «у меня все есть». Но всякий раз, вручая ей после поездки то незамысловатый магнитик на холодильник с изображением Тадж-Махала, то бусики из мелких ракушек, она радовалась, как семилетнее дитя, в то время, как тетя оставалась возмущена помятостью привезённой кутюрной туники или чуть потекшим маслом ши для ее заросшей кутикулы. Дина была вечно всем недовольна: то муж не в то место поставит хрустальную вазу для цветов, которые, по правде говоря, он ей никогда не дарил, то домработница неласково стирает ее купальники, то дедушка дарит ей машину с не подходящим к цвету ее кожи салоном, то папа, несмотря на хроническую усталость безработной сестры, отправит ее за год на курорт всего лишь каких-то восемь раз.
Дина упорно кроила себе амплуа заботливой сестры, дочери и жены, маниакально стараясь убедить всех в том, что ее упадническое настроение связано с тем, как сильно может измаяться разнузданная апатичная домохозяйка. Мне претили регулярные воскресные встречи с ней, так как ее выпуклая озлобленность медленно затопляла все пространство вокруг. Тетя жаловалась на депрессивных людей, искренне не замечая испускаемого ею быстродействующего яда, осуждала невежество, манерность и напыщенную загадочность жён приятелей мужа, дерзя официанту и путая картины Брюллова и Бенуа. Она оценивала наряды великосветских подруг, совершенно не стесняясь прийти в коротком мини на приём губернатора, и упрекала всех то в испортившейся погоде, то в зашкаливающем у нее давлении. Дина выделялась из семьи и иногда мне даже казалось, что ее когда-то удочерили, ведь она была совершенно не похожа на свою мать, мою бабушку Олимпиаду.
Бабушка Липа была одним из лучших и авторитетных врачей-фтизиатров в городе. По субботам она играла с подругами в гольф, запивая и победу, и проигрыш лишь одним выдержанным коньяком с нотами сливочной карамели, степного сена и влаголюбивой лакрицы, а по воскресеньям посвящала себя огороду, ухаживала за теплицами и домашним скотом, после чего посещала с дедушкой местную филармонию, одеваясь и преподнося себя, как всесокрушающая атаманша южных сердец. Она никогда не поддавалась слабовольным истерикам, никогда не унывала, не впадала в бездонную тоску и не опускалась до непристойных сплетен, тратя свое время исключительно на то, что было дорого ее душе. Впрочем, последним и, наверное, единственным бабушка была весьма схожа с мамой, которая никогда не позволяла мне злословить, осуждая чьи-либо недостатки поведения или внешности.
После Бокерии мы с отцом неспешно вышли на многолюдную пешеходную улицу Рамбла, на которой было много не только туристов, но и так называемых, человеческих статуй, замирающих мимов, умело притворяющихся застывшими каменными фигурами. Когда остолбеневшие тролли, кентавры, графини в пышных платьях, позолоченные искрящимися блестками женщины-птицы оживали, мне казалось, что я законсервирована в сказке, из которой никому и никогда не захотелось бы вылезти
В Порт-Олимпике мы с отцом присели на скамейку, приклеив взгляды к парусным яхтам, вокруг которых под шуршание пальм безмятежно предавались танцам чайки, разрешая даже некоторым понравившимся прохожим погладить их или сфотографировать. Они были улыбчивы, свободны и бестревожны, словно олицетворяли испанцев и ее саму.
Без брони нам достался круглый столик в недавно открывшемся ресторане, который славился редкими семнадцатью блюдами семнадцати автономных сообществ страны.
Сначала я заказала нежнейший тушеный андалусийский бычий хвост с шафраном, после чего незамедлительно перешла к миноги из устья реки Миньо, вкус которой мне пришлось перебивать улитками по-кастильски с розовым розмарином. Папа опробовал жареное свиное ухо на гриле с чесночком и укропом и черепа молодых ягнят в белом вине и, не насытившись, попросил фирменное блюдо шеф-повара из Сеговии-нежнейшего молочного поросёнка, разделанного на глазах посетителей глиняными тарелками. Расплывшийся в улыбке после обеда с дочерью папа заказал два бокала красного вина сорта гарнача, которые мы, к слову, слишком молниеносно испили.
Признаться, отец частенько позволял мне выпивать вместе с ним, и, нужно сказать, это ему не запрещал ни один из членов соединенных врачебных династий нашей семьи: ни моя мама-нейрохирург, ни дедушка, который занимал должность главного онколога в папином медицинском центре, ни мамина родная сестра-кардиолог, пропавшая без вести при неизвестных обстоятельствах три года назад, ни ее мама, моя любимая бабушка Федора, проработавшая почти сорок лет жизни сельским фельдшером.
Вся моя семья за исключением тети Дины, пристрастившейся к алкоголю после позорного ухода из ординатуры, обожала пригубить бокальчик тихого или игристого на отдыхе, в ресторане или за шумным праздничным столом. И, наверное, потому что мне никто никогда не запрещал притрагиваться к веселящим искоркам брюта, я никогда тайком не пила дешевое или поддельное спиртное с одноклассниками в подъездах. Я относилась к вину, пиву и даже джину, как к белому вздувшемуся батону, который можно было купить в любой момент у пекаря Гагика из армянского переулка возле бабушкиного дома.
Под конец вечера после десерта с потрескивающей карамельной корочкой к нашему столику, стоявшему в ресторане возле причала, подошли испанские музыканты и танцовщицы фламенко. Под звуки одинокой скрипки женские туфельки били в такт, пленяя и мужчин, и женщин безукоризненной грацией и вольнолюбивыми взмахами. Уставшие после экскурсий по местам Гауди мужья, наконец, смогли отщипнуться от зудящих, как кожа от при острой крапивнице, жен, очаровываясь чувственностью движений и манкостью взглядов урожденных испанок. Но мой отец вновь оказался не из таких. Исполнение фламенко не наскучило бы ему лишь если бы на сцене размахивала извилистой юбкой разведённая с ним мама. Вспомнив, что его вожделению о чувственном танце бывшей жены не суждено быть реальностью, отец рассчитался и повёл меня в лобби отеля, где мы продолжил завязавшийся в Порт-Олимпик диалог.
– Как дядя Петя? Я очень соскучилась по нему. Мы не виделись больше двух лет после начала конфликта, – спросила внезапно я.
– Дядя Петя передавал тебе позавчера поздравления с успешной сдачей экзаменов. У него там по-прежнему мрачно: Как прилетим, обязательно навещу его, но без тебя. Сколько у нас с ним воспоминаний. Как Петька на патанатомии в морге заснул и поковырялся в ухе пальцем трупа.
– Вы всегда были с ним так дружны дружны?
– Нет. На первом курсе мединститута мы воевали за симпатию твоей мамы. Она была необычайно светла и так же необычайно гениальна. Я знал, что она будет негасимой звездой в медицине. Тем более она писала за меня конспекты и даже иногда заполоняла истории болезни…
– Я думала, дядя Петя был всегда влюблён в тетю Надю. Они же жили душа в душу до ее исчезновения в Египте.
– Надежда и твоя мама Вера, если ты помнишь, единоутробные близнецы. В нашу юность их было не отличить. Дядя Петя влюбился в Надю, когда та красила свои губы красной помадой на его «Волге». Он попросил ее отойти от машины, но та из вредности нарисовала алым цветом на его стекле одно нецензурное обзывательство. Петька запал, ошибочно приняв Надю за мою скромную и застенчивую Веру…Вот и дрался со мной за сердце той, которую даже не знал…
– Твоя? Позволь напомнить, что вы с мамой давно расстались, а сейчас находитесь на пике эскалации послеразводного конфликта. И когда же это закончится? Мне уже надоело быть испорченным телефоном и чувствовать себя кочевником. Где это видано: с понедельника по четверг жить с мамой, а оставшиеся три дня с папой?
– Я не выношу твою мать и даже с ней больше за стол не сяду. Тебе разве плохо? Мы с тобой ходим в кино и кафе, часто улетаем на выходные в Париж или Лондон. На неделе ты вдоволь общаешься или даже ссоришься с мамой. Да и сейчас переедешь в Москву и отдохнёшь от нас.
Спустя пару секунд я перевела тему нашего разговора, поняв, что отец, как и мама, воспитанные в полных счастливых семьях, никогда не поймут риторику моих созревающих уже четвёртый год вопросов. С момента их развода папа с мамой будто перетягивали меня, как абордажный канат, неустанно борясь за мою любовь и внимание. Строгий начальник, которого боялись все подчиненные, превращался со мной в маму, водя меня то к зубному, то к ортопеду, то в театр кукол.
Пока на родительских собраниях сердитые и неудовлетворенные мамашки затрагивали нескладные темы, отводя внимание от своих отсталых прозябающих отпрысков, мой папа был единственным отцом, знавшим не только всех учителей и школьную программу, но и все о свое ребёнке: страхи, желания, любимые блюда, фильмы и даже город мечты. Мама же, напротив, никогда не обращала внимание на обложки книг, которые я читаю, беспрестанно добавляла в салаты базилик, который я не переношу, и продолжала громко разговаривать по телефону, совершенно не догадываясь о моей растущей привязанности к тишине. Однако, несмотря на это, она всегда казалась мне необычайной женщиной: первоклассный и филигранный нейрохирург, диктатор изысканного стиля, не ведающая границ путешественница, занимающаяся сёрфингом в Эквадоре и тайцзи в Китае, образцовая хозяйка, натирающая серебрянные вилки до блеска уксусом, и творческая личность, вырезающая из дерева иконы святых.
Мама всегда была премного самодостаточной: она прилично зарабатывала на чужих мозгах своим мозгом, сама прибивала картины, которые сама же рисовала после проведённых операций, сама обеспечивала своих родителей, врачей из деревни, получающих гроши за большие спасения, сама ухаживала за своей внешностью самодельными сыворотками для лица, оставаясь при этом самим совершенством, и сама стояла за себя, лишь колкой любезностью, размельчая в пыль вздувшееся себялюбие оппонента. Она была не из тех разведенок, мечтающих выскочить напоследок замуж хоть за кого-то; мама не нуждалась в мужчине, потому что уважала внутреннюю свободу и свой образ жизни. Вера Виноходова могла проехать весь центр города на велосипеде в гололёд, не замечая грубые потоки степного ветра, могла на выходные отправиться в Санкт-Петербург на премьеру «Травиаты» в Мариинский театр, могла созвать своих подруг на игру в покер ночью в понедельник и могла неспешно ходить в летних балетках в Неаполе на Новый год.
Папа был более предсказуем и консервативен во всем: его внутренняя сдержанность граничила с утомляющем самокопанием, а традиционность взглядов лишь сужала горизонты иллюзорной свободы, которой мог владеть состоявшийся мужчина за сорок пять. Его боялись конкуренты, силовики, подчиненные, потому что он агрессивно и настойчиво вёл все дела. Дома он дорожил своими родителями, не скрывая от общества свое чахлое бормотание перед матерью и безоговорочное сопряжение с позициями своего отца. Папа праздновал все семейные торжества с престарелыми родителями, а не с миловидной сожительницей, которую напрочь отказывались принимать дома бабушка и дедушка, всем сердцем любившие лишь мою мать. Никто никогда не навязывал ему угнетающее чувство вины, однако папа ошибочно считал себя недостойным сыном, так ни разу за всю жизнь и не огорчив хоть кого-то из своих многочисленных родственников.
Однажды отец отменил поездку в Марракеш только лишь, потому что у бабушки слегка поднялся уровень сахара в крови, спустя два года он не пришел на свой же юбилей, когда дед упал в обморок после недолгой размолвки с главным анестезиологом центра. А в самолёте, когда мы возвращались из Барселоны в Ростов, папа, по свойственной ему привычке, расписывал задания для заведующих отделений своих больниц и придумывал идею подарка бабушке за четыре месяца до ее дня рождения и много грустил, так как знал, что проведённые совместно три недели в Испании еще больше укоренили его нежелание делить меня с мамой. Папа мечтал жить со мной, но знал, что мама так же сильно нуждается в моем присутствие, как и я в ее. Это же была мама…
Глава 2
Вернувшись в Ростов, я готовилась к переезду в Москву, вступительными и началу университетской поры. Все лето я сдавала многочисленные экзамены, однако это отнюдь не помешало моей семье заставить единственную внучку и дочь продолжить посещать семинары скрипучего от ворчания старикашки ученого, напоминавшего мне облезший вибрирующий скелет. На протяжение одиннадцати лет после занятий в лицее я впопыхах закидывала в сумку тетради и раньше всех выбегала на улицу, запрыгивая в машину к Степанычу, водителю, который с ранних лет возил меня то на дзюдо, то на барре, то на зумбу.
По вторникам и четвергам мы должны были с ним за десять минут доехать до улицы имени греческого города Волос, где мне в своей квартире преподавал английский язык немощный именитый профессор Аристарх Абрамович, заведующий кафедрой зарубежной филологии Ростовского университета. Степаныч заранее покупал бутерброды с российским сыром и мой любимый вишневый сок, чтобы в машине, подкидывающей меня от нашего обоюдного желания успеть к началу занятия, я могла быстро забить желудок дрянной сухомяткой до трёхчасового погружения в чопорность абсурдных английских шуток. Папа и бабушка Липа приказывали мне по-христиански терпеть, и поэтому я не умела язвить, произносить слово «нет» и отчаливать от тех, кто был мне омерзителен и противен. Вместо пинка под зад обнаглевшим и обозлённым персонам я отвешивала лишь пятикратное «спасибо» лишь за выданный лист бумаги и разрешение присесть.
Отец занудно навязывал мне идею смирения, обосновывая тем, что нельзя убегать от проблем, одной из которых, впрочем, и был Аристарх Абрамович. Но в тот день нашей последней с ним встречи мне надоело по привычке заглатывать подгоревшие тосты на заднем сиденье, обливая себя томатным соком от быстрой езды по встречной полосе, выслушивать каждое занятие оскорбления из-за моего опоздания, терпеть вонючий корм профессорских рыбок, глазеющих на меня из аквариума, и делать вид, что не замечаю его традиционный десятиминутный храп после двух часов изощренного перевода на английский «Епифанских шлюзов» Платонова. Надоело слышать насмешки над моим акцентом от его молоденькой аспирантки, которая даже права не имела присутствовать на каждом нашем занятии. Надоело отвлекаться на плач их пятимесячного ребёнка и встречать при входе в подъезд их соседку, выдумавшую, что я очередная любовница великовозрастного еврея.
В последний учебный день я встала, чтобы уйти, но так и не осмелилась этого сделать, прокручивая семейное наставление в своей памяти. Стиснув зубы, я отучилась у него и обулась. Затем я заставила себя открыть рот и вымученно услужливой фальшивостью поблагодарить за «все», подразумевавшее лишь сожженные нервы, часы и деньги, которые у меня эпично воровала эта девяностолетняя сопрелая дохлятина, похрустывающая от каждого движения Паркинсона.
Зайдя домой, я, не раздевшись, присела на пуф в прихожей, разрыдалась от своей слабости и уснула. Лишь спустя пару часов дрёма на велюровой табуретке меня разбудил звук ковыряющегося ключа в давно несмазанной замочной скважине. На пороге появилась мама. От нее, как всегда, пахло зеленой мимозой, пудровым ирисом, потускневшими страницами историй болезни и индийским ветивером, которым она смазывала вьющиеся кончики челки. Мама прошла, скинула на консоль из иранского травертина очередную шляпку и солнечные очки, после чего присела на пол и терпко выдохнула. Под бирюзой ее раскосых потухших глаз, точь-в-точь схожих с моими, покатилась слеза, которую она не стала вытирать или сбрасывать. Ее треснувшие бесцветные губы, которые она обычно не выделяла блестками или помадой, лишь сумели произнести: «Я не смогла».
За двадцать пять лет служению Гиппократу под ее наточенным скальпелем не умер ни один из сотен неизлечимых пациентов. Альтруизм, созвучный с ее говорящим нареканием Вера, настаивал на помощи каждому встречному. После операций мама всегда выглядела лишь слегка потрепанно и изможденно, но это не препятствовало воцарению ее открытого взора и плавно восходящей улыбки. Видя ее, я думала о том, что в мире существует лишь несколько женщин, которым подходят слезы, усталость и грусть. Будто эти женщины становятся еще привлекательнее, тоскуя в кафе или же выпуская из-под намоченных ресниц прозрачные соленые капли. И ты, став свидетелем, не можешь представить, как же девушка преображается в столь губительных для души состояниях и как же эта печаль способна радовать своим обаянием всех вокруг. Мама бесспорно относилась к этому редкому типу, заставляя меня сокрушенно любоваться ее страданиями.
Однажды мама купила шесть умирающих пальм, расставила по всему дому и дала каждой имя, будто удочерив обреченных на смерть детей. Она бережно протирала каждый листочек отваром ромашки, будто расчесывая спутанные волосы похожей на себя дочки, разговаривала с ними о вредоносной для них зиме, баловала удобрениями, подкармливала и меняла горшки, рисовала на керамических кашпо коричневые кружочки под цвет стволов. Когда маме не давали отпуск, мы надевали солнечные очки и ложились под наши окна, с которых жеманно свисали пальмовые тени, включали искусственный шум атлантического прибоя на телевизоре, представляли, что мы на море, и жаловались друг другу на нехватку прилипших к пяткам песчинкам и пульсирующих покалываний раскрепостившегося солнца.
В тот день вместе с маминым пациентом нежданно погибла одна из пальм – ее любимица Люся, – которую она часто выхаживала после мучнистого червеца и щитовки. Увидев, как мама Верочка плачет, вытирая наполненные тушью дымчатые серые слезы выгоревшими листьями Люси, я перебрала клюкву и приготовила для нее морс. Затем я растопила ее любимое масло из эвкалипта, помыла кисточки для макияжа, которыми мама будто успокаивала нервно дрожащее после пропажи родной сестры лицо, достала из трёхугольного шкафа связанный бабушкой плед из мериносовой шерсти и отворила в маминой спальне окна, выходящие на внутренний мандариновый дворик. Мама достала расслоившийся кожаный альбом с фотографиями, подколола волосы прищепкой для стирки и стала поочерёдно вытаскивать снимки из пластикового кармашка:
– Смотри, это наше с папой свадебное фото. В то время были модны взъерошенные прически с начесом и синие помады. Помню, как решила тогда вплести в собранные волосы лилии и накрасить, назло трендам девяностых, губы бесцветной гигиеничкой , – тихо заговорила она.
– А я не знала, что тетя Надя была твоей свидетельницей. Вы были с ней так похожи…
– Сейчас я покажу тебе насколько. Это фото было сделано перед нашим с Надей переездом из станицы в Ростов. Здесь я, твои бабушка и дедушка, тетя Надя и наши коровы Дымка и Груня, которых пришлось продать, чтобы достать нам немного денег на первое время. Боясь, что парализованное в нас распутство выпорхнет наружу, твоя бабушка запретила нам поселиться в общежитии и сняла комнату в квартире пенсионерки. Диван с полкой и мутным зеркалом, на котором мы спали, был пропитан нафталином от ее умершего мужа-инвалида, а буфет, заполненный хрустальной посудой и трудами Крупской, скрипел, будто не подпуская к себе. Филипповна была всем недовольна: она жаловалась на то, что мы до ночи заучивали вопросы к экзамену по гистологии, на то, что плохо выглаживали ее дырявое постельное белье, возмущалась, что одна из нас могла спать на полу из-за вылезших пружин из дивана, а твою мать, не умеющую говорить «нет», и вовсе заставляла ездить с ней каждый месяц на кладбище и убирать могилы ее покойных родителей.
– Зато теперь есть что вспоминать… – произнесла я.
– Твоя правда. Помню, как однажды Филипповна порезала ножницами наши немногочисленные колготки, обвинив нас в том, что мы украли ее арбуз, который лишь закатился за граммофон в гостиной. А теперь я живу в самом центре города, улетаю от ноябрьской слякоти на Бали, меняю бриллиантовые браслеты и серьги. Только счастья меньше – нет сестры, с которой мы бы снова клеили страницы учебника по биохимии, взятого в публичной библиотеке…
– Как же не озлобиться от таких испытаний и сохранить свет в сердце после таких испытаний?
– Тасечка, тебе не надо учиться этому. Ты и так открыта этому миру. Но запомни: злая женщина – это патология, а не следствие несчастий. Держись подальше от неуравновешенных, депрессивных особ. Пессимисты в окружении – залог провального существования.
– Мам, а ты веришь, что тетя еще жива?
– Конечно, меня все-таки зовут Верой, – восторженно улыбнувшись, слукавила мама и потушила свет.
Проснувшись утром и поймав такси, я подъехала попрощаться с родным лицеем, находившемся на уютной Пушкинской аллее, самой волшебной и цветущей улице города, на которой я родилась и выросла. Поднялась по вычищенным до сверкания от степной пыли ступенькам, я будто впервые вошла в родную школу. Высокий потолок, дворцовая хрустальная люстра и широкий рояль цвета топленых ирландских сливок, величаво красующийся возле входа в зал ожидания. Кресла из генуэзского бархата, мраморная консоль с книгами древнегреческих философов и поэтов Серебряного века, овальный столик из красного дерева со встроенным аквариумом, в котором плавали оранжевые меченосцы с сиреневым брюхом, леопардовая ктенопома, серебристый метионин и вздувшийся усатый сом, непристойно обсасывающий стекло.
Рядом с хлопковыми шторами, на которых были вышиты цитаты на латыни и герб лицея с нахмурившимся от мудрости филина, располагалась золотая клетка со щебечущем кенором по имени Филя. Я подошла к нему и, наклонившись, подставила ему ладонь, незатейливо попрощавшись с желтоперым другом, верно хранившим более семи лет рассказанные мною секреты. Затем я обняла любимых преподавателей и спустилась во французское кафе, располагавшееся на нижнем этаже возле комнаты отдыха и гардеробной.
Будто выгоревшие под лучами марсельского солнца стены пыльно-желтого оттенка, расписанные в углах маслом, кафельная напольная плитка, льняные шторы с розочками персикового цвета, плетёные кашпо с благоухающей, лавандой, бежевые скатерти с кружевной окантовкой и велосипед с треснувшей белой краской, из которого так незатейливо торчали затемнённые стеклянные вазы с сиреневыми ирисами.
В нашем кафе всегда пахло травами прованса: сушеным эстрагоном, тимьяном, орегано, душицей и шалфеем. В кафе работала Георгина Леонидовна, которую мы с любовью называли владычицей подземелья. Она была стройная и элегантной женщиной, напоминающей то ли робота без изъяна, то ли идеальную хозяйку с ниспадающей улыбкой из старой американской рекламы пятидесятых годов. Она изящно жестикулировала руками, была ухоженна и опрятна, притягивая неестественной безукоризненностью и тонкой ниточкой пресноводного жемчуга на сухожильной шее.
– Добрый день, моя милая Тая. Как я рада тебя видеть, детка. Исхудала ты из-за всех этих экзаменов. Но ничего. Сегодня в нашем французском кафе день узбекской кухни. Можно отведать плов с бараниной из казана, наваристый лагман с редькой, манты с фаршем и тыквой, самсу из песочного теста с курдюком и чучвару с овощами.
– Если честно, я пришла попрощаться. Так тяжело мне забирать отсюда все свои вещи. Но меня ждёт университет. Мне же там понравится, да? – в надежде утешения спросила я.
– Ну тогда забудем про жир от самсы. Пойдём, я угощу тебя эклером с лавандой или, если захочешь, калиссоном из миндаля. Сладкое поможет пережить день. Тебя в лицее все очень любят, моя родная. Мы всем чувствуем, что лишь для тебя лицей стал настоящим домом, но это не значит, что и университет им не может стать.
Сдержав скопившиеся слезы, я обняла Георгину Леонидовну и после скоротечного чаепития вновь поднялась наверх. Отряхнув сладкие крошки с уголков рта, я поправила прическу, выдохнула и зашла в учительскую. Посреди аудитории стоял широченный стол, за которым сидели директриса и хозяин лицея, мои самые любимые преподаватели, по которым, как оказалось, я буду скучать всю оставшуюся жизнь.
Без позволения я присела рядом с ними и почувствовала запах цветущих орхидей, которые будто бережно были спрятаны от людских глаз в узорчатых горшках на окне. Владелец лицея, Виктор Витальевич, был рослым мужчиной лет сорока пяти, без единой складки на своём изумлённом, чуть вспотевшем лице. С первого взгляда ВВ, как мы его любя нарекли, казался всем придирчивым и неподступным, однако, если он замечал в ученике доброту, талант или оптимизм, общение с ним превращалось в бесценно подаренное судьбой время.
Нина Владиславовна, директор лицея, любому встречному показалась бы белокурой ирландской чародейкой: блондинка с синими, как Эгейское море, глазами, аккуратным маникюром и распахнутыми ресницами, достающими кончиками до тонких бежеватых бровей. Она всегда мне казалась вышагнувшей из французских романов исключительной героиней, про которую с каждой новой страницей хотелось узнавать все больше и больше.
В тот прощальный день Нина Владиславовна была одета в коралловую льняную блузу, которая незатейливо гармонировала с блеском ее выразительных бугристых губ, всегда смазанных помадой цвета маджентовой дымки.
По-матерински расплакавшись, Нина Владиславовна зажмурилась и вытиснула из себя улыбку. Она поцеловала меня в мою впалую щеку, оставив след на лице от жирных губ, и подарила фиолетовую лампадку на счастье.
Все годы обучения проскакали в плаще-невидимке, прячась то ли от размолотой усталости, то ли от нависшего недосыпа, то ли от мамы, все время мечтающей поскорее отправиться в отпуск. Папа забирал меня по понедельникам, средам и пятницам из лицея, когда мама побывала в нем лишь на выпускном вечере.
Наш класс был разделён по направлениям: правоведы, расследующие на семинарах уголовные дела педофилов, технари, создающие роботов от скуки в оставшиеся минуты обеденного перерыва, будущие дипломаты, имитирующие по четвергам в лицее модель ООН, и литераторы, которые казались всем остальным подразделениям немного сумасбродными и чересчур неординарными. Пары иностранных языков были смешанными: физик Иса с тонкой спутавшейся косичкой и приехавший ради лицея казах Манарбек выводили из себя самого энергичного преподавателя английского языка Нателлу Всеславовну, носящую на хрупких плечах тринадцать разноцветных папок с креативными заданиями; на занятиях древнегреческого Генка Болдин влюблял в себя Анну Богдановну, не устающую слушать о Фалесе Милетском, Ферекиде, Кратете Фиванском, а на обществознании все благоговейно молчали, ведь пару вёл Виктор Витальевич. Его утонченная харизма, глубинное обаяние, прямота слов и поступков выцарапывали жирнейшие вопросительные обозначения в моем загруженном сочинениями и эссе мозге. То он улетал в Лас-Вегас, чтобы развлечься на выходных, то раздавал беднякам еду, которую сам готовил, то менял каждый месяц надоевшую иномарку, то призывал нас к достоинству, вере и чистоте помыслов. Все студенты и немногие учителя заискивали перед хозяином, однако совершали это без наигранной фальши. Виктор Витальевич привязывал к себе непритворностью, остроумием, а главное – жаждой жизни. Он никогда не кричал, не срывался на учеников или преподавателей, но тяжесть его неуклонного спокойствия давила и одновременно бескорыстно подкупала.
Вышагивая за крыльцо родного лицея, возле которого меня ждала опаздывающая к бабушке мама, я прокручивала все одиннадцатилетние воспоминания и вновь начинала рыдать. Чтобы отвлечь меня, мама резко схватила меня за плечо и повела к машине. Всю дорогу она разговаривала с папой, уменьшая громкость звука, чтобы я не услышала ни одной произносимой им буквы.
Когда добрались и постучали в дверь несколько раз, нам с мамой наконец открыла худощавая бабушка с пятнами на руках от масляной краски, которой она рисовала очередную картину для пропавшей без вести дочери. Мама разулась, погладила взъерошенную кошку и обошла Федорочку, сразу усевшись в гостиной. Бабушка вытащила из забитого домашней утварью ящика банку самодельного варенья из фейхоа, заварила чай с донской ромашкой и достала из духовки пирожки с тыквой и яблоком.
– Таяша, я тебе сложила в тазик перетертый с каштановым мёдом грецкий орех, чтобы мозги питались. У тебя впереди непростой период адаптации к институту. Верочка, а тебе картину нарисовала, – сказала бабушка, сняв с деревянного мольберта круглый холст.
На картине текла словно по-настоящему узкая темно-сизая речка, впадающая в море с горбатыми волнами василькового цвета. Неярко светило солнце, но на небе не было ни одного убегавшего облака.
– С момента исчезновения Нади у тебя не было ни одной тоскливой картины, будто ты и вовсе не страдала от ее исчезновения, будто Надя не была твоей дочерью. Мама, твою дочь, мою сестру-близнец украли в пустыне. Возможно, ее изрезали на органы, возможно, она в плену, а может, ее изнасиловали и оставили в дюнах, пока ее останки не испарились от невыносимой жары. Как ты можешь рисовать такую идиллию? Неужели у тебя в душе столь светло после ее пропажи? – взяв картину, яростно начала кричать мама.
– Как ты можешь обвинять бабушку в том, что она проживает горе не так, как ты? – бесцеремонно вмешалась я.
– Вера, я чувствую, что Надя жива, и я знаю, что она обязательно вернётся. Ты похоронила сестру и уже полгода как перестала искать. Но это вовсе не означает, что Надежда мертва.
– Наде всегда доставалось меньше материнской любви, а мне отцовской. Признайся, что это так. Ты не любила Надю, а когда она пропала, и вовсе забыла о том, что для приличия хотя бы можно всплакнуть раз в год на кладбище.
– Надя родилась первым ребёнком. Но, к сожалению, на тебя у меня не хватало сил, из-за чего акушерке пришлось достать тебя вакуумом. Мне сразу сказали, что ты будешь мертва, а когда ты оказалось живой, меня уверили, что вторая девочка будет особенным ребёнком с умственными отклонениями. Поэтому о тебе я больше заботилась, чем о Наде, ведь она была совершенно здорова. Когда вам исполнилось пять лет, я поняла, что ты – способная не по годам. Однако спустя несколько месяцев тебе диагностировали порок сердца, и вновь я переключила внимание на тебя. Но вы обе-мои прекрасные дочки, и я вас обеих безмерно люблю.
Мама заплакала, подошла к бабушке и обняла ее выгнутые плечи. После похищения тети бедуинами мама будто бы заменила себя на кого-то иного. Приехав из той злосчастной поездки, она стремительно рассталась с отцом, оставаясь при этом законной женой, стала по-другому готовить и краситься по утрам, взяла отпуск за свой счет на три месяца, улетев в Вашингтон на очередное обучение по нейрохирургии, а вернувшись в Ростов, по-прежнему осталась замёрзшей для папы льдиной, оторванной от совместного прошлого, любви к спонтанным поездкам и субботней традиции вместе печь кукурузный хлеб с финиками и черносливом. От неистощимой ростовской скуки мы больше не могли сорваться по пути в продуктовый, уехав из города к Чёрному морю на пару дней, не могли, как раньше, веселиться на праздниках, слышать и видеть хоть что-то про верблюдов или пустыню. Мама стала щедрее и даже маниакальнее опекать меня, будто взболтав в себе осевшее на дно чувство ответственности за крохотное растущее сердце.
Привычек, как и страхов, у нее тоже прибавилось: смотреть со мной вечерние новости перед сном, втайне желая услышать про найденных пленниц на Ближнем Востоке, ездить с родителями отца на дачу в Елизаветку, моя коней-дончаков с бабушкой Липой и расчесывая им гриву, ходить по воскресеньям в церковь и ставить за упокой сестре, которую она без прямых и косвенных доказательств не считала живой.
Уехав от бабушки Федоры, мы с мамой наконец вернулись в квартиру. Она помогла мне распутать волосы, которые заплела в косу, как учила ее бывшая свекровь Олимпиада Захаровна, включила ночник с мерцающими огнями и, поцеловав мои чуть вспотевшие руки, отправилась спать.
Наутро нас разбудил парад непрекращающихся звонков от отца, который вскользь сообщил маме о внезапном отъезде бабушки и дедушки из страны. Мама уветливо разбудила меня, и вместо изъезженной дороги на субботнюю йогу мы проложили в навигаторе путь до аэропорта. Мама хрипло и надсадно дышала, однако отказывалась объяснять мне происходящее без присутствия папы. Зайдя внутрь терминала, я увидела дедушку в таслановом сером плаще и запотевших очках, которые слегла расшатались на его чуть скованном лице, старающемся вытянуть вширь улыбку. Он отвёл меня в сторону, вытер носовым платком до сухости мокрый лоб и принялся говорить:
– Таяша, мы с бабушкой улетаем в Германию, в Мюнхен. Помнишь, мы как-то там ходили с тобой и папой на футбол?
– Дедушка, что произошло? Ты что-то натворил и тебе надо бежать?
– Четвёртая стадия рака. Узнал только вчера. Даже врачам из папиной клиники пришлось отказаться от такого ворчливого, хоть и притягательного пациента, а с утра и мои московские коллеги лишь предложили смириться и насладиться последними месяцами общения с близкими. Но я однажды победил клиническую смерть и даже упрямство твоего папы, значит, и это смогу. Немецкие врачи опытны в этом вопросе, поэтому не волнуйся. На завтра назначена консультация, а на следующую среду предварительно операция с одним из лучших европейских хирургов. Тебя оставляю за старшую. Не давай никому ключи от библиотеки и не забывай добавлять янтарную кислоту в мои орхидеи.
Безмолвно кивнув, я отошла в сторону и стала выплескивать густые безотрадные слезы, не успевающие размеренно стекать по моим щекам. Чтобы остановить плач и высушить непросыхающие ресницы я вихрем пролистала в своей памяти самые тёплые дни, проведённые с дедушкой. Мне вспомнилась ночная охота на крабов в Умм-аль-Кувейн, рафтинг по бушующим потокам реки Замбези, то, как мы с дедушкой разгадывали загадки Шерлока Холмса перед сном и летали на воздушном шаре, разрыхляя штормовые облака над Ростовом, то, как дедушка учил ловить в Дону краснопёрку и коптить шамайку, и то, с каким он трепетом выбирал для бабушки мимозу к Восьмому марта.
На папином лице я заметила сокрушение и отчуждённость, которые, в отличие от дедушки, он не умел гасить или перепрятывать внутрь себя. Болея гепатитом несколько лет назад, дедушка не мог держать кружку с его любимым гранатовым чаем; кипяток выливался и оставлял шрамы на его тонкой оливковой коже, однако при этом он всегда улыбался и совершенно никогда не жаловался ни на самочувствие, ни на страх перед смертью, ни на пасмурную погоду и такое же пасмурное настроение. Его родной сын, мой отец, был иным: при покалывании в ухе он проговаривал завещание, а во время прививки от сезонного гриппа надевал на себя мученический образ богоугодного страдальца. Но когда речь заходила о членах его семьи, папа забывал о жалостливых словах и личных потребностях, полностью отодвигая свои интересы, самочувствие и мечты куда-то в самый далекий и темный угол души.
Проводив бабушку и дедушку, мама предложила подвезти меня до йоги, но я предпочла вернуться в город с папой. В его машине я увидела маленький зелёный абрикос, который при всей своей незрелости и дешевизне казался столь значительным для целого человека.
– Этот абрикос – последнее, что мне в руки дал твой дедушка, – тихим голосом вымолвил отец.
– Давай вместе проведём день. Ты не поедешь на работу, съездим в наш любимый рыбный ресторан, а затем сходим в кино на комедию или погладим птенчиков в трогательном зоопарке.
– Нет, Таяша, мне надо в клинику. Представь, что чей-то дедушка, заболевший раком, нуждается в помощи, как наш. Может, работая сегодня, я смогу продлить чью-то жизнь. Давай лучше отвезу тебя к Рите, я уже ей написал.
Через полчаса папа высадил меня у дома подруги, в квартиру к которой я быстро попала, пройдя мимо вечно спящей на судоке девяностолетней консьержки. Ритка, от которой, как всегда, пахло розовым перцем, яблочным бренди и белоснежными цветками померанцевого дерева, открыла дверь, чмокнула меня в правую щеку, рьяно схватила за руку и повела к себе в комнату. Рита уже знала о заболевании дедушки, но не могла вымолвить слов сочувствия, потому что это шло вразрез с ее незатопляемым жизнелюбием. Она накрасила губы помадой с оттенком норвежского лосося, достала персиковые сигариллы, скинула на кровати несколько кутюрных платьев, среди которых было одно подаренное мной, а затем включила джазовые хиты Амрстронга и Риты Симон. Вытащив из прикроватного ящика бутылку мартини и два хрустальных бокала, Рита сорвала с оливкового дерева, стоящего у балкона, два переспелых кружочка и кинула в прозрачную смесь.
Мы посмотрели короткий комедийный сериал, съели три коробки японского шоколада с шампанским и эквадорскими какао-бобами, обсудили бывшую жену нового хахаля Ритки и испекли кексы с хуторским творогом и изюмом.
Вернувшись домой, я разбросала гималайскую соль по углам ванны, после принятия которой мама принесла мне на серебряном подносе чёрный чай с тремя дольками лимона, как я люблю. Макая затвердевшие пряники с алычовым повидлом в кружку вечернего чефира, мама вдруг поперхнулась.
– О чем подумала? – приплямкивая, спросила я с набитым ртом.
– Завтра ты улетаешь к дедушке в Мюнхен. В самолёте у него открылось кровотечение. Надо успеть попрощаться…
Глава 3
Горячий шоколад в кафе «Эль Греко» подавался присыпленным кокосовой стружкой трюфелем в пиале со взбитыми в форме цветка сливками. Самое старинное заведение в Риме, в светло-алых стенах которого я всегда будто ненароком подслушивала размышления Бальзака о реализме, ищущего двойника Стендаля, грустное шуршание перелистываемых Гёте страниц, споры Шопенгауэра с презираемыми им немцами, рассказы Байрона о романтических странствиях по миру и невесомый взмах Гоголя, написавшего в «Эль Греко» роман «Мертвые души», который я перечитывала в этом же месте перед сдачей ЕГЭ по литературе. Золотые рамы с трещинками истории, портреты Вагнера, Ференца Листа и Берлиоза, «Лодка жизни» Доменико Моррелли, барельефы и изящные кресла из бархата то ли оттенка неспелой вишни, то ли бургунди, то ли вымытого граната. Души Россини, Моравиа, Бенуа, Фаццини, парящие над пузырчатой молочной пенкой в капучино, которое итальянцы громко, но ласково называют капуччо, улыбчивые официанты в смокингах, с приподнятыми подбородками и ровными, как московские дороги, спинами, утомленные покупками на Виа дель Корсо женщины, повесившие на раритетные статуи пакеты из бутиков, и то самое рассыпающееся от сильного надавливания песочное печенье оттенка расколотого арахиса.
Выйдя после обеда на шумную многолюдную Виа Кондотти, укутанную июньским теплом, я завернула на улицу артистов, которая словно была спрятана от растопыренных глаз спешащих туристов и пронырливых неброских карманников. На Виа Маргутта я будто спасалась от мелькающих лиц, поцелуев локтями с незнакомцами из толпы и зудящей пустословной болтовни, доносящейся с каждой стороны уха. Старинная лавка мрамора, с седовласым и улыбчивым мастером, с которым я обменивалась добрыми словами и в декабрьский зной, и в июльскую жару, в тот день почему-то была закрыта. Однако по-прежнему, на том же месте стоял припаркованный «Фиат-500» цвета желтого марокканского мандарина, возле которого столь часто фотографировались девятнадцатилетние блогеры, не ведающие ни истории этой машины, ни чувствующие тонкострунной души в облезшем заржавелом металле. Я подколола распушившиеся от жары волосы и, присев на протоптанный возле «фиата» тротуар, заговорила:
– Чао, многоуважаемый Лутео. Уже восьмой раз в Риме, а все также прихожу к тебе, мой старичок. Знаешь, я сбежала в Вечный город на три дня до начала учебы и бесцеремонных попыток бабушки меня сосватать. Была у дедушки в Мюнхене. После операции он впал в кому. Но ты не волнуйся, с ним бабушка. С ней деду ничего не страшно ни в сознании, ни без него. Папа улетел к нему неделю назад, даже восемнадцатилетие мое пропустив, которое, впрочем, я и не праздновала. Я сдала экзамены, знаешь, на последнем по литературе было так душно. Не было кондиционера, лишь отворили окна, из которых задувал обжигающий воздух. Был сорок один градус в тени тогда. У меня даже вспотели коленки. Осталось снять квартиру где-нибудь на Вернадского или Лобачевского, поучиться, а затем снова вернуться в Италию, чтобы накормить порцией вдохновения альманах скакунов. Ты же будешь меня ждать, никуда не угонишь, Лутео?
– Такую сумасшедшую точно будет. Не каждый день таких повстречаешь, —заржав, как конь, сказал голос сзади.
Передо мною стоял молодой парень в белом костюме и темно-синей рубашке, равномерно заправленной в безупречно выглаженные брюки из шелка. Он снял затемнённые очки, и под июньским солнцем, обжигающим когда-то Плутарха, Вергилия и Домициана, появились голубые глаза, похожие на дневной цвет озера Балатон. Молодой парень был высок и весьма худощав, имел длинные пальцы, как у прирожденного венгерского пианиста, и тонкие запястья, как у достопочтенного шотландского виконта. На фоне загорелых и смуглых итальянцев с грубыми, будто жирно очерченными чертами лица кожа юноши казалась еще бледнее, а горбинка на носу – изящнее и незаметнее. Болезненный цвет кожи и еле слышный голос толкали меня на бессовестные вздорные мысли. В голове я рисовала картину страдающего анемией человека, находящегося под капельницей, который вот-вот отправиться в мир иной. Я не испытывала ни неприязни, ни восхищения, ни той самой эфемерной влюбленности, на которую, как считала Ритка, я не была и вовсе способна. Однако что-то внутри заставило меня встать с асфальта и продолжить принудительно завязавшийся диалог. Выпрямив осанку и отряхнувшись от осевшей на землю пыли, я сказала:
– Наверное, это походило на беседу Гаева со шкафом. Я выглядела столь же нелепо?
– Любите Чехова?
– Не знаю, но я определенно не люблю, когда на мой вопрос отвечают встречным вопросом.
– Вы напряглись, будто сочли меня заинтересованным в вас. Но поспею вас уверить, вы не в моем вкусе. К тому же вы диковатая…
– Говорят, ныне мужчинам по душе лишь безропотные девушки, не имеющие своего слова и мнения. Да и чтобы всегда молчала, не пугая своим скудоумием… И эта дурацкая мода на силикон в груди, ягодицах, губах. Наверняка, это ваш типаж…
– Такие женщины мне, очевидно, понравятся больше, чем сидящие на земле малолетки, которые разговаривают с неодушевленными предметами.
– Потому что, поверьте, даже с бездушными куклами приятнее иметь дело, чем с хамоватыми типами в белых костюмах. Вынуждена покинуть столь увлекательную компанию, так и не узнав вашего имени…
Стянув заколку и распустив волосы, я направилась на улицу Бабуино, как вдруг моей спины коснулось выкрикнутое незнакомцем имя «Борис». Так и не обернувшись, я утолила жажду благодаря уличному фонтанчику, в который стекалась питьевая вода из древнеримских цементных непроницаемых акведуков, после чего дошла до церкви Андрея Первозванного.
Когда мне было семь лет, мы с мамой и тетей впервые отправились в Рим. Мне часто вспоминается то, как на нас смотрели никого не замечающие туристы, ведь мама с тетей, как тонконогие лани с вьющимися натуральными волосами цвета пылающего огня, совсем не отличались друг от друга и вели крохотную, пугающуюся от торопливых шагов девочку. Я шла между ними и держалась за большие пальцы их хрупких кистей, представляя, что когда-нибудь вырасту столь же красивой и восхищающей всех вокруг. Я мечтала, что буду носить яркие вещи и в гололёд ходить на работу, как мама и тетя, на каблуках, а по вечерам также звонко смеяться, не жалуясь на усталость и придирки коллег.
В то путешествие мама с тетей отправились ради меня; за шесть дней в городе-колыбели Античности они сумели показать мне и непоколебимый Колизей, и Римский форум, все сады, базилики, библиотеки и папский дворец Ватикана, термы Каракаллы, шедевры Рубенса и Тициана в Капитолийских музеях, катакомбы и Аппиеву дорогу, «Семирамиду» Россини в Римской опере и даже Музей военных флагов. Мы объедались трюфельной пастой, и мама разрешала мне даже есть каждый час джелато с сицилийской фисташкой, мятой, маскарпоне и карамелизированным инжиром. И вот прошло ровно десять лет, и я снова оказалась в той церкви, мимо которой каждый день проходят сотни туристов, не желая хоть на пару секунд в ней оказаться…
Внешний облик Рима, как человеческий образ первого впечатления, вот уже века остаётся пуглив и обманчив. Снаружи любое серое известняковое здание в нем порой кажется аскетичным, пресным и скучным, но стоит лишь заглянуть в атриум, как пред тобой распахивается целый мир с фонтанчиками, плющом, колоннами из Древнего Рима и даже пальмами, в которых вьют гнезда говорливые попугаи. А уж если они и услышат твои секреты, то никогда не прошепчут их другому проходящему мимо страннику. Так оказывается и с людьми: порой неприметный человек хранит в себе столь чарующий внутренний мир, где ты можешь обрести приют благозвучия и любви.
В той церкви был столь же скрытый квадратный дворик, который итальянцы тихо и безмятежно привыкли называть «кьостро». В нем цвели апельсиновые деревья, заглушающие цитрусовым запахом раскалённый вихрь римского воздуха. Внутри храма благоухало выложенными у краев стен живыми цветами. Аромат трубчатых лилий и раскрывшихся роз, смешанный с душистым ладаном, будто оборачивал стоящих на коралловом мраморе величественных ангелов скульптора Бернини, про которых не знали даже многие живущие в этой стране итальянцы.
В той церкви я часами работала над своим первым романом, который надеялась писать в стол, никогда не издав. Затем традиционно я шла на площадь Навона, к фонтану Четырёх рек. Присаживалась у хозяина по имени Джеронимо в кафе с клетчатыми скатертями и заказывала бокал барбареско под тягучую лазанью с шалфеем, розмарином и майораном. Смотря на облицованных в белокаменный мрамор речных богов, я думала, в какой же части света я все-так мечтала бы жить. Может, где-нибудь у Дуная, а может, на американском континенте между Боливией и Аргентиной у Ла-Платы, где словно на фонтане, оживают кактусы и крокодилы. Или быть может мне стоило давным-давно закрыть глаза, как богу Нила, пока африканский лев утолял свою жажду у корней раскидистой пальмы. Но, наверное, для меня было бы благом лишь превратиться в голубя мира, как на верхушке фонтана, и лететь с веткой оливкового дерева туда, куда захочу. Быть свободной, не относясь к какой-то определенной стране, а лишь парить над землей и при этом быть близкой к людям.
К пяти часам на площади все более прибавлялось влюблённых пар, смотрящим не по сторонам, а друг на друга. Эти опьяненные итальянским вином и любовью юноши словно растворялись во времени и пространстве. Я тихо радовалась за них, наслаждаясь своим одиночеством и одновременно боясь, что никогда не испытаю то самое волшебно звучащее на всех языках чувство. Вместе со счетом мне принесли белый шоколад и засушенный желтый цветок, который вместо конфеты я аккуратно сложила в сумку, после чего отправилась в отель собирать вещи.
Проснувшись около шести утра, я ушла в открывающееся ранним утром кафе, где выпила свежевыжатый морковный сок с альпийскими сливками и съела панини с мортаделлой и копченым сыром, после чего прогулялась по аллее высоких тонкоствольных итальянских сосен с пышными шапочками.
Заскочив в такси, я открыла кошелёк, чтобы достать пластиковую иконку перед полетом, и вдруг обнаружила, что не могу найти заграничный паспорт. Несколько раз припомнив рогатого черта, я перевернула всю сумку Prada, вернулась в отель и судорожно начала проверять каждый угол в номере, а затем, осознав, что впервые потеряла значимый документ, без которого не могу добраться на родину, разрыдалась.
Слезы предстоящих лет моей жизнь лишь научат меня никогда не плакать и даже не расстраиваться из-за потери вещей и заниженных балов, полученных на экзамене. Но тогда меня, не знающую бедности, болезней, страданий от несчастных случаев, словно вышвырнуло в жар, а затем парализовало. Я позвонила папе, и он со свойственной ему рассудительностью, не крича и не обвиняя, посоветовал улыбнуться, затем рассмеяться и только потом отправиться в российское посольство. Положив трубку, я, как всегда, послушалась отца; я насильно приподняла уголки рта, потом вспомнила несколько забавных историй про ухажеров Ритки и рассмеялась, а после проложила в навигаторе путь до посольства, в котором меня приветливо выслушали и пообещали решить проблему, но с одним «но».
– Вы должны подтвердить своё гражданство. Для этого следует найти в Риме троих россиян, подписавшихся бы под тем, что вы – гражданка России, —писклявым голосом произнесла молоденькая сотрудница.
Выйдя в коридор из крохотного скрипучего кабинета, я оказалась озадачена: в Риме у меня не было русских знакомых или приятелей, значит, мне нужно было бы просить папу и бабушку оставить находившегося в коме дедушку в Мюнхене и прилететь, прихватив мою подругу, переехавшую в Берлин пару месяцев назад. Но с детства я не любила доставлять даже самым близким людям неудобства, поэтому, сев на скамейку в посольстве, я закрыла лицо вспотевшими ладонями и положила бланк, необходимый для подписей, возле себя. Вздремнув пару минут, я проснулась, но почему-то не смогла найти ни под стулом, ни около своих вещей нужного документа. Отчаявшись, что потеряла и его, я снова поднялась по лестнице за повторением процедуры, как вдруг передо мною появился тот самый парень, подслушавший мой разговор со старым фиатом.
– Вы преследуете меня, что-ли, Борис? – сдержанно и ровно произнесла я.
– Значит, вы запомнили мое имя. Я не преследую, вот собрал для вас три подписи, пока вы на скамейке спали минут пятнадцать, похрапывая. Теперь можете получить справку и с ней улететь в Россию.
– Я храпела?
– А вас храп интересует больше возвращения домой?
– Прошу прощения, я растерялась… Огромное вам спасибо, но, простите, как же вам это удалось?
– Мамочки-россиянки, стоящие у посольства каждый день с детьми на руках, вначале приходят к этим дверям и просят апостилировать их бумаги, чтобы они могли выйти замуж за итальянцев. Затем получают вид на жительство, доказывая с пеной у рта, что их Джованни, Фабио, Эмануэле, Валерио никогда не обидят их, сделав несчастными. Но потом спустя время многие из них, как та девушка, вытирающая нос платком, стучатся в посольство с грудничками в надежде, что Россия поможет в разводе и даже решении, с кем же останется межкультурный малыш. И они настолько отчаянны, что готовы расписаться, где их попросит любый незнакомец…
– Как жаль мне их. А вас еще раз благодарю и всего вам доброго, Борис.
– Не желаете прогуляться? – с мнимой робостью вымолвил он, подмигнув.
Выйдя из посольства, мы перешли на «ты», стали неспешно гулять и беседовать обо всем: театре, путешествиях и даже политике, той самой запрещённой моей мамой темы.
Внезапно Борис вдруг сказал:
– Ты весьма неплохо разбираешься в международных отношениях. Может, поступишь на дипломата, пока не поздно.
– Боюсь, политическая арена – не место для таких слабых и ранимых гладиаторов, как я. Да и, к тому же, я уже определилась с выбором профессии, хоть и рассчитывая, что рано или поздно судьба сделает из меня писателя…
– Каждый человек —автор. С момента совершеннолетия мы все писатели, печатающие для себя сценарии жизни. Кто-то коптит над драмой, кто-то гонится за любовными мотивами, а кто-то постоянно сжигает рукописи, набело переписывая неугодное содержание.
Многие годы с начала отроческой перестройки я не знала, как видеть и понимать лексему «судьба». Жить по принципу Ницше «Построй себе судьбу, которую полюбишь сам» или прислушаться к колыбели Античности, вспомнив мудрость древних греков, которые говорили: «Что занесено в свиток судьбы, то неизбежно». Будоражащий фатум, граничащий с роком и стремлением противостоять неизбежности, пересекающим наточенные нами планы, которые порою так болезненно ранят нас своей одержимой заостренностью. Что было предписано мне и был ли до конца в синопсисе моего бытия Борис или же он просто мелькал, как отвлекающий фоновый персонаж? Знала бы я… Да и если знала бы, вычеркнула бы его имя сразу или же подождала неминуемую развязку, в которой порой непредсказуемо вылазит то, чего мы так ждали и чего столь суеверно боялись. Порой так чешется отыскать и выкрасть у судьбы точный прогноз наших дней со всеми его тучами, ветрами и невыносимой солнечностью. Стало бы возможным узнать решение своих запросов, заглянув в уже прописанные ответы на последней страничке, как в бабушкином глянцевом кроссворде, раздырявленном исписывающейся ручкой, на даче в Староминской? Что было бы, если бы мы читали книгу нашей судьбы с такой же доступностью и быстрой загрузкой, как ежеутренние новости за чашкой бодрящего эспрессо? Стали бы счастливее, разочаровались бы в выбранном пути, вырвали бы листы из незаладившихся событий или стали бы удирать от злосчастного дня смерти, все пытаясь сыграть с ним в обречённые на конечный проигрыш прятки?
Не знаю…И тогда не знала. И даже более – не узнаю, если же в этом завтра все еще буду я…
– Не думаешь ли ты, что где-то там, куда не долетают ракеты и самолеты, уже все уготовано для каждого из нас? А если наше будущее уже построено за нас? Как скажем, дом, в который мы попадаем после выписки из роддома? – вдумчиво уточнила я у Бориса.
– Может, и так. Ну это не означает, что надо полагаться на добросовестность стройки. Если конструкция не по нраву, если она может в один день обрушиться на тебя или твоих родных, надо все сносить к чертям или ангелам. И строить на ее обломках то, что хочется. Сжигать эти сценарии судьбы в пекло.
– А если кто-то свыше без позволения вносит корректировки в план нового объекта?
– Сжигать всю эту предписанную бумажонку в пекло.
– Боюсь, рукописи не горят.
– А ты жги, а затем танцуй на пепле судьбы. Пусть медленно и неуклюже, но только не останавливайся. Танцуй босиком, втаптывая в магму сгоревшее инородное влияние на твою жизнь. Пиши свою судьбу сама, без подсказок и нашептываний.
– Главное, чтобы судьба меня не выписывала… А то высосет все чернила, и останется во мне лишь пустота, – с щемящим вздохом вывалила я.
– В такой, как ты, пустота? Не бывать этому.
– Все же, наверное, свиток судьбы, как полагали древние греки, не перепишешь.
– Мы сейчас не в Афинах. Власть их мыслей уж точно в Риме не распространяется. Не будем вспоминать мифы Древней Греции. Кстати, успела ли ты побывать в античных точках? Что тебе больше всего понравилось? Колизей?
– Нет, Римский форум.
– Триумфальная арка Тита или храм Весты?
– Вовсе нет. Камни на земле.
– Камни? Какая же ты все-таки странная, – со снобизмом рассмеялся он.
– Вдоль дороги, куда запрещено попадать туристам и жителям. Там сквозь древнеримские камни растёт и прорывается трава, и кажется, что жизнь вечна, а ее колесо не остановилось ни после войн, ни после чумы, ни после землетрясения и наводнений. Этот тонюсенький зелёный волосок тянется и так жаждет жизни, что, загрустив и отчаявшись, я теперь буду вспоминать о нем.
Дойдя до расписного дворцового атриума, Борис вдруг спросил у меня:
– Никогда не догадаешься, что это. Сейчас расс..
– Энкаустика. Древнеримское покрытие, роспись по горячему воску. Ради этой техники люди были готовы перемалывать драгоценные камни, —перебив его, решила поумничать я.
– Вот идиоты. Отдали свои колье, чтобы стены выкрасить…
– Разве это не наивысшая любовь к искусству? – обернувшись к Борису, спросила я.
– Можно любить и не жертвуя. Просто так.
– То, что не выстрадано, обычно не ценится нами. Да и разве существует любовь без страданий? Пусть даже по ушедшим серьгам или кольцам?
– Не знаю… Но страдания без любви уж точно существуют. Тогда почему же не может быть наоборот?
Мы вполне скоротечно оказались около Пантеона; Борис встал в очередь на вход в Храм всех Богов. Заблаговременно разочаровавшись вопиющей банальностью его сюрприза, я не выдержала и произнесла:
– Неужели ты думал, что я не была в Пантеоне? Или, может, что не знаю про эффект сухого дождя? Мог бы хотя бы в Капитолийский музей отвезти…
– Так рьяно намекаешь, что я не способен впечатлить девушку? – с вызовом обратился ко мне Борис.
– Я бы справилась с этим лучше.
– Тогда удиви. После Пантеона отведи меня в место, в котором я не бывал или в котором было бы что-то уникальное, то, о чем я и не догадывался. Если выиграешь ты, я исполню в Риме любое твоё желание, а если все же победителем стану я, ты отправишься со мной на день в Венецию.
Его предложение показалось мне безобидным, заманчивым, но ни к чему не склоняющим. Отстояв трескучую очередь из говорливых итальянцев, мы попали в Храм всех Богов. Ради его открытого и загадочного купола в Рим приезжают миллионы туристов из других частей света. Они желают промокнуть под сухим дождем, так и не сумев понять, как его ливневые капли не долетают до земли. Мы встали прямо по центру; я взглянула на полуденное небо, как вдруг Борис случайно дотронулся до моей ладони во время мессы. Его прожигающий вязкий взгляд расковыривал во мне голые зародыши и без того нагих чувств. Воздух возле Бориса словно был чище и ионизированнее. Казалось, будто его недымящаяся энергия отгоняет из пространства микробы и загрязнения мощнее дорогущего очистителя воздуха.
Под окончание таинства священнодействия Борис вновь неизгладимо и отнюдь непрошенно врезался мне в глаза, после чего вдруг зычно выкрикнул слово «вверх».
Через кругообразное отверстие купола, озаряясь июньским солнцем, падали с неба тысячи лепестков алых роз. Под лукавым преломлением кружащего света они неспешно спускались, заполняя цветочным ароматом все пространство темного Пантеона. Дождь из лепестков роз, под который мечтала бы попасть каждая девушка, останавливал и мое дыхание, и всеобщее время, отслаивая меня от неугомонно прицепившейся усталости и подвешенных переживаний о семье. Запах стерильной любви и душевного тяготения, который мне наконец удалось тогда впервые почувствовать, я держу в плену своей памяти до сих пор.
Борис поднял один лепесток, вложил мне в ладонь и сомкнул мои дрожащие и податливые, как чувства, пальцы в кулак, словно упрашивая меня сберечь прожитый нами миг. Я видела его во второй раз, но верно ощущала, будто бы он вырос в моей семье, стукаясь расписными яйцами с нами на праздновании Пасхи и заедая буханкой белого хлеба моченый дикорастущий арбуз в бамбуковой тенистой беседке майскими вечерами, будто бы он всегда играл с дедушкой в короткие нарды и спорил с отцом о трансферных окнах Манчестер Сити.
Захватив в кафе Джолитти два рожка мороженого со вкусами шампанского и жареного риса, я поволокла Борю за собой к месту, которое обещало быть выбранным мною. По дороге мы пародировали диалог итальянцев и русских, обсуждали стихосложение Кардуччи, советский кинематограф и открывшееся в Лондоне биеннале, и я совсем не заметила, как ноги притащили нас к церкви Сан-Луиджи дей Франчези, находящейся возле площади Навона.
Пройдя внутрь, я подвела Бориса к трём картинам, выдержав тишину во благо эмансипации его рвущейся к воли мысли. Борис отходил и вновь приближался к полотнам, старясь рассуждать о скрещиваниях библейских сюжетов с Античностью. Однако он ожидаемо заскучал, упросив меня рассказать о картинах, которые, как мне казалось, и без того откровенно болтали с умельцами слушать ласково и не торопясь.
– Три шедевра Караваджо. Наверное, это даже можно назвать триптихом о деяниях Матфея, которого мастер теней считал сребролюбивым и безразличным к Священному Писанию апостолом. Говорят, с этих картин учились многие известные режиссеры, ведь техника Караваджо родила 3D, – прокомментировала я.
– Как ты сумела запомнить, что я стараюсь смотреть фильмы только в 3D? Теперь даже не знаю, кто из нас выиграл. Наверное, мне следует признать поражение.
– Ты поражён? – откровенно задала я вопрос.
– Определенно. И боюсь, это впервые… – с улыбчивым намеком сказал Боря.
– Я взяла билет на завтра в Москву. Но дождь из роз в Троицу меня впечатлил не меньше, чем картины Караваджо когда-то. Поэтому исполним желания друг друга, возможно, в следующий раз. Благодарю тебя за день. Я запомню его на всю жизнь, – оборвав намеки, отрезала я и закусила нижнюю губу.
Попрощавшись, я вышла на площадь, как вдруг Борис догнал меня и пригласил на ужин. Вечерний мир мне внезапно показался прекраснее, величественнее, и я поймала забредшее в мысли сердце, что Рим занял второе место в списке любимых городов, сместив Женеву, но так и не обойдя родной Ростов. Борис попросил меня снять платок и надеть его на глаза, он взял меня под руку и куда-то отвёл по узкой лестнице, на которой, признаться, я ощущала себя скованно и угловато.
Затем Боря развязал повязку, и я увидела с высоты подсвеченный в ночи Фонтан Треви. Никто не толкал меня локтями, ни один турист не заслонял мой взор, а навязчивые продавцы сувениров не всучивали мне товар. Это был спрятанный ресторан с раскрывающимся видом на самый любвеобильный фонтан мира. Мы были одни, лишь в окружении античных статуй, подглядывающих за зарождением чего-то столь вечного, как обаяние Океана и его тритонов.
Через пару минут официант принёс коктейли, зажег свечи и подал ужин. Мы с Борисом молчали и просто смотрели друг на друга, а потом, когда я замёрзла, он укрыл меня мохеровым пледом и вновь стал похлопывать по карманам пиджака.
– Вот видишь окно в фонтане. Немногие в курсе, но это Палаццо Поли, пространство русской княгини Зинаиды Волконской. Там она проводила литературные вечера, и Гоголь на них часто читал отрывки из свеженаписанных произведений, – вдруг сказал он, выдвинув грудную клетку вперёд.
Допив белого русского, Борис ушёл куда-то, будто позволил мне наконец от души полюбоваться фонтаном. Но спустя несколько минут предмет моих долгожданных симпатий вернулся с объёмной охапкой желтых роз.
– Выйдя из Пантеона, ты сказала, что тебе не хватило лепестков. Здесь сто одна роза, в каждой из которых по двадцать лепестков. Значит, у тебя есть еще две тысячи двадцать лепестков, – произнёс Борис, без спроса поцеловав меня в щеку.
Я встала и-за стола и прижала цветы к сердцу так, как больше никогда не позволяла шипам дотрагиваться до самой трепещущей части тела, которая с каждой секундой все чаще билась. Я хотела петь, читать стихи и смотреть лишь на него. Я ощущала разнеженность, замешательство и… любовь. Наверное, это была она. Борис. Это первое имя живет, звучит и дышит во мне до сих пор.
После ужина он проводил меня до гостиницы и пообещал забрать из отеля около пяти утра, чтобы отвезти в аэропорт. Я зашла в комнату, набрала ванну ледяной воды, в которую закинула лежащий у чайника сахар, а затем опустила в нее стволы цветов. Я была такая пьяная, такая молодая и ничем не обременённая. Я хотела отщипывать от себя счастье, которого, казалось, было в избытке, и раздаривать всем опечаленным незнакомцам.
Утром я вышла из отеля, и Боря отворил мне дверь в машину. Впервые мне совершенно не хотелось возвращаться домой, поэтому тягостную тишину Боря прервал включёнными на радио новостями.
– О чем они говорят? Я же не понимаю итальянский… – поинтересовалась я, растерев до розовизны лоб.
Борис не ответил и вдруг, подъехав к вокзалу, мы остановились.
– Что мы делаем у вокзала? Я не доеду на поезде до Москвы…
– Уезжаем в Венецию. По радио сообщили, что аэропорт закрыт и все сегодняшние рейсы отменены.
– Борь, посмотри на небо, безоблачная погода. Как это возможно? В России даже во вьюгу рейсы не отменяют…
– Сегодня бастуют железнодорожники, а митинги здесь порой настолько масштабны, что работа аэропорта может быть приостановлена на пару дней. Вот что переняли жители Рима из Древней Греции, так это демократию, только в видоизменённом виде.
– Ты же непричастен к тому, что тысячи пассажиров сегодня не доберутся до нужного места назначения? – испуганно спросила я, так и не дождавшись ответа.
Бастовать, как римские железнодорожники, мне виделось тривиальной нуднятиной. Может, я лишь уцепилась за пустяковый повод остаться с Борисом. Желательно навсегда. Точно, это было не «может», это было «наверняка», незаметно перешедшее в «очевидно».
Сев в скоростной поезд, я быстро уснула, а пробудилась лишь уже на родине Паладио и Каналетто.
Выйдя на площадь Святого Марка, мы сели в гондолу с сиденьями из бордового бархата, которая слегка напоминала плавающий на воде темный гроб дедушки Захара. В мрачно-бирюзовой воде отражались коричнево-оранжевые дома. Гондольер в тельняшке и шляпе с широкими полями запевал итальянские песни, еще большее влюбляя меня и в Венецию, и в Бориса.
Выскочив на мосту Риальто, мы с Борей присели на террасу кафе и заказали поленту с маринованной сельдью и каперсами, каракатицу из венецианской лагуны в собственном соку из чернил, обжаренные сардины в оливковом масле с кедровыми орешками и изюмом, тушеное мясо осла, пюре из рубленой трески и красный цикорий, приготовленный на гриле. На десерт мы попросили придуманное в Венеции тирамису, в которое нам растерли хрустящие сицилийские фисташки.
Казалось, Венеция – иной мир, будто собранный по осколкам, будто жители в нем всегда улыбчивы и прекрасны, будто это разноцветная мозаика, будто этот мир романтичнее Парижа и ярче Рио-Де-Жанейро. Будто Венеция создана влюблять и умерщвлять от восторга.
– Мы отправились вместе в Венецию, тогда, получается, ты одержал победу? Ты вроде говорил, что мой сюрприз оказался не хуже, – заговорила после обеда я.
– Я готов исполнить и твоё желание. Только в Венеции, а не в Риме. Может, хочешь бриллиантовое колье или длинное вечернее платье? Моя мама здесь часто навещает одного дизайнера…
– Платьев у меня много, а бриллианты мне не нужны…Я хочу другого.
– В постель? – эротично заигрывая, произнес он и прикрыл ладонью подёргивающийся кадык.
– Посетить остров-кладбище Сан-Микеле.
– Таисия, я тебе предложил украшения, кутюр, уик-энд в Венеции, но ты, правда, хочешь посмотреть на чьи-то могилы? Или это добротный намёк после моего неудавшегося? – выпучив глаза, переспросил Борис, а потом вновь засмеялся.
– Не чьи-то, я хочу там пообщаться с Бродским и Паунд, ну и заскочить к Дягилеву. На пару минут хотя бы…
Очарованно улыбнувшись, Борис взял меня за руку и посадил в водное такси. Сырой ветер вновь и вновь развешивал мне пощёчины, напоминая о том, что нельзя любить первого встречного. Я перевела свой взгляд на проползающее небо, с каждой секундой все динамичнее сливающееся с Адриатическим морем. На лодке под палящим, не закрытым ни одним облаком солнцем Борис открыл бутылочку просекко, которую мы так и не успели допить до прибытия.
Чуть пошатывающаяся от веселящих пузырьков, с серьёзностью я купила венок на острове. Белокаменные могилы, древнеримские статуи, цветущие растения отличались от ростовских кладбищ с высохшим черноземом, пугающими острыми крестами, громадными искусственными цветочными композициями с чёрными атласными лентами и каркающими во все горло воронами с ожирением. Российские кладбища были словно пропитаны болью, присыпаны тяжестью прегрешений и заполнены проклятой темнотой. Мне всегда хотелось сбежать оттуда, помыть руки, тело и волосы, выбросить башмаки, ступавшие по костям.
Однако на острове Сан-Микеле все было иначе: светлые, ухоженные могилы, улыбающиеся пышногрудые чайки, статные кипарисы. Мы увидели и пуанты, аккуратно лежащие у могилы Дягилевы, которые вот-вот бы ожили и станцевали бы па-де-буре, и написанные от руки катрены на выцветшей от северного итальянского солнца бумаге рядом с надгробной табличкой «Эзра Паунд», и много свежих цветов и столь много свежих, неутомлённых тяготами жизни людей на могиле Бродского. Присев около таблички поэта, я призналась в любви его лирике и, достав из кармана клочок от ресторанного чека, написала на нем то, о чем потом пожалею.
Мы быстро скрылись, а вечером уже гуляли по Венеции и целовались под пристальным взглядом зажженных на небе звезд, сопровождающих нас и возле библиотеки Марчиано, и в квартале Каннареджо, и около Ка-Реццонико, и даже на Мосте вздохов. Ночью мы попрощались, и Борис отвёз меня в аэропорт, ничего мне не обещая. Он не оставил номер телефона, не назвал фамилию и даже место работы, а лишь высадил у входа на регистрацию, достав из багажника мой чемодан. Я чувствовала себя выброшенной без распаковки, однако не переставала филигранно кроить вид угрюмого безразличия. В терминале я прошла к стойке регистрации, получила билет, прошла зону досмотра, паспортный контроль, еле успев до окончания посадки на самолёт. Миловидная итальянка с подведёнными глазами и натуральными кудрявыми каштановыми волосами отсканировала мой посадочный, закатывая глаза и пробурчав ciao.
Заняв положенное в самолёте место, я достала роман Маккаллоу и попросила у стюардессы бокал тихого розового вина. Перед взлетом я по свойственной себе дурной привычке начала читать и уснула, чтобы постараться забыть то, что совсем не желала ронять из памяти.
Когда мы набрали высоту, меня разбудило бумажное шуршание. Рядом со мной сидел мужчина, маниакально переворачивающий страницы заслонившей его лицо газеты. Он делал это столь назойливо и экспрессивно, что последующие сорок минут мне все отчетливее представлялось его подсознательное желание нарушать мой сон. Когда мои веки опускались, он будто нарочно начинал теребить бумагу. Насилие над позабытым изданием меня, как будущего журналиста-международника, будоражило, выводя из непрочного равновесия. Зажмурив глаза от неловкости, я слегка постучала по газете и произнесла:
– Доброй ночи. Прошу прощения за беспокойство, но не могли бы вы перелистывать страницы «Corriere della Sera» чуть нежнее? Мне бы не помешал отдых. И газете, кажется, от ваших пальцев тоже.
Мужчина сложил газету, и я увидела лицо Бориса, будто обрамлённое в ласковую и возбужденную ухмылку. Он немедленно отложил примятое издание в сторону и спросил:
– Я забыл тебе задать один вопрос, вот и пришел сюда, чтобы это исправить.
– Какой? – в ступоре переспросила я, зажмуривая и выпучивая свои глазёнки вновь и вновь.
– Не желаешь ли ты прогуляться?
– Куда? Мы же в самолёте…
– Замуж. Хоть разок, я думаю, нужно…
Борис достал из кармана пиджака кожаную коробочку, из которой вытащил кольцо с ярко-желтым бриллиантом, и приподнял брови, ожидая скорый ответ. Не подумав о мнении семьи, играющей значимую в моей жизни роль, я мгновенно согласилась.
Все свои восемнадцать лет я даже не могла позволить себе выйти из дома без отцовского позволения, но в ту секунду, когда Борис задал мне столь волнующий и, как оказалось, судьбоносный вопрос, я будто бы осмелела. Весь полет мы целовались, наплевав на осуждение наших утешительных причмокиваний рядом сидящих бизнесменов в костюмах, перешёптывались и рассказывали друг о другу о семьях.
Приземлившись, мы получили багаж, взялись за руки, прислонились друг к другу, как вдруг, подобно оголтелой вороне, подлетела низкорослая беременная женщина. Она схватила ладонь Бориса и положила на свой арбузообразный живот и, иронично ухмыльнувшись, заглянула мне прямо в глаза как бесстыжей разлучнице. Не собираясь быть причастной к чужим разборкам и собственному разочарованию, я мгновенно ушла. Быстро и казалось бесповоротно.
Борис оттолкнул ее и стал оправдываться мне вслед, после чего все же сумел догнать меня, чтобы объяснить то, что не поддавалось ни единому разъяснению.
– Эта девушка ждёт от тебя ребёнка? – спросила, выдергивая ручку из ручной клади, я.
– Тая, я не знаю. Мы виделись с ней два раза, но пока не можем сделать генетический тест. Я готов быть отцом любого ребёнка, но мужем только твоим. Ты не из тех девушек, которые бы без любви ответили согласием недавнему знакомому.
– Ты совершенно мне безразличен. Это было несерьезно. И неужели ты думал, что без разрешения папы я бы вышла за тебя? – вытряхнула вслух неприкрытые враньё я, после чего стала чинить отвалившееся от ручной клади колесико.
Нагло слукавив, я рассмеялась прямо ему в лицо, в котором я заметила веру каждому моему обманчивому слову. Борис совсем не узнал меня, а значит, он поспешил. Он был растерян, подавлен, словно носил траур по погибшему дитя. Его щеки покраснели, а лоб покрылся клейким мерцающим потом. Борис поцеловал мою руку, потер подбородок и ушёл, оставив меня с летним московским холодом наедине. То, что я только что обрела, я потеряла. Без истерик, обвинений и самотерзаний я вышла из терминала и села в такси.
В российской столице я провела день мирно, но апатично. Москва не верила слезам и всем тем наговорённым мною Борису словам. Я позавтракала в ресторане на Хохловке, а затем сходила на выставку модернистов в Пушкинский музей, из которого меня забрал троюродный брат папы, работающий тогда в Арбитражном суде.
Заметив нависшую тусклость моего лица, дядя Гена отвёз меня в Покровский ставропигиальный женский монастырь, находящийся на Таганке. Отстояла очередь к иконе Матроны Московской, и мне вдруг стало легко и беспечально, ведь она не только поняла, но и сумела забрать стягивающую мое сердце боль. Птицы голосисто пели, и мне казалось, что над этим Храмом небо совершенно иное – чище, голубее и не сотрясеннее. И что я под ним совсем другая…
А когда наступил вечер, мы с дядей посетили театр им. Евгения Вахтангова, где я лучше познакомилась с «Фальшивой нотой» Дидье Карона, после чего, прихватив в одну руку чемодан, а в другую тоску, я улетела домой в Ростов…
Глава 4
Бабушка Липа достала из сундука колье с рубинами то ли цвета выдержанного португальского портвейна, то ли распаренной приморской свеклы. Затем надела серьги с крупными бриллиантами, нанесла мерцающее ромашковое масло на шею, после чего попросила меня застегнуть ожерелье, подаренное ей дедушкой несколько лет назад в Мьянме.
Бабушка любила светские приёмы, любила затмевать всех и вызывать зависть к количеству шуб из рыси, соболя и шиншиллы, репутации непоколебимой женщины без изъянов, успешному сыну и свежей, как розоволикий рассвет, внучке. Липочка считала меня ценным аксессуаром, дополняющим ее нерушимый образ эталонной дамы. Она следила за каждой появившейся трещинкой на коже моих губ и раздражилась, если в обществе мои волосы становились слегка растрёпанными во время танцев или занудных великосветских бесед.
Надев платье цвета неочищенного танжерина, я подкрасила ресницы темно-синей тушью и всунула ноги в бархатные лодочки, как вдруг бабушка Липа начала говорить:
– Не забудь надеть серые шелковые перчатки. Дресс-код «White tie» все же. Анна Павловна считает тебя самым ярким созвездием на небосводе нашего общества, поэтому всегда приглашает тебя на приёмы, которые ты столь редко посещаешь. Хамство, самое настоящее хамство.
– Анну Павловну ты обычно называешь Ноздревой, ведь при всей своей улыбке ты терпеть не можешь чиновничью коррупцию. Она всего лишь супруга здешнего министра, однако ее салон похож на комнату Романовых, к которым ее род явно никогда не относился. Мы ходим на эти балы, зная, сколько денег украл у простых сограждан ее муженёк, живущий не хуже британского маркиза. Бабушка, давай не пойдём, испечём вместе твой фирменный лимонный пирог, посмотрим французское кино.
– Не смей даже думать о таких бездельных вечерах. Ты скоро улетишь на учебу, и тебе будет не до таких мероприятий. Мы должны успеть найти тебе подходящую партию. Сын мэра Николай в тебе, кстати, очень заинтересован. И племянник моей подруги Аллочки вернулся из Швейцарии и сейчас войдёт в совет директоров семейного холдинга. Два вполне достойных варианта тебя ждут, поэтому захвати в клатч золотую медаль, которую тебе вручили на выпускном.
– Золотая медаль – это не пирожки, выданные проходящим на вокзале детям. Это труд одиннадцати лет учебы, который я не собираюсь таскать по сомнительным праздникам в честь наступившей пятницы. И замуж я не собираюсь в ближайшее время, а если и соберусь, то прогуляюсь за любимого человека. И мне будет безразличен статус его семьи.
– Милочка, замуж выходят, а не прогуливаются. Этот вопрос за… – начав усиленно кашлять, подытожила бабушка.
Я подбежала к ней, похлопала по спине и стала навязчиво настаивать на посещении больницы:
– Липочка, у тебя жуткий кашель. Давай завтра поедем обследоваться. Это может быть серьезно. Ты раздираешь горло уже больше года…
– Еще чего. Я сама присмотрю за своим здоровьем, тем более я фтизиатр, а ты пока никто. Так что воздержалась от комментариев, надела перчатки, а на приеме улыбалась Анне Павловне и Николаю, – с жесткостью обрубила Олимпиада.
Приехав в особняк Ноздревых, я увидела сверкающий фонтан из розового шампанского, жидкость которого каждый мог испить ртом. Возле фонтана гуляли хвостатые павлины, дамы в бриллиантах и меховых накидках в июльскую жару дымили сигаретами с ароматом мускатного ореха и лицемерно смеялись, выпячивая новенькие виниры.
Около дворецкого находились позолоченные громадные клетки, внутри которых танцевали полуголые женщины в перьях, а официанты во фраках разносили фуа-гра из откормленных и выращенных на территории особняка уток. Ноздрева вертелась среди гостей, как ярмарочная рябая юла, а ее муж келейно закидывал в клетки с танцовщицами свои шершавые визитки.
Я выпила залпом два бокала шампанского, чтобы переварить этот званый пир, и зашла в дом. Ко мне сразу же подскочили хозяева приема, кичившиеся наворованным из государственной казны превеликим богатством. Фальшиво улыбаясь, я ненавидела себя, оправдывала и снова прощала, не решаясь сбежать с бала наперекор воле бабушки.
Обслуга в нелепых париках королевских фрейлин зажгла свечи на еще более нелепых, но антикварных канделябрах восемнадцатого века, после чего принялась подавать изысканный, как Ноздревым казалось, ужин. Присев за стол, гости начали неразборчиво заглатывать телятину по-бургундски в соусе из гибралтарского хереса, страусиные мозги с булгуром и пастернаком, жирного гуся в мёде с привкусом сушеного инжира, гарум из рыбьих порохов в глиняных горшочках, мусс из соловьиных язычков, тушенные в изюмном вине спелые абрикосы, жареную корюшку с артишоками, соте из морепродуктов в соке скального можжевельника и филе дикого оленя с солеными лисичками.
После непродолжительной трапезы Анна Павловна встала из-за стола, поправила слипшуюся от жирного лака для волос прическу и позвала повара, начав открывать свой скрюченный и непрочищенный после плямканья рот:
– Дорогие гости, хочу представить вам нового шефа нашего дома. Сегодня он приготовил для нас особое блюдо – кабана с необычной начинкой.
Удрученный и слегка смущенный косыми чиновничьими взглядами, повар подошел к кабану и разрезал живот, из которого вдруг выпорхнули десятки живых куропаток.
– К ножке каждой птички прикреплена бумажка с именем приглашённого. Каждый гость должен поймать в доме куропатку, а затем принести поварам, рассказав о том, как ее следует приготовить. Все для вас, избранные жители нашей области. Приятного вечера, – закончила Ноздрева, нерасторопно удалившись из обеденного зала.
Большая часть гостей вскочила и принялась во фраках и длинных платьях гоняться за птицами, которые весьма затруднительно оказалось поймать. Депутат Гордумы Обдуйский, пришедший на приём в розовой бабочке, не мог из-за прогрессирующего Паркинсона схватить птицу, однако все язвительнее клялся поймать «мерзкую тварь и зарезать». Люди, если их можно было так нарекать, искренне и неподдельно веселились, снимая все происходящее в сторис для социальных сетей.
Мои ноздри тряслись, пальцы скрючивались из-за мышечных сокращений, жилы на шее вздувались, как кишечник после фастфуда, ноги непослушно подпрыгивали, а грудь вздымалась. На кожаной книге в старом измученном переплете сидела дрожащая, не похожая ни на кого птица с испуганным, но смирённым взглядом. Подойдя к ней, я заметила записку со своим именем и надавила пальцами на глазные впадины, чтобы откреститься от увиденного. Затем я взяла во вспотевшие и трясущиеся руки птицу, вышла из особняка в сад, присела на скамейку и начала говорить:
– Ты так грустишь, так трепещешь. И назвали тебя так же, как меня восемнадцать лет назад. Я выпущу тебя, но как спасти твоих братьев и сестер из всепоглощающих гниющих ртов? А паштет видела? Эти коррупционные изверги заставили приготовить мусс из соловьиных язычков. Сколько чудных голосов природы они погубили ради хвастовства и погони за неофициальный титул самого изысканного приёма? Молчишь, а там целый таз паштета лишенных жизней… Говорят, куропатки летают редко, но ты лети, Таисия, лети… – выпустив юное тельце полуживой птицы, со скорбью произнесла я.
Вернувшись в дом, который Ноздрева предпочитала называть дворцом, я решила пойти на незамысловатую хитрость; взяла у джазового исполнителя микрофон, попросила обслуживающий персонал открыть в каждой комнате двери на террасу, а затем прервала бутафорный смех и режущее слух многоголосье:
– Уважаемые гости, мне сообщили, что куропатки больны тяжелейшим вирусом, который передаётся человеку даже от оперения, поэтому ради вашего здравия прошу вас немедленно отпустить птиц из рук, позволив им улететь. Благодарю за внимание!
Не успела я спуститься со сцены, как все гости стремительно отпустили птиц, которые через высокие двери мгновенно вылетели на позабытую волю. Сыгранный мною гимн свободе и чести, который я не собиралась одним днем позабыть, звучал звонко и ярко. Меня порадовал собственный поступок, чего нельзя было сказать о бабушке, которая незаметно подошла ко мне, схватила меня за локоть и вывела в сад.
– Зачем ты позоришь меня и портишь вечер Ноздревых? Какое тебе дело до куропаток и этих блюд? – возмущенно спросила бабушка Липа.
– Неужели ты не замечаешь, что эти «люди» не только зверствуют, но и в прямом смысле объедают пенсионеров, которые экономят на молоке и фруктах? Сколько ростовских детей ходят в обносках, а их матери с дырками в сапогах, перебирая в маршрутках мелочь?
– Тебе откуда знать это? Ты живешь в центре города и ездишь с личным водителем. Думай всегда только о себе и забудь о благах для населения. Придумала вдруг спасать куропаток. Некоторым неугодным птицам нужно обрезать крылья. Даже знаю одну такую. К сожалению.
– Я уезжаю домой к маме, а ты оставайся здесь…
Бабушка дала мне пощёчину, схватила за шею и прошептала тогда в ухо болезненные для молодой девушки с уже треснутым сердце слова:
– Ты останешься здесь. Тебе нужно выйти замуж. Это твоя задача.
Не уточнив моего согласия, бабушка Липа представила меня очередным кандидатом на мои руку и сердце, после чего я увидела довольное лицо опоздавшей папиной сестры Дины. Иногда мне казалось, что бабушка боится того, что я буду лучше ее родной дочери, которая всю жизнь завидовала каждой появлявшейся на ее пути женщине.
Тетя Дина утверждала, что лишена чувства зависти, без жадности осуждая всех вокруг, кроме себя. Ее подруги были неудавшимися матерями, мама неумелой хозяйкой, жена лучшего друга мужа, которая посещала недели моды в Нью-Йорке, безвкусной и вульгарной особой. Лишь тетя Дина являлась, по ее мнению, безупречной: она каждый день выпивала бутылку вина, ругалась с супругом или другим попавшимся под руку человеком, изрядно материлась, после чего вновь старалась поправить слетевшую маску идеального человека. В каждом ее слове или поступке сквозили непримиримые противоречия: она возмущалась количеством грустных людей, однако сама всегда оставалась безрадостной опухшей от истеричных слез теткой, насмехалась над невежеством секретаря отца, никогда не читая книги и не разбираясь ни в чем, кроме алкоголя, унижала других женщин и возвышала себя лишь при любом подходящем случае. Тетя Дина яростно ревновала своего мужа к друзьям, племяннице, коллегам и официанткам, ведь статус законной жены Ублеханова достался ей весьма трудно. Она ненавязчиво выбивала предложение руки и сердца у него больше года, хитро манипулируя то его шестилетней дочерью от первого брака, то язвительными словами, якобы сказанными ей его престарелыми однокурсниками. Выражение ее лица почти всегда не менялось, неизменно оставаясь злобным, раздосадованным и осквернённым.
Однако в тот вечер, когда бабушка указала мне мое место, оскорбив единственную внучку как неугодную невестку, я впервые увидела тетю Дину удовлетворённой своим безрадостным существованием. Ее глаза так ярко искрились, что я даже перестала сердиться на Липочку, осознав, насколько ей не удалась взятые роли мамы девочки. За все восемнадцать лет жизни я привыкла к тому, что, по-мнению всех родственников, я неправильно дышала, думала, пила чай, подбирала друзей и даже позировала для фото. Ради бесполезного семейного одобрения я задерживала дыхание, чтобы не выводить из себя бабушку-фтизиатра, насильно заливала в себя остывший каркаде, как хотел дедушка, отказывалась от подруг, которые пугали отца своим бунтарством, и раскрывала глаза так, чтобы тетя Дина не комментировала ярко выраженную асимметрию моего лица.
В тот вечер я прибыла домой рано. Мама встретила меня с восхищением и любовью, будто почувствовав мой душевный раздрай. Она присела, расстегнула застёжку на моих туфлях и поцеловала мне ноги, прошептав в очередной раз, как же ей повезло со мной. Было около часа ночи, но мама так хотела поднять мое настроение, что стремглав натянула фартук и пожарила сладкую картошку с донецким салом. Мама любовалась тем, как я ем, а я, не снимая шёлковых перчаток и вечернего платья, поедала ломтики батата, обмазывая своё лицо и шею сливочным хуторским маслом. Затем я выпила вишневый чай, искупалась, но потом вдруг позвонил папа и сказал, что его отец умер…
Прошла неделя, и мы похоронили дедушку… Более двухсот человек пришли попрощаться с его красивой, вечно цветущей душой, в которой мне было отведено особое почетное место. Папа призрачно шатался от транквилизаторов, пил водку, плакал и каждый день ходил на кладбище, чтобы поговорить с дедушкой по душам. Сильный мужчина вдруг будто съёжился, поместившись в крохотную коробочку своих несчастий и страхов, словно последняя глава его жизни была заблаговременно завершена без многоточий и эпилога.
Бабушка Липа не рыдала и не печалилась, продолжая, подобно разогнавшемуся локомотиву, дробить встречающиеся на пути атомы тоски и уныния, а тетя Дина под предлогом поддержки матери искала запрятанное дедушкой завещание. Я утомленно поддерживала папу, который, к слову, остро ощущал надуманную необходимость взять себя в руки перед моим переездом.
Улетев ненадолго со мной в Москву, мы завтракали хрустящими блинчиками с гречихой и уткой в кафе «ПушкинЪ», ездили на велосипедах по Сивцеву Вражеку, после чего синхронно штудировали новостную повестку дня на политической арене ради собеседования в институт.
Попав впервые в один из лучших университетов России, я столкнулась с обшарпанными стенами, потоком студентов, которым было плевать друг на друга, облепленными фекалиями унитазами с каплями застывшей мочи, которые не вытирали после себя надушенные дорогущим селективным парфюмом старшекурсницы, плесенью и переполненными в аудиториях ведрами мусора.
Замерзая от холода в сентябре, я вспоминала самое холодное московское лето, нечаянно выпавшее на мое июльское поступление. Живя перед экзаменами на Старом Арбате, я каждый день ходила на трехчасовые занятия к преподавателю, писавшему очередную заумную диссертацию в тихом, спрятанном от столичной суеты Афанасьевском переулке.
Дымящая как шотландский паровоз Стелла Яковлевна напоминала столбовую аристократку; она изящно курила, пластично вела милостивые беседы и открыто улыбалась мне, как родной дочери. Днями навязчивый вытер колотил в мои ставни, а вечером я садилась на окно, выходящее на сказочную пешеходную улицу, зажигала свечи с эфирными маслами имбиря и орегано и наблюдала за женщинами, гулявшими после посещения театра Вахтангова под июльским ледяным градом в велюровых лодочках и тонких, слегка помятых пальто.
Папа стал оттаивать от замороженной внутри себя боли, но меня по-прежнему настораживали поселившиеся в нем ипохондрия и непреодолимая страсть к больничным обследованиям. Я не переставала смеяться и подтрунивать над ним, пока однажды не осознала истинные причины столь навязчивых неаргументированных идей. Папа не боялся смерти, ему было страшно оставить меня без отца, заставив испытывать то, что он никак не мог пережить. Он опасался того, что я могу стать наполовину сиротой, той, которую в обществе за спиной назовут «безотцовщиной» или «бедняжкой». Отец не желал мне вибрирующей ежесекундно боли, омерзительной людской жалости, раннего взросления и презрительного снисхождения общества. Именно поэтому папа каждый вечер по телефону докладывал о любом покалывании в боку или пятке своей сокурснице, которую в их медицинском считали поцелованной кем-то там сверху. Этой гениальной студенткой, когда-то без микроскопа определявшей по двум описательным словам, какая частица органа находится под стеклом, оказалась женщина, с которой я была уж очень близко знакома. Лишь мама могла успокоить папу, проверив его анализы крови и МРТ, лишь эта сокурсница способна была притупить разнузданную папину панику.
Мне не казалось это причудливым или неординарным, ведь мама умела все: кротко играть фортепьянную сюиту Мориса Равеля, вульгарно смеяться от милицейских анекдотов, просверливать после длительной операции дрелью дырки под новенькое панно, рыдать навзрыд от того, что наступила на хвост безногой ящерицы, называть чайные грибы именами любимых родственников, без единого шевеления или вздоха стоять всю ночь на службе в храме, декупажировать мебель и вызывать аплодисменты у колумбийских серферов, выполнив раундхаус и карвинг. В этом была вся мама – никем не достижимое совершенство, граничащее с трудно объяснимым феноменом и трагической уникальностью.
В тот затяжной ожиданием и холодами московский июль я сдала около восьми вступительных испытаний в пять разных столичных вузов. Помню, как на последнем письменном экзамене журфака МГУ мы с папой, как и десятки других детей и родителей, стояли под пронизывающим дождем, колким градом и задувающим в уши ветром. Никто не мог впустить в громадное просторечное здание с многочисленными кабинетами и аудиториями дрожащих то ли от холода, то ли страха провалиться на экзамене, проскочив мимо вуза мечты, абитуриентов. Вместо ласканий июльского солнца нас щекотали плевочки почти невидимого града, бьющего то по лицам, то по раскрытым тетрадям со шпаргалками, то по асфальту, не умеющему, как мы, никуда спрятаться от излишних осадков. Мы с папой мёрзли, однако с хрипотой от простуды продолжали смеяться, пока я не заметила пожилую женщину лет восьмидесяти пяти, стоявшую рядом с инвалидной коляской. В кресле сидела юная розовощёкая девочка с тугими косицами и невыщипанными бровями, держа за сморщенную руку сгорбившуюся бабушку. Они молчали. Они просто были. Были друг с другом.
Ветер усиливался, а нам по-прежнему не желали открывать дверь. Тогда пенсионерка, сняв с себя пальто и завязанный вокруг шеи белый платок, накинула на внучку свою застиранную одежду, чтобы она не мёрзла.
Через сорок минут нас наконец, как смирённую паству, впустили одним загоном. Я прошла металлоискатель, выпила чуточку воды и принялась отвечать на заданные вопросы. Причмокивающий преподаватель в начищенных до блеска очках и застиранной полосатой рубашке, пропитанной слегка высохшим потом, заглядывал в наши работы, едко высказываясь во всеуслышание об орфографических ошибках и других недочетах. Он звонко цокал, поднимая облысевшие брови с проплешинами, заглядывал в декольте семнадцатилетних абитуриенток и критиковал то размашистый почерк, то неумелое владение гелиевой ручкой.
Когда экзамен подошел к концу, я взяла работу, которую собралась сдавать, как вдруг увидела ту саму девочку в инвалидной коляске. Ее лицо было бледным, напуганным и обреченным. Она подъехала, чтобы положить исписанные листы на стол и стала сглатывать слюну. Подойдя ближе, я увидела, что девочка по имени Ира за четыре часа вовсе ничего и не написала. Тогда дождавшись, пока экзаменаторы начнут перебирать оставшиеся черновики, я переклеила шифры, выдав свою почти безупречную работу за экзаменационный лист Иры.
– Я почти ничего не написала, зачем вы меня спасли ценою своего поступления? Ведь с моей работой вы не наберёте и проходной балл… – выехав из аудитории, окликнула меня девочка, заговорив на «вы».
– Этот вуз держал полтора часа меня, твою бабушку и других людей на улице в град и ливень. Для меня было бы нравственной ошибкой поступить сюда, отняв место у того, кто действительно желает здесь учиться. И к тому же, Ирочка, давай на «ты». С недавнего времени мне претят формальности.
– Но как ты поняла, что я хочу здесь учиться больше, чем ты?
– Будь я в таком передвижном кресле, я бы стояла под дождем, только чтобы поступить в Литературный институт и стать писателем, воплотив в жизнь голубую мечту.
– Тогда зачем ты потратила больше пяти часов своей жизни, если ты жаждешь иного? – недоуменно спросила она у меня.
– Потому что жизнь с исполнившейся мечтой равняется жизни без мечты. А жизнь без мечты для меня не имеет смысла. К тому же я не умею идти наперекор своим родственникам. Они отговорили меня от моего желания.
– Я не могу ходить или бегать, но даже я могу отстоять свою мечту. Так и ты не бросай этого… – благодарно улыбнувшись, произнесла Ира, заставив меня вновь слишком много думать над своей жизнью.
Прошло два месяца, а я все вспоминала тот диалог. Начав учебу в Институте международных отношений, я раньше всех приезжала в университет, раньше всех парковала машину, раньше всех начинала свой день с мокко и фисташкового печенья, раньше всех включала свет в темных, будто не проснувшихся аудиториях и раньше всех начинала повторять материал перед парой. Ритка тоже переехала в Москву, но мы стали видеться реже из-за так называемой адаптации первокурсников. Находясь в безграничной уверенности, что в институте мне не нужны друзья, я как-то быстро подружилась с Александрой и Веселиной, которых я с любовью называла Сашком и Весей. Мы вместе обедали, смеялись и обсуждали преподавателей-ненавистников. Веся казалась мне женственной, хрупкой и уязвимой. Она без стеснения могла надеть каблуки и кружевное платье от кутюр в университет, приволочь в институт скрипку и в перерыве играть в запрятанном дворике возле фонтана с загорающими на сентябрьском солнце черепашками, в то время как Сашка коллекционировала кепки, чёрные футболки, крася на галерке губы зелёной или чёрной помадой. Веселина никогда не кричала, прилежно училась, щедро деля со мной первую парту на всех лекциях, много думала, грустила и совсем не любила отдыхать. Сашка часто просыпала семинары, возбуждалась оттого, что не выкурила косяк или попала из-за быстрой езды на штраф, опаздывая в университет. Александра никогда ни на что не жаловалась, предпочитая радоваться даже тому, что никак ей не удавалось. От застоявшейся скуки она могла сесть в самолёт и, никому не сказав, улететь в Мексику или Амстердам, а вернувшись, позвать нас на турнир по покеру. Ей двигали неограниченная вольность и свобода от предрассудков, людского мнения и другой отслаивающейся шелухи общества. Признаться, мне было спокойно и комфортно с обеими, ведь в Веселине я видела ту, кем являюсь, а в Сашке ту, которой мечтала стать.
Учеба в университете оказалась сложнее, чем я себе представляла. Каждый день я вставала в 6:30 утра, приезжала в университет, училась до пяти вечера, возвращалась домой и приступала к выполнению домашнего задания, которое отнимало у меня четыре часа положенного вечернего отдыха.
Преподаватели и их требования были настолько противоположными, что порой мне доводилось ощущать себя изменчивым, пугливым хамелеоном. Несколько раз в мою голову пробиралась мысль забрать документы, ведь информатичка так умаляла наши старания и так занижала оценки, беспардонно критикуя яркий маникюр или неестественную густоту волос. Она нагло запугивала первокурсников отчислением из-за ее «священного», как она полагала, зачета. И мне было действительно страшно, ведь я боялась утратить доверие родителей, вытеснив его досадным разочарованием, и не оправдать намеченные мною цели. Я мучилась от безразличия лекторов и равнодушия группы, состоящей практически из одних особей женского пола, старающихся кусать исподтишка остальных обитателей змеиного серпентария.
С каждым месяцем жизни в Москве мне становилось все холоднее: я редко видела родителей, чувствовала, как страдает мама от отсутствия меня в доме, сталкивалась со столичной надменностью и высокомерием, просыпалась в беспросветной тьме и терпела завуалированные оскорбления некоторых преподавателей. Однако все же в университете было то, что заставляло меня улыбаться, подъезжая к проспекту Вернадского.
Кафедра испанского языка отличалась от всех: она словно была окутана солнцем, смехом и радостью. Доцент Талиева красиво курила тонкие фиолетовые сигареты в бордовых кожаных перчатках, красиво шагала стройными ногами в аудиторию и красиво держала в страхе даже самых развязных прогульщиков. Алина Марковна, которая преподавала нам язык в журналистской профессии, изъяснялась на испанском метафоричнее и виртуознее мадридских интеллигентов, сравнивая коррупционные партии Испании то с шагреневой кожей Бальзака, то с Дантовым адом. Порой с кокетливой корявостью мы синхронно переводили заготовленные ей с метонимиями и реминисценциями на Коран или Ветхий Завет тексты. У Алины Марковны было семь детей, возможно, поэтому она принимала нас за родных, прощая нам непозволительные оплошности и опоздания. Она обращалась к нам только «дорогие коллеги», уважая наши порой либеральные веяния и незрелые взгляды на политические события Латинской Америки. Валентина Виссарионовна и ее родная сестра Юна Виссарионовна согревали своим улыбками и сапфировыми глазами сильнее, чем три шерстяных одеяла в столичное московское утро, а профессор Даниленко во время наших устных переводов при малейшей паузе ласково просила начать сначала. Она была чрезмерно строга и столь же чрезмерно обаятельна. Именно благодаря ей мы с легкостью могли синхронно перевести новый перуанский законопроект об амнистии криминальных группировок, задать парочку провокационных вопросов послу Венесуэлы, чтобы потом он сам пожелал обсудить с нами после пресс-конференции необходимость в реформировании Меркосур.
Испанский в университете у нас был каждый день, но ни язык, ни изысканный стиль преподавания не утомляли меня. Преуменьшенные страшилки от групп немецкого, хинди и монгольского языков казались мне абсурдными, а порой даже способными довести до суицида. Мы же не знали ни злости, ни унижений, ведь преподаватели испанской кафедры были самыми задорными и счастливыми в институте. После учебы я каждый день тратила несколько часов лишь на выполнение домашнего задания по варварской латыни. У меня не было сил выходить из дома после университетских обязанностей точно так же, как и не было сил на жизненно необходимый прием пищи и гнусные жалобы. Уже после первой пары я чувствовала вяжущую утомляемость и труднопереносимую боль в груди, но связывала это лишь с давно ожидаемым переездом и увязавшейся за мною тоской по родителям и Борису.
Среда была укорочённым днём и ознаменовывала середину рабочей недели. Я любила этот день за возможность поспать с утра до половины девятого, детальные разборы романов Золя на лекциях по зарубежной литературе с ярким писателем и не менее ярким оппозиционером, не боявшимся провокационно высказываться в правительственном университете, и ненавязчивый семинар по дипломатическому протоколу, на котором можно было аккуратно делать домашнее задание по испанскому, оставаясь при этом любимицей профессора Мякинина. Среда была для меня будто успокаивающим глотком солоноватого морского бриза, пока Сашка не пришла в один из тех замечательных дней с неблагоприятными, как тогда мне казалось, новостями.
– Девочки, в деканате мне сказали, что Мякинин тяжело заболел. Вместо него дипломатический протокол будет преподавать молодой дипломат, сын российского посла в Италии. Говорят, он весьма грубый и строгий. Я расстроилась, ведь только на паре Мякинина мы могли отдохнуть, – облокотившийся на парту и безнадёжно вздохнув, произнесла Саша.
Наш разговор стремительно прервал мужчина. Когда он вошёл в аудиторию, все девушки нашей группы за исключением меня затаили дыхание. Внутри меня все словно накренилось, треснуло, а потом и вовсе оборвалось, ведь этим новым преподавателем оказался Борис. Вместо вывернутых наружу эмоций я вспомнила все то, чему меня учила бабушка Липа. Донская потомственная казачка, не относящаяся к дворянскому сословию, всегда была сдержанна. Она принимала излишнюю слезливость, вспышки гнева и развязный хохот за низшую ступень развития, на которую, по ее мнению, никогда не должна была ступать достойная женщина. Бабушка не плакала в день похорон родного брата, в день, когда папа открыл свой первый медицинский центр, в день моего поступления и в тот месяц комы, заложником которой был мой покойный дедушки. Я не желала быть на нее похожей, но в тот день впервые заметила у себя ее неуклонность.
Сняв бордовый пиджак, Борис повесил его на спинку стула и открыл журнал успеваемости. Девочки переглядывались и в общем чате заваливали молодого дипломата комплиментами. Сухомлинова, сидящая за последней партой, отложила свои дела и принялась незаметно подкрашивать губы. Борис, к которому теперь я должна была обращаться по отчеству, поздоровался, присел на стол и, замолчав, уставился на меня. Затем он снова взглянул в журнал и вдруг произнёс:
– Таисия. Я знал одну Таисию. Пусть сегодня настанет ваш черед выходить к доске. Прошу вас. Проверим, чему вас успел обучить мною уважаемый профессор Мякинин.
Я уверенно встала, взяла крошащийся мел и стала царапать по советской доске бутылочно-зеленого цвета условия дипломатической задачи. Мне нужно было рассадить воображаемых гостей согласно правилам протокольного старшинства. Усиленно напрягала мозги, как никогда, и моя рука словно самостоятельно принялась определять, где будут располагаться Патриарх Московский и всея Руси, министр обороны, генеральный прокурор, директор ФСО и другие высокопоставленные персоны. Прошло около семи минут, и я правильно схематично изобразила порядок рассадки на международных переговорах.
Борис Сергеевич, с которым я необдуманно целовалась в Венеции, приблизился ко мне и, закончив проверку задания, с трудом вымолвил:
– Все верно. Ваши оценки соответствуют вашим знаниям, но не обольщайтесь. Это вовсе не означает, что вы столь благоприятно сдадите зачёт на зимней сессии.
Прошло две недели учебы, и всю белокаменную Москву опоясал преждевременный октябрьский снег. Я получала удовольствие от всего: от комочков в ресницах, смывающих своим таянием тушь, от многокилометровых пробок, бесстыдно ворующих мое время, от гололеда, принудившего меня сменить каблуки на удобные кроссовки с кроличьим мехом, от бьющего по окнам ветра, будившего меня по утрам ласковее назойливого будильника. В воображении я разукрашивала серую столицу насыщенными разноцветными красками.
С Борисом я необъяснимым для себя образом встречалась каждый день в разных корпусах и у разных аудиторий. Он бесстрашно смотрел на меня, будто укоряя в том, что я не выслушала его тогда в Шереметьево. Борис сгорал от того, что мы не могли быть вместе, и я чувствовала сгущающуюся внутри него боль. Я готовилась к семинару по государственному протоколу, продолжая удивлять одногруппников и преподавателя грамотным владением предмета, а в вечер вторника ломала голову, каким платьем удивить того, мысли о ком я старалась вытеснить то усердной учебой, то силовыми тренировками по барре. Каждый день после пар Борис исподтишка наблюдал за мной из машины, когда я выходила, столь изможденной и затуманенной, после занятий. Однажды, выйдя из вуза после лекции по геополитике, я направилась к автомобилю, подаренному папой на поступление, как вдруг раздался нежданный звонок. Мне позвонил отец и начал, прерываясь на неуместные паузы, надрывно стараться мне сообщить что-то важное.
– Таяша, бабушка умерла…От туберкулёза, – зарыдав навзрыд, вымолвил папа.
Я отключила телефон и, сев на заснеженные ступеньки, заплакала. Борис, старавшийся повсеместно присматривать за мной, выскочил из машины и подбежал. Сняв с себя черные кожаные перчатки, он вытер мои слезы, обнял, а затем прижал к себе, укрыв мое дрожащее тело своим пальто.
– Бабушка умерла. От туберкулёза. Моя любимая бабушка Липа.
– Тая, я всегда с тобой и всегда буду с тобой. Полетели наконец вместе в Ростов. Мне надоели эти игры. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты никогда не страдала.
– Боря или Борис Сергеевич, уж не знаю, как мне вас или тебя теперь называть. И вообще, отойди от меня, я могу быть больна туберкулёзом, – оттолкнув его, пробормотала я.
После моих слов Борис взял меня на руки, подняв со ступенек, и понёс до машины. Он привёз меня ко мне домой, приготовил мне горячий глинтвейн с мёдом, апельсином и имбирем. Я уснула, а когда пробудилась, попросила Бориса отвезти меня как можно быстрее во Внуково, чтобы успеть на предпоследний сегодняшний рейс в Ростов.
Когда я зашла внутрь здания аэропорта, меня стало тошнить. Застоявшийся воздух сжимал мои лёгкие, мешая дышать. Я сдала багаж, прошла осмотр и стремительным шагом направилась к гейту, который уже был открыт. Попав в самолёт, я села в кресло и попросила воды. Стюардессы поторапливали пассажиров, боясь обречь авиакомпанию на очередной штраф из-за очередной задержки.
В спешке юная девица на вид лет девятнадцати уронила ребёнка так, что он упал лицом о пол и не пролил ни слезинки, будто чувствуя осуждения своей мамы великовозрастными пассажирами слева, мямлящими язвительные слова. Справа брюхастый грузин с пятнистой пупырчатой сыпью и неровной залысиной, по форме напоминающей трехмесячный эмбрион, упрекал жену, что она купила слишком дорогой ликер. Сзади у прохода беременная женщина не хотела меняться местами с дрожащим одноногим мужчиной. Спереди на первом ряду семилетний мальчик поглаживал маленькую сестренку, боявшуюся лететь домой. А я лишь думала о Борисе, строя в мыслях для нас иную судьбу с банальным хеппи-эндом, в перерывах прерываясь на слезы по бабушке.
Полёт прошёл монотонно, но весьма затруднительно. Мне не хватало свежего воздуха, однако, когда я снова начинала вспоминать, как Боря нёс меня на руках, мне казалась, что я умею дышать глубже всех на планете. У выхода из аэропорта меня ждали мама и папина сестра, тетя Дина, с букетом желтых фрезий, напоминающих в едином ансамбле пылающее колумбийское солнце. Мама обняла меня, словно делала это в последний раз, и, усадив в машину, сообщила, что у отца тоже обнаружили туберкулёз:
– У папы огромные шансы жить после лечения в здравии, ведь заболел он, как говорит фтизиатр, не так давно.
– Но как бабушка, проработавшая большую часть жизни в туберкулезном диспансере, не смогла поставить себе диагноз? – с недоумением спросила я.
– Твоя бабушка была гениальным фтизиатром. Одним из лучших в стране. Как она могла не догадаться о туберкулёзе, изучению которого посвятила всю жизнь? – подозрительным тоном спросила тетя Дина.
– Врачи, Тая, жертвуют собой ради других. Врачи наплевательски относятся к своим болячкам. Такова наша природа, доченька. Твоя бабушка не стала исключением из этого правила. Всю свою жизнь она спасала людей от туберкулёза, а вышло так, что заразила собственного сына. И даже этого не заметила, —произнесла мама, поглаживая меня по волосам. – Теперь остаётся только гадать, что это было. Невнимательность к своему здоровью, самопожертвование, которое случайно повлекло за собой жертву своего сына, приступ малодушной меланхолии. Но твой отец подозревал, когда она кашляла. И ни черта не предпринял. Это его вина. Семья уважаемых врачей, а на – сапожники без сапог. Всех поспасали, а про себя забыли.
Я старалась отгонять от себя назойливые сомнения, как мух от абрикосового пирога в июльский день. Я не могла простить папу за его бездействии. За то, что он не спас бабушку, себя и меня. Липочка нас любила, но боялась одиночества она не исступленнее своей привязанности к потомкам. Но разве можно винить в этом страхе российских пенсионеров, от которых с легкой душой порой отказываются родные дети?
Папа на похороны не пришел. Дело было не в обиде, а в милосердии, ведь папа боялся ставить под угрозу жизни других людей. Тетя Дина и ее муж не появились то ли из-за очередной запланированной поездки, то ли из-за неприязни к выпавшему из бабушкиного шкафа скелету. Маму срочно попросили приехать на экстренную операцию, и она с моим согласием поступила в пользу борющегося за жизнь человека, а не бесчувственного покойника. Так и получилось, что потаённый страх бабушки остаться одной воплотился в реальность тогда, когда она уже этого не увидела. На кладбище пришли лишь несколько ее приятельниц – светских дам и одна бывшая коллега, восхищенно любующаяся в каплице загримированной бабушкой. Перед погребением я поцеловала ее в нарумяненную щеку, положив у изголовья икону, крестик и мешочек с бриллиантами, который она просила много лет назад положить вместе с ней в гроб. Липочка любила блистать всегда и при любых обстоятельствах. Даже в гробу она лежала величественно, статно и непокоренно смерти. Липа была той редкой покойницей, которой хотелось любоваться, от которой нельзя было отвести взгляд на священника или капнувший на ноготь со свечи воск.
Попрощавшись с бабушкой, я увидела облаченного в чёрное Бориса, которого вновь импульсивно и неискренне прогнала. Подозревая о том, что тоже заразилась туберкулезом, я не могла позволить заболеть тому, которого, как мне казалось, я никогда не смогу разлюбить. На поминках я не пила и не ела; мне хотелось то плакать, то ли молчать, то ли переживать за отца.
Когда я вернулась домой, мама все еще спасала скальпелем чью-то жизнь. Я прилегла на бархатную кушетку оттенка тунисской оливки Марсалин, привезённую бабушкой Липой из винтажные интерьерной лавки, в которую они часто заскакивали с дедушкой, оказываясь в Тоскане, и стала рыдать по бабушкиному задорному смеху, который я старалась воспроизвести в памяти. Тягучие сопли стекали на уложенное вокруг лица запястье, как вдруг мне позвонил Борис и предложил погулять. Я подбежала к зеркалу, улыбнулась, как мне всегда велела при жизни вечно позитивная Липочка, а затем еще раз подошла к зеркалу. Я смотрела на себя и думала, как мне идёт быть несчастной и чуть заплаканной. Непостижимый врождённый талант преображаться с каждой выпущенной слезой мне достался от мамы, потому что отпечатки страданий на ее лице не умели оттенить блеск очарования ее тонкой Психеи.
Мы с Борисом гуляли по городу до наступления рассвета, который встретил нас на набережной реки Тихого Дона. Мы ели донскую уху и жареную корюшку, пили квас, а затем сливовую настойку. За ночь я хотела открыть Борису ценный для меня крошечный мир, в котором люди улыбчивы и непосредственны, в котором шелковицу называют тютиной, город, где девушки умеют оглушительно хохотать рядом с прохожими, а мужчины готовы вызвать на дуэль с пистолетом лишь за неуважительное к официантке отношение. Но как бы я ни старалась, Борис словно не смыкался с моей малой родиной и ее незыблемыми южными устоями.
– Я вижу, как ты скучаешь по этому месту и его жителям, но неужели ты не хотела бы променять Россию, например, на тихие французские улочки и неиссякаемое вдохновение?, – перед восходом солнца поинтересовался Борис.
– Чего таить! Я скучаю порой по тихим завтракам на берегу канала Сен-Мартен… Но моя связь с родиной… Она сильнее, чем с матерью и отцом. Если бы ты знал, как меня радуют обветшалые домики, южный акцент ругающихся на центральном базаре ростовчанок, милая напыщенность петербуржцев и даже многолюдное московское метро в час пик. Знаешь, некоторые счастливчики живут у моря, но даже не навещают его, обвиняя в нежелании окрыляться вязкую погоду или усталость. А кто-то присаживается у засохшего водостоя и радуется миру вокруг. Мы сами решаем, чем нам и когда вдохновляться. Но Россия… Разве какая-то страна может быть сильнее и душевнее ее?
– А если я умею вдохновляться только тобой? – взяв меня за руку, спросил Борис.
– Только мной? А как же твоя любимая Италия?
– После того как увидел тебя тогда на улице артистов, больше и Рим мне не так уж и нравится. Даже преподавать пошёл, чтобы вернуть тебя, а ты меня на лекциях не замечала, будто бы я обычный старик с портфелем, а не твой бывший жених. И сколько бы я ни придирался к тебя, я не могу понять, как ты за пару месяцев выучила государственный протокол лучше меня?
– По ночам учила после домашнего задания по языкам и истории. Не могла позволить тебе увидеть лучшую студентку в другой, – засмеявшись, произнесла я.
– Значит, мои чувства взаимны? Таисия, может, на этот раз ты все же прогуляешься со мной?
– Куда?
– Замуж.
Я ничего не ответила на вопрос, который Боря будет задавать мне еще не один раз. Прошли сутки. Я сдала анализы и узнала, что тоже заболела туберкулёзом. Безбоязненный папа, всегда решавший проблемы друзей и семьи, долго плакал мне в трубку, прося у меня прощения и неуверенно обещая вылечить. Он хотел отправить меня в Швейцарию, Израиль или Штаты к лучшим врачам мира, будто намереваясь откупиться от своей блаженной, окутанной беспрекословным доверием к бабушке слепоты. Он настаивал на пансионате в Альпах, но я выбрала частный подмосковный диспансер, считавшийся одним из лучших в Европе.
Мама уволилась и временно переехала в Москву, чтобы на выходных навещать меня. По дороге в клинику она целовала меня и гладила по щеке, несмотря на мои безутешные просьбы отдалиться как можно дальше от моих дыхательных путей. А по ночам она плакала и молилась перед треском дивеевских свеч.
Спустя пару недель пришло время отправиться туда, куда ни одна юная девчушка не пожелает узнать дорогу. Мне с трудом удалось спрятать намеревавшиеся безостановочно хлынуть слезы, после чего я резко забрала у мамы чемодан и отошла. Я не знала, каким будет диспансер – светлым и приветливым или похожим на фильм ужасов про больницу, окутанную мохнатой плесенью, фенолом, хлоркой и нетерпимостью медсестер. Я не могла позволить маминой душе еще больше треснуть, поэтому, сославшись на неловкость того, что в больницу за ручку столь взрослую дочь поведёт мама, я попросила самую любимую женщину в мире не идти за мной. Мама отвечала мне взаимностью, позабыв об искренности эмоций и наигранно улыбнувшись, как никогда, широко. Она надела мне на шею кулон Матроны Московской, перекрестила меня, а затем направилась к своей машине, безотрадно опустив голов вниз.
Я вошла в холл и, почувствовав запах эфирных масел миндаля и чайного дерева, подкатила чемодан к информационной стойке. Рядом с ней на низких креслах из переливчатого бархата цвета аргентинской ванили скрюченный мужчина лет восьмидесяти и его спутница того же преклонного возраста, морщинистую шею которой обвивал дымчатый жемчуг, читали друг другу стихи на языке любви, допивая уже остывший кофе без пенки и пузырьков. Вдруг они заметили меня и начали на французском обсуждать мое пребывание в пансионате, не догадываясь о том, что я с шести лет говорила на языке Бодлера, лирические произведения которого они из-за туберкулёзного энцефалита слегка перевирали вслух.
– Бедная девочка, неужели в столь юном возрасте она уже больна этой дрянью? – сморщившись и облизав уголки рта, спросила бабуля.
– У каждого своя судьба, моя милая Эллочка. Ты помнишь, как мы с тобой в ее года много пили, курили и танцевали. В двадцать, тридцать, сорок и пятьдесят небо еще не сгущалось над нами. Но, увы, моя драгоценная Эллочка, везёт не всем. Недалеко от моей комнаты тоже расположился молодой прибалт.
– Так, может, нам, мой замечательный Левочка, их познакомить?
– Не стоит. Я сюда приехала лечиться, да и жених у меня уже есть, – я бесцеремонно вторглась в их беседу на французском.
Парочка ухмыльнулась и равнодушно перешла на немецкий, которым я уже не владела. Мне стало немного скучно, как вдруг из-за спины ко мне приблизился медбрат, вручивший мне ключ от палаты номер тридцати четыре…
Глава 5
Пробил четвёртый час, а значит, мне пора было спускаться в столовую, чтобы в компании двух прекрасных пожилых женщин выпить вишневый чай с абрикосовым вареньем и маковой булочкой. Третий месяц обитания в туберкулезном диспансере покорно продолжал ползти, все более отдаляя меня от дома, традиций, закоренелых привычек и любимых людей и в то же время теснее приближая к чему-то новому, но совершенно меня не пугающему. Словно поставив свою искрящуюся жизнь на паузу, я с каждым днем сдувала все больше удушливой пыли с давно позабытых в сознании полок. Два раза в день мне разрешали выходить на прогулку, после чего ставили капельницу, уверяя о надвигающемся светлом будущем, к которому я стала относиться с опаской. Я читала художественную литературу, готовилась к экзаменам, отложенным из-за болезни на год, терпела внутримышечные уколы и запоздалый после химиотерапии сверлящий озноб, который сменялся то притупленным головокружением, то резкими рвотными позывами. В пансионате действительно находилось весьма много иностранцев, перелетевших тысячи километров ради лечения в нашем диспансере. Так больше месяца назад я подружилась с броской итальянкой, прибывшей из разноцветного и солнечного поселения Чинкве-Терре в чумазое Подмосковье, от отчаянной зимней стужи которого невозможно было спрятаться ни под пуховое одеяло, ни в объятиях лечившихся в диспансере южных абхазцев.
Лудовика Сабателли, которую мы сокращённо называли Лу, восторженно рассказывала об идеях Петрарки, называя его отцом Нового Времени, гуманистических идеях Лоренцо Валла, прогрессе, республиканизме и либерализме. Она носила лишь одно серое платье оттенка рыхлого пепла, смачивала припухшие мясистые губы клейкой розоватой слюной, которой она пользовалась вместо окрашивающей помады, обвязывала усыпанную папилломами шею шёлковыми платками с шершавыми от изношенности катушками. Сабателли все делала пластично: пластично говорила, пластично жестикулировала, танцевала и даже пластично ругалась с буфетчицей из-за несвежего винегрета.
Диспансер претил ей, но она словно не могла из-за чего-то или кого-то уехать. Лу веселила теплившуюся во мне грусть, элегантно смокуя итальянские слова, то словно истончая их, то вновь придавая им четкую форму. Она сменила палящее итальянское солнце, вино в будни и лимончелло вместо фермента для усвоения пищи на не сдвигаемую зимой мерзлоту в Подмосковье и целебный воздух соснового бора, окружающего туберкулёзную клинику летучими фитонцидами.
Каждый день моего пребывания я ходила в крохотную, однако намоленную церковь, расположенную на территории нашей больницы. Внутри почти всегда было пусто: некоторые больные туберкулезом перестали расчитывать даже на Бога, другие беззвучно молились втайне от всех в своих палатах, а кто-то верил лишь в себя и свои силы. Я брала самые толстые и высокие свечи и ставила, тихо молясь то у иконы Николая Чудотворца, то у Пантелеймона Исцелителя, то у Матроны Московской. Затем я присаживалась на деревянных лакированный стульчик, чтобы вновь почувствовать себя свободнее и благодушнее, и плакала каждый день, с каждой выпущенной слезой смиряясь с тем, что больна. В церквушку часто иногда приходил седовласый батюшка, у которого мне часто приходилось просить благословения. Однажды честный отче, увидев меня с опущенной головой и спущенной с шелковистых волос шалью, присел рядом и заговорил:
– Матушка поведала мне, что ты приходишь каждый день. Но не один, ничем от тебя не отличающийся больной здесь этого не делает. Значит, тебя что-то тревожит, дитя. Не хочешь ли ты исповедоваться? – спросил отец Димитрий.
Я согласилась, хоть мои движения и слова сковывала робкое смятение. Отец Димитрий прочёл молитвенное последование, а затем разрешил мне назвать свое имя. Я подошла к бронзовому аналою и начала говорить:
– Не могу простить отца за то, что он не прислушивался к моим подозрениям и просьбам, тем самым позволив своей матери умереть и обрекая себя и меня на трудноизлечимый недуг, задыхание и жизнь затворника.
– Всевышний простил его, а почему ты тогда не можешь? Почему ты думаешь, что твоё прощение надо заслуживать дольше Господнего?
После его слов я вдруг осознала, что не имею права хранить обиду на покойную бабушку, которую, признаться, я очень любила, и живого отца, борющегося, как и я, за жизнь где-то в казённом доме. Отец Димитрий накрыл меня расшитой золотой епитрахилью с пурпурными вкраплениями и разрешил мне поцеловать Крест и Евангелие.
Выйдя из церкви, я направилась к зданию больницы, как вдруг хлынул благословенный холодный ливень, словно промывший каждую клеточку моей кожи. Я не бежала, не укрывалась от капель и не выжимала вещи; я медленно шла, будто позволяя дождю отчистить меня от грязи закамуфлированных внутри обид. Внезапно к моему боку пристроился молодой парень, а потом открыл надо мною зонт из белого сатина. Мужчина заговорил на русском, однако с милым, слегка притупленным акцентом.
– Погода в России так же непредсказуема, как женщины, живущие в ней, – продолжив ход, вдруг сказал он.
– А вам наверняка, хотелось бы чтобы лишь монотонно светило солнце, чтобы не было туч, ветров и осадков. Скучно как-то…
– Меня зовут Кристап. Я приехал лечиться из Латвии, а вы? Вы явно не русская.
– Мне иногда кажется, что я родилась в этой клинике, меж этих сосен и проливных дождей. И, кстати, вы ошиблись, я русская. Возможно, поэтому я не делю людей на национальности и не стараюсь угадать их истоки.
– Да бросьте! Неужели вы ни разу не замечали особенности определённых народов. Внешние, мимические, поведенческие. В Чили, в Перу и Колумбии, например, никогда не спешат, считая опоздание нормой, а вот швейцарцы всегда пунктуальны. Но, безусловно, везде есть свои исключения…
