Маленькие истории Эд. Алмазова-Брюликова
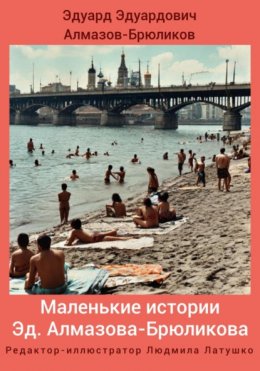
О книге
Нет в России семьи, которой бы не коснулись трагические события сороковых годов прошлого столетия – события войны. Когда в России говорят: "до войны" или "после войны", то не надо объяснять о какой войне идёт речь, хотя после её окончания прошли несколько десятков лет. Великая Отечественная война народов Советского Союза с фашистской Германией унесла жизни 27,5 миллиона советских граждан, принесла неисчислимые и неописуемые страдания на нашу землю. У каждой семьи есть герои – отцы и деды, которые сражались на родной земле и на полях Европы с гитлеровским нацизмом.
Несколько рассказов из жизни двух воронежских семей, услышанных от своих отца, матери, бабушек и дедушек, автор публикует, чтобы помнили. И не прощали. Нацизму нет прощения и не будет прощения на нашей земле никогда, пока мы помним.
В этом же сборнике публикуются и послевоенные маленькие истории и истории из жизни автора, связанные с Воронежем и воронежцами. Заканчивается сборник историями о милых сердцу автора наших маленьких друзьях – домашних и диких животных.
Об авторе
Автор этих рассказов Алексей Агапов родился в 1951 г., живёт в Воронеже. Как все советские люди он учился в школе, работал на заводе, служил в армии. Потом работал учителем, контрольным мастером ОТК, в судах разных юрисдикций представлял интересы малоимущих: одиноких матерей, пенсионеров, безработных, потерпевших по уголовным делам.
На закате дней он решил опубликовать рассказы о трудных годах, которые пришлось перенести его матери и отцу. В этом сборнике также опубликованы маленькие истории, происходившие с воронежцами в течение последних шестидесяти лет, – с 60-х годов 20-го века до 20-х годов 21-го века.
На разных платформах в Интернете он опубликовал десятки историй под псевдонимом Эд. Эд. Алмазов-Брюликов. Псевдоним выбран с иронией по отношению к наивным мечтам героини повести воронежского писателя А. И. Шубина «Непоседы» Зои Вертишейки, которой снились сны о встрече в Сибири с высоким красивым мужчиной, доктором геологических наук Эдуардом Алмазовым. Но в поезде у неё украли вещи, и она осталась на ж/д станции торговать пирожками, где нашла своё счастье – вышла замуж за рабочего мостостроительного отряда. А «брюлики» – это бриллианты, так их любовно называл товарищ автора по работе в ОТК Михайлович Андрей, который мечтал разбогатеть и накупить много «брюликов».
Псевдоним Алмазов-Брюликов выбран в честь наивных мечтателей о счастливой жизни, под которой одни понимают романтическую любовь, а другие – бриллианты.
Все истории, собранные в книге, подлинные. Большинство маленьких историй автора о Воронеже и о воронежцах, но личные данные героев этих маленьких историй изменены, так как некоторые из них ещё живут и здравствуют на день опубликования, а их личные данные не подлежат разглашению. В этих маленьких историях некоторые воронежцы под вымышленными именами могут узнать сами себя, а могут и не узнать, так как не только имена, но и сами эти истории авторам немного приукрашены.
Воронежцы и Война
1. Донос
Андрей Степанович Елфимов был простым крестьянином села Новая Ольшанка Нижнедевицкого района Воронежской области. Когда он был призван в Красную Армию, то начальство обратило внимание на физически крепкого, сообразительного и дисциплинированного солдата и направило его в Москву на высшие стрелковые курсы по подготовке младшего командного состава «Выстрел». После окончания курсов в 1939г. Андрей Елфимов отбыл в звании младшего лейтенанта на западную границу в Новоград-Волынский, где был назначен командовать ротой пулемётного полка. Пулемётчики с пулемётами базировались на тачанках, запряжённых тройками лошадей. Незадолго до прибытия лейтенанта Андрея Елфимова по полку прокатились сталинские репрессии. Были арестованы как враги народа командир полка, герой гражданской войны, и комиссар полка. Новоград-Волынский находился на границе с Польшей. Личный состав полка регулярно упражнялся в стрельбе из винтовок и пулемётов на стрельбище. Жёны офицеров и их взрослые дети также ходили регулярно на стрельбище и упражнялись в стрельбе из винтовки. Кроме этого, они учились скакать верхом и рубить лозу. Армия готовилась к войне. В полку отмечались праздники с проведением соревнований по скачкам, по гонкам на пулемётных тачанках и джигитовке.
Когда Андрей Елфимов привёз в полк из Новой Ольшанки свою жену Акулину Лукьяновну и дочерей Пелагею, Анну и Тамару, то старшая 13 летняя дочь Пелагея, которую для благозвучности все звали Полиной, стала принимать участие в стрельбе из винтовки и научилась ездить и скакать верхом. Говорили, что война неизбежна, и семьи офицеров готовились также принять участие в боевых действиях вместе с мужьями и отцами.
В полк для проверки боеготовности приезжали проверяющие, в том числе с инспекцией приезжал маршал СССР К. Е. Ворошилов. Шустрая пятилетняя младшая дочь Тамара отправилась на кухню за пайком. Ворошилов интересовался в столовой, чем кормят солдат. Он увидел её, поднял на руки и спросил: «Это чья такая красавица?» Тамара ответила: «Я – мамина и папина, меня зовут Тамара. А я вас знаю, вы – дядя Ворошилов, я вас в книжке видела». Маршал засмеялся и сказал адъютанту: «Бегом в ларёк, принеси разных конфет, да побольше». Когда Тамара вернулась в отцовскую комнату в офицерском общежитии с огромным кульком конфет, то ей мама сначала не поверила, что конфеты – подарок маршала Ворошилова.
Общежитие представляло собой длинный коридор, по обе стороны которого находились комнаты младшего офицерского состава. В каждой комнате жила офицерская семья. У Андрея Елфимова в комнате из обстановки были только обеденный стол, кровать, самодельные деревянные полати для 2-х старших детей и большой сундук у стены, в котором хранились все вещи и на котором спала младшая дочь Тамара.
Комнаты офицеров на замок не закрывались, и маленькая Тамара играла в прятки с другими детьми во всех комнатах общежития. Кавалерист дядя Кузя после службы любил выпить. Это не возбранялось. Перед выпивкой Кузьма прятал свой служебный револьвер подальше, чтобы в пьяном виде его не потерять. Однажды, протрезвев, Кузьма обнаружил, что револьвера нет. Утеря боевого оружия пахла трибуналом. Кузьма перерыл свою комнату и вместе с другими офицерами перерыл всё в их комнатах, но револьвер не находился. Когда офицер упал духом и смирился с неотвратимым увольнением из армии и тюрьмой, к нему подошла Тамара и спросила: «Дядя Кузя, а что это за штучка у вас под матрасом лежит, такая большая и чёрненькая?» Кузьма поднял матрас и увидел свой револьвер. Тамара, когда играла в прятки и сидела под кроватью у дяди Кузи, увидела между кроватной сеткой и матрасом револьвер. Но не поняла, что это. Кузьма, начав выпивать, чтобы не потерять револьвер, спрятал его под матрас и забыл об этом. Радостный Кузьма помчался в армейский ларёк и принёс Тамаре большой кулёк конфет. После этого случая он проникся к Тамаре добрыми чувствами и часто угощал её разными сладостями.
Бывали в воинской части и непростые истории. Один из женатых офицеров военный врач по фамилии Калиниченко, завёл служебный роман с красивой женщиной – врачом медицинской части. Его 14 – летний сын Володька очень любил свою мать, обладал повышенным чувством справедливости, и когда узнал, что появилась «разлучница», то пришёл к любовнице отца и отхлестал её нагайкой, да так, что та неделю не могла и показаться людям на глаза. От греха подальше офицера Калиниченко перевели в другую воинскую часть. Правда позже какими-то правдами и неправдами бывшая любовница офицера сумела перевестись в ту часть, в которую его отослали служить.
Сын офицера Володька (Владимир Иванович Калиниченко) стал впоследствии следователем прокуратуры СССР по особо важным делам, расследовал убийство милиционерами работника КГБ и нашумевшее «Хлопковое дело» в Узбекистане.
Вместе с лейтенантом Андреем Елфимовым в должности заведующего складом служил другой лейтенант Андрей, родом из Украины, по фамилии Ефименко. Был он очень маленького роста и имел скверный характер. Его жена, высокая красивая полная женщина, тоже родом из Украины, постоянно ходила в синяках. Ефименко отказался садистом. По поводу и без повода он бил свою жену. Иногда просто подходил к ней и неожиданно сильно щипал её за живот, за грудь, за бёдра или тушил о её кожу папиросу. Его жертва начальству не жаловалась, а всё терпела.
Однажды, увидев на теле соседки очередные синяки, жена Андрея Елфимова Акулина Лукьяновна не выдержала: «Да что ты терпишь от этого карлика, ведь ты сильнее его в три раза. Да дай ты ему табуреткой по башке хоть раз, когда он начнёт над тобой издеваться!»
На следующий день, не успел лейтенант Елфимов вернуться после службы к семье в общежитие, как в комнату вбежала перепуганная соседка с криком: «Андрей, я Андрея убила! Табуреткой!» Андрей поспешно вошёл в комнату соседей и увидел лежащего на полу лейтенанта Ефименко. Присмотревшись внимательнее, Андрей увидел, что Ефименко жив и дышит. Получив от жены сдачи, он так испугался отпора жены, что притворился мёртвым.
– «Ничего страшного, жив твой Андрей, оклемается. Водой на него побрызгай или окати, и всё будет в порядке». Ефименко всё это слышал и затаил чёрную злобу.
Когда Андрея Елфимова положили в госпиталь с приступом аппендицита, то он вернулся в часть только через 2 недели. Его жена Акулина Лукьяновна рассказала, что в его отсутствие к ним в общежитие приходили люди из особого отдела полка с понятыми и делали в комнате обыск. Акулина недоумевала: «Что у нас можно искать? В комнате только стол, кровать да сундук». На следующий день к Андрею подошёл начальник особого отдела полка и позвал его к себе в кабинет.
– «Ни слова никому из того, что я тебе сейчас расскажу. Вот смотри, кто на тебя донос написал».
Он достал из папки бумагу и показал Андрею. Это был ложный донос лейтенанта Ефименко на лейтенанта Елфимова. Ефименко писал в доносе, что лейтенант Елфимов готовит террористический акт, для чего прячет патроны от пистолета ТТ в своей комнате.
– «Но ведь это – чушь, брехня, какие ещё патроны?»
– «Были патроны, Андрей, были. Когда донос поступил в особый отдел, и я пришёл с сотрудником и понятыми в твою комнату, я понял, куда этот негодяй мог подбросить тебе патроны. Кроме сундука – больше некуда было. Я посадил помощника за стол писать протокол, пока он записывал в протокол данные понятых, я первым делом открыл сундук и сразу увидел коробочку с патронами от пистолета ТТ. Благо коробочка маленькая – я её спрятал в руке и незаметно положил в свой карман. Ефименко – провокатор. Остерегайся его. Он на любую подлость способен».
– «Ну, спасибо, земляк, ведь ты мне жизнь спас, век тебе буду благодарен».
– «Ну что ты, Андрей, мы с тобой – кровные земляки. Как я могу иначе».
Провокатор и доносчик Ефименко не знал, что по счастливой случайности начальник особого отдела приходился лейтенанту Елфимову земляком по Нижнедевицкому району Воронежской области. Более того, их родные сёла были рядом, и у них было много общих знакомых и общих друзей. Зимой от скуки молодые парни из этих соседних сёл, разделённых мелкой речушкой, выходили на лёд и дрались друг с другом на кулачках. Андрей Елфимов был хорошим бойцом, и парни из соседнего села знали и уважали его. Дрались до крови, но обид друг на друга не держали. Иногда после кулачек совместно выпивали немного самогона, и совместно смеялись над прошедшей битвой. Бой на кулачках был одним из немногих традиционных развлечений в русских деревнях.
Не мог начальник особого отдела предать своего кровного земляка. Рискуя собой, он спас лейтенанта Андрея Елфимова от неминуемого расстрела за «подготовку теракта».
Несмотря на обещание, Андрей не смог утаить от жены, что провокатор лейтенант Ефименко написал на него ложный донос. Акулина Лукьяновна по секрету рассказала жене другого офицера про ложный донос. В результате все офицеры и их семьи в скором времени знали, что Ефименко – провокатор и доносчик. Доносчика стали обходить стороной. Не сговариваясь, доносчику объявили бойкот. Офицеры с ним не здоровались, не подавали руки, не разговаривали, обходили стороной как зачумлённого. В самом деле – поговори с таким о чём-либо, хоть о погоде, так он на тебя донос напишет, что ты ругал советскую власть или товарища Сталина. Уж лучше от провокатора и доносчика держаться подальше и ни о чём с ним не разговаривать. Провокатор Ефименко понял – он разоблачён. Житья в этом полку ему не будет. Он написал рапорт о переводе его в другую часть. Его перевели в другую часть, под Ленинград. Но в армии существовало «армейское радио». Офицеры из разных частей встречались на учениях, общались в командировках, и, в конце концов, о провокаторе и доносчике Ефименко стало известно в его новой воинской части. Ему был негласно объявлен бойкот, такой же как в Новоград-Волынском. Все сослуживцы стали его избегать, как прокажённого. Доносчик понял – они всё знают. Он понял – так будет везде. Доносчик лейтенант Ефименко уволился из Красной Армии.
А лейтенант Елфимов был переведён служить в г. Житомир. Когда он с бойцами находился в июне 1941г. в летних лагерях, немцы в первый же день войны начали бомбить Житомир. Семьи офицеров были эвакуированы за Волгу на станцию Чёрный отрог, а оттуда в татарское село. Офицеры, оставшиеся служить в Новоград-Волынском, и их семьи почти все погибли.
Андрей Елфимов в звании капитана был ранен, потерял глаз. Броневик, на котором он выехал на разведку и рекогносцировку, был пробит немецким снарядом. Кусок разорванной брони попал капитану Елфимову в глаз и застрял между глазом и верхней надбровной дугой. Осколок извлекли, но глаз начал слепнуть, и его пришлось удалить, чтобы не ослеп второй. После лечения капитана Елфимова направили сначала в Тоцкие лагеря учить пулемётчиков, а затем преподавателем пулемётного училища в г. Чкалов.
2. Начало войны и судьба одной семьи
Из Новоград-Волынского лейтенант Елфимов был переведён в 1940 году служить в Житомир. Когда он с бойцами находился в июне 1941г. в летних лагерях, немцы в первый же день войны рано утром начали бомбить Житомир. Была объявлена срочная эвакуация. К дому офицерского состава подъехала грузовая автомашина, и Акулина Лукьяновна с детьми и наскоро собранными вещами взобралась в кузов. Также быстро погрузились и другие семьи, но оказалось, что грузовик приехал за семьями офицеров другого полка, и пришлось жёнам офицеров пулемётного полка выгружаться. На грузовике на вокзал уехали семьи офицеров другого полка. Приехал другой грузовик. Снова вся семья быстро взобралась на грузовик. Но шофёр грузовика, узнав, чьи семьи погрузились, попросил выгружаться – снова это был грузовик для семей другого полка.
– «Всё! Хватит! Не будем мы больше выгружаться и ждать. Вези нас на вокзал. Ни за что мы с грузовика слазить не будем» – заявили жёны офицеров.
– «А, ладно, семь бед – один ответ, ещё ходку сделаю» – махнул рукой шофёр и повёз беженцев на вокзал. До вокзала он домчал за каких-то 10 минут и сразу помчал назад к офицерскому общежитию за следующей партией офицерских семей.
Эшелон, набитый до отказа беженцами, тронулся. Через несколько минут немцы начали бомбить эшелон. Поезд остановился, люди бросились в поле подальше от вагонов. В течение часа эшелон подвергся нескольким бомбёжкам, каждый раз поезд останавливался, люди бежали подальше от эшелона. Немецкие лётчики видели, что бегут от эшелона женщины и дети, но бомбили их и расстреливали из пулемётов. Когда семья возвращалась в свой вагон, то неподалёку от вагона увидела страшную картину: убитую взрывом женщину и её годовалого ребёнка. Было много раненных осколками. Акулина Лукьяновна сказала: «Всё. Хватит. Больше никуда не побежим. Убьют – так всех сразу вместе». Больше во время бомбёжек семья капитана Елфимова из вагона не выбегала. Но поезд упрямо шёл на восток и бомбёжки через несколько часов полностью прекратились.
За Волгой на станции Чёрный Отрог семьи офицеров выгрузились, и их на телегах отвезли в татарское село, где распределили на жительство по пустующим домам и по татарским семьям.
Акулина Лукьяновна вместе с тремя дочерями попала в пустующую татарскую избушку. В татарской деревне можно было очень дёшево купить хлеба, молока и некоторых других продуктов. Акулина взяла с собой в эвакуацию швейную машинку, и это умение шить давало ей небольшой заработок, хотя в татарском селе заказов было немного, но ей платили за работу продуктами, и семья не голодала. До начала войны она работала в полковой швальне, кроила и шила для офицеров шинели, гимнастёрки, галифе, а после работы дома уже на своей собственной швейной машинке она шила для жён и дочерей офицеров платья, юбки, жакеты и всё, что нельзя было купить в магазинах.
Наконец, Андрей Елфимов прислал жене свой продовольственный аттестат, и у семьи появилась возможность покупать сахар и даже иногда баранину.
Офицеры, оставшиеся служить в Новоград-Волынском, и их не успевшие эвакуироваться семьи почти все погибли. Сам Елфимов в звании капитана был ранен, потерял глаз. Броневик, на котором он выехал на разведку и рекогносцировку был пробит немецким снарядом. Кусок разорванной брони попал капитану Елфимову в глаз и застрял между глазом и верхней надбровной дугой. Осколок извлекли, но глаз начал слепнуть, и его пришлось удалить, чтобы не ослеп второй.
После лечения капитана Елфимова направили в Тоцкие лагеря учить пулемётчиков.
Акулина Лукьяновна и три дочери, узнав, что глава семьи в Тоцких лагерях, приехали в Тоцкие лагеря, но отца семейства уже там не было, его направили служить преподавателем пулемётного училища в г. Чкалов.
В Тоцких лагерях житьё было тяжкое. В 30-градусные морозы солдаты жили в палатках и землянках. Акулине Лукьяновне и трём её дочерям выделили даже не землянку, а снежную пещеру внутри сугроба, изнутри обложенную фанерой. Печка буржуйка, которую топили круглосуточно, не спасала. Акулина отправила в г. Чкалов письмо мужу и описала все страдания семьи. Капитан Елфимов пошёл к начальнику училища, показал письмо и попросил выделить комнату для жены и трёх детей (сам он жил в офицерском общежитии). В это время к начальнику училища пришёл подполковник, для которого была заранее забронирована комната. Он был недоволен, что ему немедленно по приезду эту забронированную комнату не предоставили. Начальник училища дал ему прочитать письмо Акулины с описанием жилья с тремя детьми в трескучие морозы в снежной избушке. Подполковник махнул рукой и сказал Андрею: «Вызывайте семью, забирайте комнату». И ушёл жить в общежитие. Капитан Елфимов немедленно выехал в Тоцкие лагеря и привёз жену и трёх дочерей в хорошо отапливаемую комнату. Старшая дочь Пелагея, которую все звали Полиной, училась в школе и вечером ходила работать на военный завод, где работало много подростков. Но на заводе произошёл несчастный случай. У одной девушки в руках взорвался снарядный взрыватель, и всех подростков отстранили от работы.
Полина получила направление в Москву на учёбу в школу радисток. В школе она училась азбуке Морзе, работать на ключе и на приёме, шифровать и т. д. Учили также стрелять, бросать гранату, ползать, пользоваться картой и компасом, ориентироваться на местности и т. п. Окончившие школу радистки в составе диверсионных групп забрасывались в тыл к немцам. Практически все выпуски, окончившие школу до Полины Елфимовой, погибли на территории Германии. Советские диверсионные группы в безлесной Германии не могли долго оставаться незамеченными. Самое большее два – три дня. И – всё. Потом смерть. Некоторые из них успевали предать только одно – два сообщения. Потом немцы их обнаруживали, и они, героически сражаясь, погибали бою в считанные дни, часы, а иногда и минуты. Но война заканчивалась, диверсионные группы выпуска весны 1945г. посылать в Германию уже не было смысла. 1 мая 1945г. Берлин был взят.
Выпускниц училища распределили на работу по гражданским объектам страны. Полине Елфимовой выдали направление на работу в качестве радиста на аэродроме г. Киева, где она работала около года.
Там в Киеве она была очевидцем исполнения приговора бывшему немецкому коменданту Киева, по приказам которого были расстреляны десятки тысяч евреев, русских, украинцев и киевлян других национальностей. Кроме коменданта были казнены в центре Киева на глазах тысяч киевлян подручные коменданта – эсэсовские палачи и их соучастники полицаи. Бывшего немецкого коменданта привязали цепями за руки и ноги к 4-м танкам и разорвали на 4 части. Других эсэсовцев и полицаев – палачей повесили.
Из Киева Полина Елфимова перевелась на должность радиооператора аэропорта г. Воронежа, чтобы быть вместе с семьёй.
Уволенный в запас в звании капитана Андрей Елфимов взял в банке ссуду на покупку жилья и приобрёл в Воронеже часть дома с участком у вдовы погибшего на фронте воронежца тёти Шуры, которой соседи дали прозвище «Кочан».
По соседству в своём доме проживала семья Ивана Григорьевича и Александры Ивановны Агаповых. Их старший сын Дмитрий прошёл войну комиссаром полка и после увольнения в запас женился на санитарке, которая на поле боя вытащила его раненного и контуженого буквально из-под земли, засыпанного в траншее без сознания разрывом снаряда. Дмитрий получил от города квартиру и жил отдельно. Средний сын Виктор, отслужил 4 года на Дальнем Востоке, работал в депо слесарем и строил свой дом на половине земельного участка, выделенном ему отцом.
Сын Ивана Григорьевича Алексей, вернулся из немецкого плена израненный, без правой руки. Сначала он вместе с соседкой Полиной Елфимовой ходил вместе в кино и на танцы, а с 1948г. они решили жить вместе. Через год у Алексея и Полины родился первенец Владимир, а ещё через 2 года второй сын Алексей. Жизнь налаживалась. Воронежцы невиданными темпами поднимали из руин свой разрушенный до основания войной родной город.
3. Годы довоенные
Алексей вместе с отцом Иваном Григорьевичем, матерью Александрой Ивановной, тремя братьями и сестрой жил на западной окраине Воронежа в частном доме на Второй Пеше-Стрелецкой улице. Это был старый район города, где при царе Петре 1-м жили пешие стрельцы. В народе этот район назывался «Гудовка». Считалось, что его жители часто «гудели» – то есть, чем – нибудь возмущались, бунтовали. Дальше этой окраины района на запад было только дикое поле до самого Дона.
Дом пятистенок в одну комнату и кухню с русской печью построил в 1912 году отец Алексея – Иван Григорьевич Агапов, 1888г. р.
Дом «пятистенок» звучит торжественно. В деревнях печь, кухня и жилая комната располагались все вместе в одном помещении. В городах давно уже строили дома-пятистенки. Пятой стеной называлась перегородка, которая отделяла единственную комнату от кухни, задняя стена русской печи выходила в комнату, и печь обогревала одновременно и кухню, и комнату.
До 1910 года Иван Григорьевич жил со своими братьями и сёстрами в селе Сноведь Ардатовского уезда Нижегородской губернии, находившемся в 25 километрах от Нижнего Новгорода.
Его отец Агапов Григорий Петрович, был зажиточным и прижимистым мещанином, который арендовал пруды и возил рыбу на продажу в Нижний Новгород. На вырученные деньги он покупал золотые николаевские червонцы и закапывал их в кубышке «на чёрный день». Первый этаж дома Григория Петровича был кирпичный, второй – деревянный.
Иван Григорьевич с 14 лет пошёл на работу на металлургический завод г. Выксы.
Жизнь рабочего металлургического завода была хуже каторги. Жили в бараках. Спали на 2-х ярусных деревянных нарах. На работу вставали по заводскому гудку и уже в 6 часов утра приступали к тяжёлой ручной работе. Рабочий день длился 14 часов с 6 часов утра до 8 часов вечера без перерыва на обед 6 дней в неделю. Обедали простой пищей: хлебом, луком, квасом, принесёнными с собой в узелках. Рабочие улучали 5 – 10 минут в течение рабочего дня и кое-как перекусывали хлебом с луком и квасом. Сало считалось деликатесом. В субботу работали 12 часов, так как хозяин в субботу отпускал рабочих на 2 часа раньше – в 6 часов вечера, и рабочие пешком расходились по своим сёлам. До села Сноведь было около 25 километров, и Иван приходил домой в воскресенье поздно ночью. Сапоги стоили дорого, и Иван шёл 25 километров до дома в лаптях. Отоспавшись, он надевал сапоги, чистую одежду и шёл с родителями в сельскую церковь. Ночью приходилось выходить из дома, чтобы в понедельник в 6 часов утра снова выйти на работу. Рабочие так уставали за 14 часов тяжёлой физической работы, что, придя в барак, падали и засыпали как убитые. Некоторые посылали кого-нибудь за водкой, напивались и засыпали тяжёлым пьяным сном до нового заводского гудка. Поэтому, когда в январе 1905 года царь Николай Второй расстрелял в Петербурге мирную рабочую демонстрацию, рабочий люд всколыхнулся. В России начались забастовки. Забастовали и рабочие металлургического завода г. Выксы.
Тогда же 17 летний забастовщик Иван Агапов вступил в РСДРП. За участие в забастовке он был арестован, но выкуплен своим отцом у станового пристава за взятку золотыми червонцами. Отец Ивана Григорий Степанович арендовал пруд, выращивал в пруду рыбу, а на деньги, вырученные от продажи рыбы, покупал золотые червонцы и закапывал их на чёрный день. Чёрный день наступил в 1905 году. Чтобы младший сын Иван не попал на каторгу, отцу пришлось выкапывать кубышку и давать взятку становому приставу золотыми червонцами. Становой пристав исключил Ивана из числа активных забастовщиков, и Ивана отдали под надзор полиции. Ивану было запрещено жить и работать во многих городах России.
В 1910 году он прочитал объявление в газете, что на завод Столля в Воронеже требуются слесари, написал письмо администрации завода, и получил ответ, что на заводе его примут на работу.
Иван приехал в Воронеж и поступил на завод Столля слесарем. Первое время снимал угол в частном доме. Потом к нему в 1911 году из села Сноведь Нижегородской губернии приехала жена Александра Ивановна (1894г. р.) в девичестве Зеленцова-Ермоловская. Вторая фамилия Александры Ивановны – «Ермоловская» была уличной фамилией, так как родилась она в селе Сноведь в семье уроженца села Ермолово Нижегородской губернии Зеленцова. В начале 20-го века почти у всех жителей деревень были официальные и уличные фамилии. Иногда уличные фамилии становились официальными, а иногда присоединялись к фамилии официальной. У жены Ивана Александры в документах так и указывались вместе обе фамилии: официальная и уличная – Зеленцова-Ермоловская. Александра приехала в Воронеж в 1911 году, сначала плыла по Волге вниз на пароходе, потом ехала по железной дороге.
Александра Зеленцова начала работать с 8 лет. Она мыла полы в местной церкви села Сноведь. После этой работы она перестала верить в бога, потому что батюшка вел себя неприлично, приводил в храм женщин для личных отношений и в пьяном виде мочился прямо в церкви на пол, и иногда даже в алтаре. Девочка Саша всё это за батюшкой убирала. Когда Иван Григорьевич надумал жениться, то ему посоветовали: «Возьми Саню Зеленцову. Она простая и работящая». Иван Григорьевич послушал доброго совета и не пожалел. Алекандра родила ему 12 детей, из которых выжили 4 брата и 2 сестры.
Сначала Иван Григорьевич с женой Александрой жили в съёмной комнате в частном доме. Потом Иван накопил немного денег, купил участок земли и за несколько лет построил дом пятистенок, в котором была 1 комната и кухня с русской печью. На берегу реки Воронеж пошли на слом старые строения времён Петра Первого, и Иван Агапов купил брёвна от этих разобранных строений. Брёвна оказались дубовыми, очень прочными. За 2 столетия они только затвердели. Пилить их было тяжело, и на срезе дерево блестело как стекло. Зато прочность брёвен была выше всякой меры.
В 1919 году город был ненадолго захвачен войсками белых генералов Мамантова и Шкуро, Ивану Григорьевичу, как большевику с 1905 года, пришлось прятаться, чтобы не попасть на виселицу. После Октябрьской революции он больше не занимался политической деятельностью, но, как член РСДРП с 1905 года, избирался депутатом съездов ВКП (б) и выбирался в Верховный Совет. Поэтому его жену и детей на улице прозвали «депутатскими».
Иван Григорьевич отошёл от всякой общественной деятельности, так как у него к началу войны уже было четыре сына и две дочери. Надо было много работать, обеспечивать шестерых детей. Тут уж было не до политики.
4. Оккупация Воронежа и угроза расстрела
Летом 1941 года Алексей окончил воронежскую среднюю школу No35. Учитель математики поставил Алексею «двойку» за год по математике из-за того, что Алексей часто спорил с учителем на уроках. И хотя на школьном экзамене он ответил на все вопросы по билетам уверенно, решил задачи и доказал положенные теоремы, учитель математики всё равно «в назидание» поставил Алексею двойку по математике. Алексей не растерялся, подал жалобу в ГОРОНО, хорошо подготовился, и успешно на 5 баллов сдал экзамен по математике комиссии Гор ОНО. Успешно он сдал вступительные экзамены в строительный институт и в 1942 году окончил первый курс факультета дорожного строительства.
Но, летом 1942 года до города добралась война. Немцы начали варварски бомбить Воронеж.
Война подобралась к Воронежу летом 1942 года как-то неожиданно. Центр города немцы постоянно бомбили. На Юго-Западе в Шиловском лесу грохотали тяжёлые бои. А на западной окраине, где жил Алексей, было тихо. Улица заканчивалась по соседству с керамическим заводом, а дальше на запад было поле до самого Дона. До войны в поле был военный аэродром с грунтовой посадочной полосой. Однажды в конце тридцатых годов на улице, где жил Алексей даже упал военный самолёт, не дотянувший какого-то километра до аэродрома и зацепившийся за провода линии электропередачи. Лётчик погиб. Но перед войной аэродром куда-то перенесли, и на его месте снова образовалось поле, поросшее густой травой, которое тянулось в западную сторону на несколько километров. Жители окраины выгоняли пастись в это поле коров, коз и другую живность.
Летом 1942 года с западной стороны, со стороны поля на улице, где жила семья Агаповых, появился запылённый советский танк, который остановился у крайнего дома. Из него вылезли три танкиста и попросили у хозяев дома воды. Хозяева гостеприимно накрыли для танкистов стол и пригласили их отобедать. Экипаж танка только что провёл удачный бой. Танкисты были довольны и оживлённо обсуждали за столом это событие. В это время к дому подъехала немецкая разведка на нескольких мотоциклах с колясками. Немцы увидели возле дома танк, вошли в дом и прямо за столом положили автоматными очередями всех трёх танкистов. Потом приказали хозяевам дома похоронить танкистов в углу огорода и уехали с документами и оружием погибших танкистов. Танк немцы завели и угнали с собой.
Жена Ивана Григорьевича Александра Ивановна была первым председателем уличного комитета, а сам Иван Григорьевич был членом партии большевиков с 1905 года, бывшим депутатом съезда ВКП (б) и избирался депутатом Верховного Совета. Поэтому на улице его жену и их детей прозвали «депутатскими».
Одна из соседок по улице, узнав, что немцы вошли в город, стала угрожать семье Алексея. Она злорадствовала: «Ну что, дождались, коммуняки. Скоро вас всех вешать будут на фонарях».
(После войны в 1946 году Алексей встретил в Горкомхозе Воронежа, где работал мастером и прорабом участка дорожного строительства No 3, эту самую соседку, угрожавшую семье виселицей при немцах. Увидев и узнав Алексея, она побелела, затряслась и опёрлась о стену, ноги у неё подгибались: «Алексей, прости меня, пожалуйста, прости, пожалуйста.....». Алексей махнул рукой: «Да нужна ты мне, дура. Иди своей дорогой. Не стану я на тебя доносить». За такие слова и намерения при немецкой оккупации: «вешать коммуняк» соседка могла бы получить 10 лет лагерей. Один из её родственников, живший на той же улице рядом, летом 1942 г. пошёл к немцам служить полицаем. Он участвовал в угоне жителей из Воронежа, а после их эвакуации ходил по дворам и брошенным домам и грабил оставленные дома, а на огородах выкапывал и забирал себе спрятанные жителями вещи. После войны он отсидел в лагерях срок 10 лет и уехал из Воронежа). Сама соседка никак не пострадала.
Чтобы избежать доноса и расстрела семья спешно перебралась на квартиру старшей дочери Надежды, которая вышла замуж за железнодорожника Ивана Хрипунова и жила с ним в полученной от железной дороги квартире в доме на углу улицы Коммунаров и проспекта Революции, неподалёку от центрального железнодорожного вокзала.
Утром Алексей вышел на Проспект Революции и услышал где-то поблизости одиночные выстрелы и пулемётные очереди. Любопытство погнало его в сторону Петровского сквера. Неподалёку от здания ЮВЖД Алексея остановила группа немцев. Они наставили на Алексея автоматы и завели его в полуразрушенный жилой дом рядом с ЮВЖД. На втором этаже у окна стоял пулемёт «максим», а рядом с пулемётом валялось несколько расстрелянных пулемётных лент и сотни пулемётных гильз, солдатская гимнастёрка и брюки галифе. Очевидно, защитник города отстреливался из пулемёта до последнего патрона, а когда патроны закончились, сбросил военную форму и скрылся. Немцы, показывая руками на коротко стриженую голову Алексея залопотали: «Зольдат, Зольдат». Алексей чуть не заплакал: «Какой я солдат. Я ещё мальчик». Один из немцев, держащий на поводке овчарку, стал натравливать собаку на Алексея. Собака бросилась на Алексея и он, чтобы защититься, инстинктивно ударил собаку ногой и попал ей прямо в горло. Овчарка закашляла и отскочила. Немцы дружно закричали: «Диверсант! Диверсант!». Они решили, что Алексей попал ногой точно в горло собаке, потому что имеет специальную подготовку диверсанта. Жестами немцы показали Алексею на солдатскую гимнастёрку и брюки галифе, которые валялись на полу возле пулемёта, и потребовали, чтобы он их надел на себя. Алексей понял, что пришёл его последний час: как только он наденет на себя гимнастёрку и галифе неизвестного солдата, немцы тотчас его расстреляют вместо безвестного последнего защитника города. Плача он надел на себя гимнастёрку и галифе и услышал дружный и громкий немецкий хохот. Убежавший и бросивший свою форму солдат был огромного роста. Его гимнастёрка оказалась Алексею ниже колен, а пояс брюк галифе оказался под мышками. Вид у него в такой безразмерной военной форме был слишком комичный. Стало понятно, что Алексей не имеет к этой форме никакого отношения. Немцы смеялись, показывали пальцами на Алексея и отпускали какие-то шуточки, а потом один из них отвёл Алексея к группе воронежцев из мужчин и женщин, копавших во дворе дома какую-то траншею, вручил ему в руки лопату и жестом показал: «копай – копай». Алексей начал копать, радуясь, что так счастливо избежал расстрела.
Конвоир, охранявший работающих мужчин и женщин, сидел, спасаясь от летней жары в тени, прислонившись спиной к деревянному забору, и дремал. Неподалёку горел костёр, на костре на треноге стоял большой котёл с кипящим маслом. Повар – немец сидел на табуретке рядом с костром, доставал из большой кастрюли очищенную картофелину, осматривал её, иногда удалял глазки и бросал картофелину в кипящее масло. Масло громко шипело. Довольно приятный аромат доносился до Алексея. Алексей покопал-покопал с полчаса, а потом задумался: «Что это за яму я копаю? Хорошо ещё если окоп или траншею. А если братскую могилу самому себе? Вот закончим копать, а они нас расстреляют и в этой же траншее нас и похоронят». Он огляделся. Сидевший у забора конвоир дремал, обняв винтовку, а повар перемешивал поварёшкой картофелины в котле. Никому не было до Алексея дела. Алексей тихонько положил лопату на дно, вылез из траншеи и бочком, не выпуская обоих немцев из вида, дошёл до края забора. За забором быстрым шагом он покинул опасное место и прямым ходом направился домой. Больше он носа из дома не высовывал до самого угона всей семьи из города немцами.
Немецкий комендант города издал приказ: всем жителям города в течение 3-х дней собраться на железнодорожном вокзале для эвакуации. Все, кто останется в городе вопреки приказу, будут расстреляны без суда на месте. Уезжать из города надо было немедленно, иначе – расстрел.
Так летом 1942г. немцы всех угоняемых жителей Воронежа распределили по товарным вагонам и погнали поезда на запад.
В течение нескольких дней оккупанты вывезли эшелонами всех оставшихся жителей из Воронежа, а тех, кто по незнанию задержался в городе, в соответствии с приказом немецкого коменданта расстреливали на улицах без суда и следствия как шпионов и диверсантов. Так были расстреляны два подростка – разведчика, которых советское командование послало на разведку в город, ничего не зная о приказе немецкого коменданта. Одним из расстрелянных разведчиков был Феоктистов Константин. Костя был тяжело ранен, но после расстрела пришёл в сознание, ночью переплыл реку Воронеж и явился в свою часть. После войны он стал инженером, специалистом по космической технике, первым в мире учёным – космонавтом. Его именем впоследствии назовут одну из улиц города.
Но до этого было ещё далеко.
У воронежцев впереди ещё было много мытарств, прежде чем они освободят город от оккупантов и восстановят его прежний облик, искалеченный бомбёжками и боями 1942 и 1943 года.
5. Угон на чужбину и побег из-под расстрела
После оккупации в июле 1942 года немцами правобережной части Воронежа в городе зверствовали их союзники – мадьяры. Они заходили подряд во все дома и тащили оттуда на глазах у хозяев всё, что подворачивалось под руку. Стоило одному мужчине возмутиться, как мадьяр вытащил кинжал и убил человека прямо на глазах у всей семьи. У соседей по улице, где до войны жила семья Алексея, мадьяры увели корову. Соседка с мадьярами не спорила, когда они уводили корову, но пошла к немецкому коменданту и пожаловалась на мадьяр. Немцы отобрали у мадьяр корову, и через день немецкий солдат пригнал её обратно и вернул соседке. Но, ненадолго. Вскорости пришлось бросить всё.
Жизнь под немцем продолжалась в городе недолго. Немецкий комендант города издал приказ об эвакуации жителей Воронежа под угрозой расстрела на месте.
Семья Алексея собрала всё, что можно, закопала в огороде швейную машинку, посуду и некоторые другие вещи, которые было жалко оставлять, и явилась на вокзал. Не было старшего сына Дмитрия, который ушёл служить в Красную армию ещё до войны и сейчас воевал где-то политруком полка. Средний сын Виктор тоже был призван в армию ещё до войны и служил на Дальнем Востоке. С Иваном Григорьевичем были его жена Александра Ивановна, сын Алексей с младшим братом Иваном, которому было всего 14 лет и которого по малолетству звали просто и уменьшительно – Иванок, дочь Надежда с мужем Иваном Хрипуновым и грудным ребёнком Лилей и дочь Зинаида.
Немцы пересчитали всех угоняемых жителей, распределили по товарным вагонам и погнали поезд на запад. На редких остановках выгоняли всех из вагонов, пересчитывали и снова загоняли в вагоны. На одной из таких остановок после пересчёта угнанных жителей мать Алексея, вернувшись в вагон, обнаружила пропажу алюминиевого бидона с топлёным сливочным маслом. Топлёное масло она выменяла у крестьянки на хорошие добротные вещи и рассчитывала, что с хлебом и топлёным сливочным маслом семья не останется голодной.
На очередной остановке поезда Алексей пошёл вдоль вагона, присматриваясь к людям и их вещам. Он искал бидон – вещь заметную. Младший брат Иванок увязался за ним. У одного из вагонов Алексей увидел трёх молодых здоровых парней. Они сидели у алюминиевого бидона кружком, доставали столовыми ложками топлёное масло из бидона, намазывали на куски хлеба и с аппетитом и причмокиванием жрали. Алексей подошёл к жуликам: «Ребята, что ж вы делаете? Это же наше масло. Верните бидон. У нас же дети маленькие». Один из парней нагловато ухмыльнулся; «Щас я доем и отдам тебе масло». Он лениво поднялся, сунул руку в карман и вдруг, выхватив руку из кармана, махнул чем-то перед лицом Алексея. Этот подлый приём был известен. Им пользовалась чижовская шпана, с которой гудовским ребятам уже приходилось иметь дело. Шпана приматывала нитками к спичечному коробку лезвие от безопасной бритвы и в случае нападения старалась полоснуть лезвием по лицу или по глазам. У Алексея была хорошая реакция, он невольно отпрянул от нападавшего, и опасное лезвие до его глаз не достало. Алексей отскочил от бандита и выхватил из кармана перочинный немецкий ножик, подаренный ему отцом за несколько лет до войны. Из-за этого немецкого ножика ему друзья даже присвоили прозвище «Шульц». Бандит снова бросился на Алексея и снова попытался полоснуть лезвием по глазам, но Алексей уже ожидал этого момента, он присел, увернулся и в свою очередь полоснул перочинным ножом по бандитской откормленной морде. Ножик был хорошо наточен и располосовал нападавшему всю щёку, так, что кровь мгновенно залила лицо. Вскочили двое других, но в это время Иванок начал швыряться в них набранными на железнодорожной насыпи камнями. Уркам пришлось уворачиваться от камней. В это время детина с располосованной щекой, пытаясь зажать руками рану, истошно заорал: «На помощь! Убивают! Партизаны!» Немецкий часовой, стоявший через три вагона, услышав страшные слова: «Партизаны!» выстрелил в воздух и побежал к месту схватки. Иванок бросился бежать. Алексей нырнул под вагон, выскочил с другой стороны, пробежал два вагона, спрятал перочинный ножик под рельсами и забрался в пустой вагон, соседний с вагоном в котором везли на запад его семью. Он забрался под сено и прислушался. Немцы выстроили всех эвакуированных и устроили опознание. Детина с перевязанной окровавленной щекой ходил перед выстроенными людьми и искал Алексея. Немецкий офицер что-то говорил. Алексей обладал хорошей памятью и имел в школе твёрдую пятёрку по немецкому языку.
Он понял смысл сказанного немецким лейтенантом: если тот, кто это сделал не выйдет и не признается, то немцы расстреляют каждого пятого. После офицера эту угрозу повторил на ломаном русском языке переводчик. Немец начал отсчитывать и выталкивать из строя каждого пятого. Алексей выбрался из своего укрытия, подошёл к офицеру и, глядя ему в глаза, сказал: «Ихь хабе дас гемахт» («Я это сделал»). Немец молча ударил Алексея кулаком в лицо. Алексей упал. Немцы принялись пинать его ногами. Он услышал крик: «Лёлька!» Это кричала его мать. Она так звала его – не Лёшка, а Лёлька. Бледный Иван Григорьевич зажал ей рот рукой и прошептал: «Молчи, мать, а то всех нас расстреляют». Он раньше других понял, что такое железный немецкий порядок. «Вставай!» – приказали Алексею. Он встал и тут же был сбит с ног новым ударом в лицо. Его снова принялись бить ногами, Алексей закрыл голову руками и сжался в колобок. Ему снова приказали: «Вставай!» Но Алексей понял, что его снова начнут избивать и решил не вставать. Тогда его подняли под руки и потащили в будку путевого обходчика. В небольшом строении за столом сидел на стуле немецкий офицер, комендант поезда. Два конвойных немца быстро сообщили ему о происшествии. Офицер на чистом русском языке спросил: «Где кинжал?»
– «Какой кинжал?» – удивился Алексей.
– «Кинжал, с которым ты напал человека».
– «Я напал?! На какого человека? Это на меня шпана напала, я от шпаны защищался. Они украли у нас бидон с топлёным маслом, а я попросил его вернуть. Так один из них здоровенный бугай хотел мне по глазам бритвой полоснуть».
– «Куда ты дел кинжал?»
– «Нет у меня никакого кинжала. У меня перочинный ножик был».
– «Где ножик?»
– «Я его под рельсы засунул».
– «Веди, показывай».
Алексея вывели из сторожки. Он привёл немцев к тому месту, где спрятал перочинный ножик и вытащил его из-под рельса. Немцы отобрали ножик и отвели Алексея снова к коменданту поезда в будку обходчика. Комендант повертел ножик в руках. На кинжал маленький перочинный ножичек никак не походил. Офицер сказал солдатам несколько слов по-немецки. Солдаты взяли под козырёк и вышли из сторожки. Офицер достал из кобуры пистолет «вальтер» и положил его на стол перед собой. Допрос продолжался.
– «Зачем ты напал на людей?»
– «Это не люди, а бандиты. И я на них не нападал, они сами на меня бросились, когда я их попросил вернуть украденное у нас масло. Они бидон с топлёным маслом у нас украли, пока нас пересчитывали, и жрали это масло. А у нас в семье четверо детей. Лилька грудная. Я попросил их масло вернуть, а они меня хотели бритвой по глазам».
– «Ты знаешь, на кого ты руку поднял?»
– «Знаю, на воров и бандитов. Они у нас сначала бидон топлёного масла украли, а потом, когда я попросил вернуть бидон с маслом, их главарь хотел мне бритвой глаза порезать».
Немец усмехнулся, достал из стола фотографию и передал её Алексею: «Посмотри, на кого ты поднял руку». Алексей всмотрелся в фотографию и обомлел. На фотографии стояли три бандита, укравшие бидон с маслом. Они были с автоматами в руках и в новенькой немецкой форме с засученными по локоть рукавами. Тут Алексей всё сразу понял. Те трое были предателями. Они специально были в штатской одежде под видом беженцев подсажены немцами в эшелон, чтобы выведывать, что происходит в эшелоне по пути, выявлять коммунистов, евреев и советских работников. Заодно на стоянках, когда немцы пересчитывали угнанных, они были не прочь пошарить по чужим вещам и продуктам и прибрать их к рукам.
– «Ну, ты знаешь, что надо сделать с тем, кто поднял руку на доблестных солдат вермахта?»
Алексей упёрся: «Это – не солдаты вермахта. Солдаты не воруют, а воюют. А эти воруют. И они украли у нас бидон с топлёным маслом. Оставили маленьких детей без еды. Они не солдаты, а воры и бандиты».
Офицер усмехнулся: «Ну, хорошо. Повернись лицом к стене».
Алексей простился с жизнью. Он сказал: «Не буду я отворачиваться. Стреляй прямо сюда», – и показал рукой себе на грудь.
Немец засмеялся: «Ты такой смелый? Ладно. Я тебя отпускаю. Ты можешь идти». Алексей не двигался с места.
Он смотрел на лежащий на столе вальтер. Офицер поймал взгляд Алексея, снова засмеялся и сделал небрежный прогоняющий жест внешней стороной кисти: «Иди, иди. Иди отсюда». Алексей попятился к двери, не спуская глаз с вальтера. Резко толкнув дверь и выскочив из сторожки, он тут же захлопнул дверь и рванулся в сторону. От двери полетели щепки. Немец несколько раз выстрелил по уже закрытой двери. Но Алексея и след простыл. Он одним махом перемахнул, через железнодорожную насыпь и бросился в лесополосу. За спиной он услышал крик «Хальт!» и несколько выстрелов. За лесополосой было ржаное поле. Алексей долго бежал по полю, но выстрелов больше не было слышно. Он остановился, отдышался, сел, потом лёг на спину на спелые колосья, заложил руки за голову и задумался, глядя в ослепительно голубое небо. Что теперь делать? В Воронеж возвращаться было нельзя. Куда увозили отца с матерью, братом и сёстрами он не знал. Вдали послышался лай собак. «Это меня с собаками ищут» – мелькнула тревожная мысль. Алексей быстро побежал по полю, пригнувшись и не оглядываясь, подальше от железной дороги. Он добежал до кромки поля, залёг во ржи и через несколько минут увидел проезжающую по дороге вдоль поля телегу, доверху гружёную сеном. Возчик дремал с поводьями в руках. Алексей дождался, когда подвода проедет мимо, поднялся, догнал подводу, и, взобравшись на подводу сзади, зарылся в пахучее свежее сено. Так он ехал полчаса, а может быть час. Когда подвода проезжала через какое-то село, он спокойно слез и пошёл в обратную сторону по дороге.
Чтобы догнать эшелон с родителями, ему пришлось возвращаться к железной дороге и цепляться на ходу за вагоны товарных поездов, идущие на запад, рискуя попасть под пули охранников. Спрыгивал он также на ходу на подъездах к станциям. На станциях он расспрашивал об эшелоне с угнанными воронежцами, и наконец, к своему изумлению, через сутки нагнал эшелон со своей семьёй. И вовремя. Эшелон остановился на какой-то украинской станции. И всех угнанных воронежцев выгнали из вагонов и стали распределять по разным деревням. Семья Ивана Григорьевича была отдана в батраки к украинскому хозяину – деду лет семидесяти, который со станции отвёз всю семью на телеге в свой хутор. Алексей потихоньку подсел на телегу и вместе с семьёй приехал на хутор. Дед жил вдвоём с женой. Работали все в поле от зари до зари вместе с хозяином. Кормил их хозяин тем же, чем питался и сам. Летом спали в сарае на сене, а зимой хозяин пустил всех в свою хату и семья Алексея спала на сене на полу.
История с украденным маслом и побегом из-под расстрела на станции неожиданно получила своё продолжение. Однажды хозяин позвал Алексея в поездку в город Лида, находившийся километрах в сорока от деревни, где батрачил Алексей с семьёй: «Ленько, а поидемо зи мною у мисто Лида». Алексей поехал. Ему было интересно посмотреть на новые места. Хозяин останавливался у магазинов, покупал масло для лампады, керосин, спички, соль, ещё какие – то товары. Алексей складывал покупки на телегу и караулил их, стоя возле телеги и придерживая лошадь за вожжи. Вдруг кто-то похлопал его по плечу. Алексей обернулся и похолодел. Перед ним стоял тот самый немецкий офицер, комендант эшелона, который допрашивал его и стрелял ему вслед. «Ну, всё, теперь конец» – решил Алексей. Немец засмеялся, видя испуг Алексея, и снова похлопал его по плечу: «Молодец. Хороший спортсмен. Быстро бегаешь». И офицер удалился, посмеиваясь над перепуганным пареньком. Алексей стоял, словно в воду опущенный. Он не один раз вспоминал потом ту неприятную историю, и не мог точно определить – почему же немец не застрелил его тогда на допросе в сторожке? Почему ему удалось сбежать? Потому что немец хотел покуражиться и не успел схватить со стола пистолет и выстрелить, когда Алексей выскочил в дверь?
Или офицер пожалел смелого независимого парня и дал ему возможность спасти свою жизнь? Возможно, что немец увидел правоту Алексея и подлость трёх предателей, обокравших семью и назвавших молодого и малорослого паренька партизаном с кинжалом, и дал Алексею шанс. Немцы не любили воров. Даже тех, которые им служили. Алексею повезло и на этот раз.
6. Валенки украли
В июле 1942 года правобережная часть г. Воронежа большей частью была захвачена немецкими войсками. Жителей г. Воронежа немцы угнали на Украину. Тех жителей города, которые по неведению или глупости не эвакуировались, немцы расстреливали на месте как диверсантов и шпионов. На Украине семья Алексея попала в батраки к старому крестьянину, жившему вдвоём с женой на небольшом хуторе. Там вся семья вместе со стариком хозяином от зари до зари занимался обычным крестьянским трудом. В конце 1943г. хутор был освобождён советскими войсками и Алексей, не дожидаясь эвакуации на родину, на попутных товарных поездах приехал в разрушенный до основания освобождённый от оккупации Воронеж. Он восстановился в строительном институте.
Но самого института, как такового, ещё не было. Город был разрушен до основания и институт практически не мог из-за разрухи в городе вести свою учебную деятельность. Война двигалась к концу, и Алексей посчитал, что не успеет побить фашистов. У него была бронь от строительного института, и призывной возраст был с 20 лет, но он не стал дожидаться достижения призывного возраста, отказался от брони и пошёл служить добровольцем. В феврале 1944г. он уже оказался в лагере подготовки молодых бойцов. Лагерь подготовки молодых бойцов находился в одном из больших сёл Воронежской области.
Здесь с Алексеем произошёл неприятный инцидент, который мог круто изменить всю его судьбу. Старший брат Дмитрий, воевавший политруком полка, прислал Алексею новые тёплые валенки. Алексей взял валенки с собой в баню, чтобы после бани сменить тоненькие ботинки на тёплые валенки. Но когда он помылся и вышел в предбанник, то к нему подошёл ефрейтор и сообщил, что его вызывает к себе сержант, командовавший учебным подразделением. Сержант, сидевший в соседнем коридорчике, долго и нудно нёс какую-то околесицу, задавал глупые вопросы.
Когда Алексей вернулся к своим вещам, то валенок он не обнаружил, Он стал спрашивать молодых бойцов, не видел ли кто-нибудь, куда подевались его валенки, но бойцы смущались, отрицательно качали головами. На другой день в казарме к Алексею подошли двое земляков новобранцев, отвели в сторону и шепотом рассказали, что в бане валенки украл ефрейтор в сговоре с сержантом, а потом они продали валенки на рынке и на вырученные деньги купили самогон и напились.
Алексей взорвался, закипел. Он подошёл к молодому земляку, которого поставили дневальным у тумбочки возле двери в оружейную комнату, и сообщил, что дневального срочно вызывают к замполиту части. Дневальный возразил, что ему нельзя оставить пост. Присягу молодые бойцы ещё не принимали, но их уже как строевых бойцов отправляли в наряд рабочими по кухне и ставили дневальными в казарме. Алексей посочувствовал бойцу и предложил 5 минут вместо него постоять у тумбочки. Дневальный передал Алексею штык и свою нарукавную повязку и отправился к замполиту. Алексей штыком вскрыл замок в ружейную комнату, взял из пирамиды недавно вычищенный им закреплённый за ним автомат ППШ, набил диск патронами и вставил в автомат. Потом он спрятал автомат под шинелью и пошёл за сержантом.
Сержанта он нашёл за хозяйственным складом, переоборудованном из сельского сарая. В зубах у того торчала папироса.
Алексей выдернул автомат из-под шинели: «Ну, всё, гад, пришёл твой конец! Становись к стенке, больше воровать не будешь!». Сержант поперхнулся от неожиданности, но начальственные замашки взяли верх, и он закричал: «Ты что, Агапов, сдурел, в трибунал захотел? Немедленно отдай оружие!» Он даже протянул руку к автомату, но Алексей дал короткую очередь под ноги сержанту и тот отскочил к стене.
«Где валенки, падла?» Алексея трясло от злости и ненависти.
«Какие валенки?» залепетал сержант.
«Последний раз спрашиваю» – Алексей дал короткую очередь над головой сержанта.
Только тут до сержанта дошло, что жить ему осталось очень немного.
«Прости, Агапов, бес попутал, ефрейтор валенки украл и продал, я тебе всё верну, я тебе другие валенки куплю».
«Шагай вперёд!» – Алексей поднял автомат и повёл сержанта в штаб. Командира части не было на месте, пока он находился в командировке, его временно замещал замполит.
Пока Алексей конвоировал сержанта, за Алексеем и сержантом собралась небольшая толпа любопытных.
Никто не понимал, что происходит. Сержант умолял: «Агапов, прекрати, нас же с тобой обоих посадят, ну что тебе легче от этого станет?»
«Иди, падла!» – Алексей снова ткнул стволом автомата сержанту в спину.
Когда Алексей завёл сержанта в кабинет к замполиту, то доложил по форме: «Товарищ майор, рядовой Агапов вора по службе доставил!».
– «Какого ещё вора? Что за цирк?»
– «Товарищ майор, он вместе с ефрейтором украл у меня новые валенки, а потом продал и деньги пропил».
– «Не верьте ему, товарищ майор, врёт он, никаких валенок мы у него не крали!».
– Замполит начал приходить в себя.
– «Рядовой, сдать оружие».
– «Есть сдать оружие, товарищ майор». Алексей передал свой ППШ майору.
– «Сержант, рапорт мне немедленно представить, даю 15 минут, бегом!».
Сержант как ошпаренный выскочил из кабинета.
– «Рядовой, выйти в коридор и ждать моей команды!»
– «Есть, ждать команды».
Ждать пришлось недолго. За Алексеем прислали караульного с винтовкой, который повёл Алексея под арест. Под арест идти не хотелось. Алексей оглянулся на конвоира и, удивлённо сдвинув брови, спросил: «А это кто ещё у тебя за спиной?». Конвоир оглянулся, Алексей бросился к нему, схватил одной рукой за винтовку и дал конвоиру подножку. Тот рухнул как подкошенный. Через секунду он уже стоял под конвоем у Алексея и просил: «Отдай винтовку, ты знаешь, что бывает за нападение на часового?»
Алексей клацнул затвором: «Иди вперёд, сука, не оглядывайся!»
Так он привёл под конвоем своего конвоира обратно к замполиту и доложил: «Вот ваш часовой, забирайте его обратно».
– «В трибунал пойдёшь, под расстрел, по закону военного времени!».
– «Не пойду, товарищ майор, я присягу не принимал».
– Как не принимал?»
– «Да вот так, товарищ майор, оружие за нами закрепили, а присягу у нас ещё не принимали. Так что в трибунал я не пойду».
От такой наглости замполит весь побагровел и закричал диким срывающимся голосом: «Вон! Вон отсюда!» Алексей выскочил за дверь. Ситуация была опасной. Могли и посадить, если не разберутся. Да если и разберутся, всё равно посадят. Начальство допустило серьёзное нарушение устава – присягу у новобранцев ещё не приняли, а оружие уже выделили и закрепили.
На другой день весь набор новобранцев срочно принёс присягу. Алексей не стал дожидаться последствий инцидента, в этот же день записался в маршевую роту, и на следующий день его уже качало в теплушке, уносящей на фронт. Инцидент не имел продолжения. Такое ЧП начальство постаралось скрыть от руководства. Воровство сержанта. Выдача оружия новобранцам, не принимавшим присягу. За такое можно было и самим серьёзно пострадать.
Так Алексей оказался на фронте в боевой части, наполовину состоявшей из воронежских земляков.
Позже он узнал от воронежских земляков своего призыва, прибывших в часть на пополнение, что на следующий день после его отъезда на фронт в часть пришёл вызов на его имя в лётное училище. Вызов оформил его старший брат Дмитрий, служивший в боевой воинской части в должности политрука. Так по воле инцидента с украденными валенками Алексей оказался на фронте не лётчиком, а пехотинцем.
7. Ах, какие были сапоги
(Из рассказов сержанта Агапова Алексея Ивановича)
Сколько всего фашистов Алексей убил, точно он не знал. Когда он стрелял в немца, бегущего в атаку, и видел, что тот упал, то это вовсе не означало, что попал именно он, а не кто-то другой. Стреляли все. И в первую очередь по тем из атакующих, кто находился ближе. Алексей стрелял очень метко – он был одним из самых лучших стрелков батальона. До войны он часто ходил по тирам г. Воронежа и упражнялся в стрельбе из духового ружья и малокалиберной винтовки. Из духового ружья он попадал с 5 метров в двухкопеечную монету. Из малокалиберной винтовки он стрелял так, что собирал в городских тирах все призы и некоторые работники тиров отказывались давать ему стрелять – боялись отдать все имеющиеся у них призы. Отличался в стрельбе из винтовки и автомата Алексей и в своём полку. Лучше его стрелял, пожалуй, только комбат Давлетбаев, который не знал промаха ни из ТТ, ни из винтовки, ни из ППШ. Из ТТ с расстояния в 40 шагов он отстреливал 7-ю выстрелами горлышки у 7 бутылок. Не промахивался комбат из ТТ и по подброшенным в воздух бутылкам. Не одна немецкая душа полетела в ад, изрыгая проклятья комбату и его твёрдой руке.
Однажды Алексею пришлось поспорить в меткости с комбатом Давлетбаевым. Бой был обычный, ничем особенным не выделяющийся из других оборонительных боёв. После интенсивного миномётного обстрела немцы пошли в атаку. Алексей в это время находился рядом с комбатом в одной ячейке. Впереди атакующих немцев по густой нетоптаной луговой траве бесстрашно бежал высокий лейтенант с «вальтером» в руке. Даже издалека было видно, как на лейтенанте сверкали на солнце новенькие хромовые сапоги. «Товарищ комбат, я этого фрица в сапожках срежу, сапоги мои» – предупредил комбата Алексей. «Я его сам срежу. Кто срежет – того и сапоги» – ответил комбат. Снимать сапоги с мёртвых было запрещено, так как это считалось мародёрством. Но пехота все свои марши на многие километры совершала пешком, и ничто так не изнашивалось на фронте, как сапоги и ботинки. Поэтому бойцы нередко нарушали запрет, и снимали как с чужих, так и со своих убитых, неизношенную обувь. Новые хромовые сапоги можно было успешно обменять на другую более подходящую обувь или на тушёнку. Когда до офицера оставалось всего метров 40, Алексей и комбат, не сговариваясь, открыли по нему огонь. Выстрел комбатовского ТТ и очередь ППШ Алексея прозвучали одновременно. Офицер упал. Лишённые командира немцы залегли и стали отползать, а потом побежали назад. Тут произошёл небольшой спор. «Ну что, Агапов, видел, как я его положил?» – спросил комбат. «Да вы что, товарищ комбат, это я его угробил. Я в него пуль 10 всадил» – отозвался Алексей.
Когда немцы скрылись в своей траншее, Алексей решил доказать свою правоту. Он попросил комбата: «Товарищ комбат, разрешите до немца сползать. Я сапоги у него заберу. Заодно посмотрю, какие пули в нём сидят – мои или ваша». Комбат махнул рукой: «Ладно, давай. Только осторожней». Алексей положил автомат на руку и пополз вперёд по-пластунски, не отрываясь ни на сантиметр от земли. Немца в том месте, где он упал, не оказалось. Алексей ползал в траве кругами, постепенно увеличивая круги. Разозлившись, он никак не мог остановиться и ползал так минут пятнадцать. Офицера не было. Мокрый от пота, испачканный и злой вернулся он в свою траншею к комбату Давлетбаеву. Куда подевался немецкий офицер? Либо его мёртвого утащили свои, либо он был только ранен и сам уполз. После этого случая Алексей уже никогда не мог уверенно утверждать, что он знает, сколько немцев убил.
8. Первый немец
Алексей предполагал, что сам он прикончил 5 или 6 фашистов. Но утверждать точно он мог только про двоих.
Первого своего немца Алексей убил в одном из первых своих боёв в немецком окопе во время контратаки. Немецкая атака началась, как всегда, после активной огневой подготовки. Из ротных миномётов немцы забрасывали наши траншеи с поразительной точностью. Почти каждая мина падала и разрывалась в самой траншее, а не за её пределами. Но этот обстрел не нанёс никаких потерь бойцам взвода разведки под командой земляка сержанта Сбитнева, в котором воевал Алексей. При первом же разрыве немецкой мины бойцы укрылись в блиндажах и благополучно отсиделись. Линия траншей больше 2-х месяцев стояла на одном месте. Ни у Красной армии, ни у вермахта не было в это время весной 1944 года достаточных сил для успешного наступления. Маршевая рота прибыла на передовую и была включена в батальон комбата Давлетбаева. Больше половины роты составляли земляки Алексея из Воронежской области. Кроме воронежских ребят в роте было немало новобранцев с территории освобождённой от оккупации Украины. За время многодневного стабильного противостояния бойцы соорудили надёжные блиндажи, которые могли выдержать даже прямое попадание артиллерийского снаряда, поэтому миномётный обстрел противника не принёс особого вреда.
После миномётного обстрела немцы пошли в атаку силами до взвода пехоты. Они бежали в атаку не спеша, заучено, без особого энтузиазма, соблюдая интервал в 20-30 метров друг от друга. Возможно, это была разведка боем, и немцы прощупывали советскую оборону на этом участке. Но, возможно, немецкое командование решило, что солдаты слишком засиделись в окопах и надо их немного встряхнуть, чтобы не забыли, что находятся на войне. Во всяком случае, немцы атаковали как-то неохотно, малыми силами и сразу пустились наутёк, как только ротный поднял бойцов в контратаку. Рукопашного боя немцы не любили и всегда старались его избегать. Бежали назад они намного быстрее, чем в атаку.
Алексей бежал в контратаку "змейкой", меняя направление, чтобы снайпер не снял, делая короткие очереди из ППШ, и первым спрыгнул в немецкую траншею. Он побежал по немецкой траншее, давая после поворота на всякий случай перед собой короткие очереди из ППШ, добежал до немецкого блиндажа, бросил в блиндаж лимонку, дождался разрыва, и через секунду после разрыва гранаты выпустил в дверной проём блиндажа автоматную очередь. В этот момент, откуда сверху на него обрушился огромный ефрейтор, сбил с ног и схватил Алексея за горло.........
Траншея была узкая, и Алексей попал в тяжёлое безвыходное положение. Он знал приёмы борьбы и до войны часто боролся со своими друзьями и всегда побеждал. Специально для борьбы возле дома ребята насыпали площадку из песка и на этой песчаной площадке отрабатывали приёмы борьбы, увиденные в цирке, и боролись друг с другом. Алексей соорудил самодельную штангу из 2-х вагонных буферов и постепенно научился её поднимать помногу раз. Поднимал он эту тяжёлую штангу больше любого из своих друзей. Но ни сила, ни ловкость на этот раз не могли помочь. Он не мог сбросить ефрейтора ни вправо, ни влево – мешали стены узкой траншеи, не мог уйти через мост – чёртов ефрейтор оказался у него прямо на груди и вцепился в горло. Единственное, что смог сделать Алексей – это поднять голову и прижать её к животу немца. Мелькнула мысль: «Ещё секунда и он мне раздавит кадык. Тогда – хана». За голенищем правого сапога Алексей всегда носил финский нож с наборной рукояткой. Алексей согнул ногу, подтянул её к себе, выхватил из-за голенища финку и стал бить ею немца в левый бок. Немец захрипел и придавил Алексея всем телом ко дну траншеи. Шёл бой, а Алексей барахтался под убитым немцем, пытаясь выскользнуть из-под него. «Живой, Лёня?» Кто-то за ноги стащил труп немца с Алексея. Это было родное лицо кровного воронежского земляка командира взвода сержанта Сбитнева. «Давай, Лёня, давай, не спи! Немец лупит – головы не поднять».
Немцы отступили во вторую полосу обороны и оттуда открыли такой шквальный автоматный и пулемётный огонь, что пули свистели над головой как соловьи. Алексей с сержантом заняли оставленные немцами ячейки. Тут же из третьей полосы обороны немцы открыли точный миномётный огонь по первой траншее своей обороны, где закрепились советские бойцы. Многие солдаты рванули в немецкие блиндажи и там укрылись от миномётного огня. Алексей с сержантом Сбитневым оказались в момент начала миномётного обстрела далеко от блиндажа, могли не успеть добежать до него, поэтому сидели в ячейках, не высовываясь. Это и спасло им жизнь. Атака и отступление немцев были продуманной ловушкой. Сначала немцы притворным отступлением заманили советских бойцов в свою первую линию обороны, потом шквальным огнём из второй линии обороны задержали атакующих на месте. Затем по заранее пристрелянной своей первой траншее обороны открыли массированный миномётный огонь, а через несколько минут, когда многие из советских бойцов, не выдержав миномётного обстрела, укрылись в блиндажах, взорвали запрятанные в блиндажах фугасы.
Пришлось роте отступать, понеся огромные потери. Алексей бежал к своим окопам в мокрой от чёрной фашистской крови шинели, тащил на спине раненого бойца-земляка и матерной бранью проклинал всё на свете – и немцев, и ротного с его неуместной контратакой. В огневой ловушке рота потеряла убитыми и раненными до половины личного состава. Ротный при таких потерях должен был бы попасть под трибунал, и попал бы, если бы не остался навечно вместе с бойцами в одном из взорванных немцами блиндажей. Комбат Давлетбаев доложил наверх по начальству о немецкой огневой ловушке и издал по батальону категорический приказ: в случае контратаки держаться как можно ближе за спинами убегающих немцев, не останавливаться и брать с ходу все три линии обороны противника, чтобы не нарваться на ловушку.
После боя Алексей поменял финский нож, которым зарезал немца, на другой у одного из своих земляков. Невозможно было резать хлеб или сало опоганенным немецкой кровью ножом. Когда Алексей снял в своей траншее окровавленную шинель, то его чуть не вырвало. Кровь убитого немца залила весь правый бок шинели, была какого-то странного цвета, почти чёрной, с неприятным запахом и никак не отстирывалась. Хорошо, что каптёром батальона был кровный воронежский земляк одного призыва. Он выдал шинель не новую, но хорошо выстиранную, с заштопанной на левой стороне груди дырочкой от пули снайпера. Брать снятую с убитого бойца шинель не хотелось, но земляк-каптёр успокоил. Он сказал: «Бери, не бойся. Есть примета – второй раз в одно и то же место пуля не попадает». И действительно. Две пули от немецкого офицера Алексей получил не в грудь, а в спину, в левую лопатку, когда бежал в очередную контратаку.
Когда сам комбат поднял бойцов в контратаку, немцы, не принимая рукопашного боя, как обычно, бросились бежать. Алексей, стреляя на ходу короткими очередями, вырвался немного вперёд. Когда он пробегал мимо лежащего на спине, как казалось убитого немецкого лейтенанта, тот поднял руку и дважды выстрелил с близкого расстояния из офицерского «вальтера» в спину Алексею. Как – будто кто-то ткнул кулаком в спину Алексея, и он неожиданно оказался на земле. Бойцы, бежавшие сзади, сразу добили раненого немецкого лейтенанта и бросились к Алексею. В медсанбате он провалялся две недели. Спасло ему жизнь то обстоятельство, что немец стрелял снизу с близкого расстояния и обе пули прошли снизу вверх под очень острым углом. Они скользнули по левой лопатке, и одна из них застряла в мышцах плеча. Эту пулю врачи извлекли. Вторая пуля вошла несколько правее первой и оказалась между шейными позвонками и сонной артерией. Врачи не стали её извлекать из опасения задеть сонную артерию и через две недели Алексей с пулей в шее уже воевал в своей роте. Из тех бойцов, которые провоевали больше Алексея, большинство уже было ранено по нескольку раз. Их по-быстрому штопали в полевых медсанбатах и снова отправляли воевать. Долечивать не было времени. Потери были большие. Людей не хватало. Но Алексею немного повезло. Вскоре после ранения его батальон отправили на отдых и пополнение, и он получил ещё некоторое время для восстановления после ранения. Молодой сильный организм быстро взял своё, Алексей поправился, и последующие боевые контакты с врагом это подтвердили.
9. Второй немец
(Из рассказов сержанта Агапова Алексея Ивановича)
Старший сержант Сбитнев вёл отдохнувший и пополненный новыми бойцами взвод к передовой. Дорога шла вдоль опушки леса. За лесом расстилалось поле, густо засеянное пшеницей, за полем подлесок, а за подлеском поблёскивала речка. Где-то за речкой в нескольких километрах пути находилась передовая линия обороны и позиции батальона.
За несколько месяцев службы Алексей проявил дисциплинированность, отвагу и находчивость, и комбат Давлетбаев, заметивший смекалистого и исполнительного бойца, не раз отправлял его на другие участки фронта с личными поручениями и приказами. В батальонной разведке Алексей несколько раз ходил за линию фронта и успешно возвращался. За отличную службу ему объявляли благодарности перед строем и, наконец, было присвоено звание сержанта. Он был назначен командиром отделения и заместителем командира взвода, которым за недостатком лейтенантов командовал старший сержант Сбитнев, кровный воронежский земляк. Взвод шёл вдоль леса, дорога петляла, и гимнастёрки на бойцах уже промокли на груди и под мышками. Жара в июне 1944 года в Белоруссии стояла довольно приличная, парило, как перед дождём.
Алексей подошёл к Сбитневу: «Слушай, сержант, может быть, лучше свернём, да через поле напрямик, ну чего по дороге петлять? Уже столько часов топаем» Бойцы шли уже несколько часов с короткими передышками.
– «Пожалуй, верно. Сократим дорогу». И Сбитнев скомандовал: «Взвод, левое плечо вперёд, прямо, ориентир – подлесок». Взвод повернул направо и начал осторожно пробираться сквозь густую пшеницу в сторону видневшегося вдали подлеска. Не успели бойцы сделать и сорока шагов по пшеничному полю, как один из них закричал и рухнул, корчась от боли. Пуля попала ему в левое плечо, чуть выше лопатки. Бойцы ещё не опомнились и не сообразили, откуда могла прилететь шальная пуля, как закричал и упал второй раненый боец. Пуля попала ему немного ниже спины, в левую ягодицу. Пуля была явно прицельная и даже издевательская. «Ложись! – крикнул Сбитнев, и бойцы мгновенно попадали в густую рожь. Пули были явно не шальными.
– «Вот чёрт, ведь это снайпер бьёт, кукушка проклятая! Где ж он, падла, засел?»
Ожидать пули снайпера в своём тылу в нескольких километрах от линии фронта было никак невозможно. Раненых бойцов перевязали. Ранения оказались не смертельными, но бойцы из строя выбыли. Высовываться из густой пшеницы было глупо. Снайпер мог выстрелить в любой момент. А где он затаился, было непонятно.
Сбитнев отполз от бойцов в сторону, стянул с ноги сапог, потом снял портянку и намотал её на вещмешок, потом надел на эту импровизированную куклу каску и слегка приподнял это сооружение над верхним краем пшеничных колосьев. Почти сразу каска зазвенела от пули и слетела с импровизированной куклы. Через мгновение послышался отдалённый звук выстрела. Пуля прилетела с тыла со стороны леса. Судя по времени, за которое до солдат долетел звук выстрела, расстояние до снайпера было около 100 метров. Сбитнев соображал быстро: «Лёня, «кукушка» бьёт из леса, до него метров сто, ползи, обойди его сзади, а я его отвлеку на себя». Алексей сбросил вещмешок, закинул за спину ППШ, и пополз в правую сторону. Он прополз метров 70-80, услышал выстрел и повернул в сторону леса. Уже в лесу поднялся, огляделся и, услышав вдалеке выстрел, начал осторожно, переходя от дерева к дереву, пробираться в сторону опушки. Вскоре он услышал ещё один выстрел, но уже ближе. Потом ещё один. Снайпер вёл охоту на сержанта Сбитнева.
Алексей подобрался к опушке леса совсем близко, уже деревья поредели, и сквозь них золотилось на солнце пшеничное поле. Он остановился под высокой толстой сосной и прислушался. Выстрел грохнул прямо у него над головой, и Алексей невольно от неожиданности присел, прикрыв голову автоматом. Он глянул вверх и увидел высоко над головой настил из веток и две подошвы сапог, кованных гвоздями. Алексей так разозлился за свой испуг, что всадил в настил из веток не меньше полдиска из своего ППШ. Он едва успел отскочить в сторону, как рядом, чуть его не задев, грохнулось тело того, кто за секунду до этого был вражеским снайпером. Это был высокого роста детина в форме, судя по нашивкам унтер. Длинная очередь из ППШ прошила его снизу верх и превратила в решето. Немецкий снайпер умер мгновенно. «Ну, вот и второй» – вздохнул Алексей. Он не испытал ни радости, ни отвращения. Чувство опасности и азарт в его душе начали куда-то уходить, и он внезапно почувствовал усталость, как будто закончил трудную и скучную работу. «Сколько же мне ещё придётся их убить, если самого меня не убьют?» – подумал он, посмотрел в сторону поля и никого не увидел. Он закинул ППШ на плечо, приложил руки рупором ко рту и немного покричал: «Сбитнев, Сбитнев, ты живой?»
– «Да живой, живой» – откликнулся из-за соседних сосен Сбитнев и подошёл к Алексею.
Вслед за сержантом Сбитневым подтянулись бойцы взвода и осмотрели огневую точку снайпера. К сосне были прибиты гвоздями деревянные ступеньки из расколотых сосновых поленьев. На высоте около 10 метров на ветках сосны было устроено подобие гнезда из веток. В гнезде обнаружился целый арсенал. Там висела зацепившаяся за ветки при падении снайпера его винтовка с оптическим прицелом. На ветке повыше был подвешен новенький цейссовский полевой бинокль. В снайперском гнезде вооружение снайпера дополняли плащ-палатка, пистолет, гранаты, кинжал и большое количество патронов. Были также галеты, сухари, тушёнка, стеклянная фляжка с водой и шоколад. Документов при снайпере не было.
Сбитнев поманил Алексея за собой: «Пойдём, Лёня, я тебе кое-что покажу». Они подошли к сосне, которая росла на самой опушке леса метрах в сорока от гнезда снайпера. «Вот за эту сосну я перебежал и спрятался, гляди, как этот гад меня чуть не уложил» – Сбитнев показал на толстую щепку, отколотую выстрелом от сосны, и встал за сосну. Отметина от пули, оторвавшей от сосны щепку, находилась прямо на уровне его виска. «Ведь он, сволочь, прямо мне в голову целил» – взводный выругался и злобно сплюнул. Гимнастёрка и галифе сержанта были изрядно помяты и запачканы землёй и зелёным соком травы. Пока Алексей полз, сержант короткими перебежками зигзагом приближался к месту, где засел снайпер. Он вскакивал, пробегал 3-4 метра в одну сторону, падал и отползал несколько метров в другую сторону. Потом вскакивал уже с другого места, снова делал короткий бросок и снова падал, и снова отползал. Таким способом он не давал снайперу точно прицелиться. Постепенно он приближался к снайперу и становился для него реальной угрозой. Немец не смог в этой смертельной игре остановиться и проиграл.
Настроение бойцам было испорчено, но надо было идти в батальон. Боец раненый в плечо шёл, стиснув зубы, превозмогая боль, сам, а второго раненого бойцы вчетвером по очереди тащили на самодельных носилках, сделанных из сосновых веток и трофейной плащ-палатки.
Трофеи поделили по справедливости. Кинжал снайпера старший сержант Сбитнев оставил себе. Новенькие ботинки большого размера подошли одному из рослых бойцов, а пистолет и полевой бинокль бойцы решили передать комбату Давлетбаеву – ему они были нужнее. Да и по штату бойцам не полагались ни пистолеты, ни бинокли. Снайперскую винтовку передали трофейщикам.
Когда бойцы возвращались в полк, то по пути неторопливо обсуждали безрассудность немецкого снайпера, который забрался к ним в тыл, да ещё нагло белым днём вёл по ним огонь. На что он рассчитывал, обстреливая целый взвод солдат, было непонятно. Почему он стрелял по рядовым, а не по офицерам, как пробрался в тыл и почему рискнул играть со смертью – это, так и осталось загадкой. Может быть, ему затмила разум пропаганда, утверждающая превосходство арийской расы над отсталыми славянами, или он не мог поверить, что русские тоже умеют воевать? Неужели он решил, что русские после 2-х его выстрелов разбегутся как зайцы?
Он сделал ошибку. Последнюю. И остался лежать в чужом краю под высокой сосной. В этом и была вся суть случившегося. Суть одного маленького эпизода из сотен тысяч маленьких и больших эпизодов долгой и тяжёлой войны.
10. Короткая схватка
(Из рассказов сержанта Агапова Алексея Ивановича)
Впереди на пути батальона оказался небольшой белорусский хутор, которого не было ни на одной из имевшихся карт. Хутор состоял из 15-20 крестьянских хат. Командиру взвода разведки старшему сержанту Сбитневу было поручено проверить, нет ли в хуторе немецкой засады и если нет, то узнать у жителей хутора что-либо о немцах. В разведку Сбитнев взял с собой как обычно отделение своего заместителя и кровного воронежского земляка Агапова Алексея.
Сбитнев и Алексей выдвинули отделение к опушке леса и некоторое время наблюдали за хутором. Никакого движения, ни людей, ни животных. Сбитнев расположил бойцов в лесу на окраине вдоль всего хутора для прикрытия, а сам вместе с Алексеем, держа ППШ наготове начал осторожно пробираться по хутору от одной хаты к другой. Сбитнев всегда брал опасные дела на себя или поручал их Алексею, в котором он был всегда уверен, как в самом себе.
Первая хата была пуста. Алексей взобрался по лестнице в сенях на сеновал. Никого. Посмотрел с сеновала на хутор. Пусто. Так со Сбитневым они обыскали три хаты. Вошли в четвёртую. Едва Сбитнев взялся за ручку двери, ведущей из сеней в жилое помещение, как на него и Алексея обрушились сверху с сеновала два немца и сбили обоих с ног.
Немец навалился массой тела на Алексея с ног и попытался схватить за горло. Алексей, лёжа под немцем, схватил немца руками за кисти рук. Немец пытался их вырвать, но Алексей не зря занимался до армии штангой и борьбой – он вцепился в руки немца мёртвой хваткой. Ни немец, ни Алексей не могли ничего сделать друг другу, потому что их руки были заняты руками друг друга. Внезапно что-то хрястнуло, руки немца ослабли, немец навалился на Алексея всем телом. Алексей рванулся и ужом выскользнул из-под немца в сторону. «Живой, Лёня?» – сержант Сбитнев стоял над немцем с автоматом в руках. Это он финским ножом зарезал напавшего на него немца и ударом приклада своего ППШ раздробил череп противнику Алексея.
– «Живой. Ну, спасибо, друг, выручил».
– «Магарыч, Лёня с тебя».
– «Ладно, сочтёмся. Вот гады, думали нас придушить втихаря».
-«Ладно, Лёня, давай на сеновал, посмотри там, только осторожно. Чёрт их знает, сколько их всего тут засело».
Алексей выставил вперёд ППШ, потихоньку поднялся по лестнице и заглянул на сеновал. Там было пусто. На сеновале Алексей обнаружил два новеньких немецких автомата и несколько факелов.
Прочесав весь хутор, Алексей и Сбитнев позвали в хутор бойцов прикрытия. Больше немцев в хуторе не было. Немцы покинули хутор, угнав всех жителей и оставив двух факельщиков, чтобы ничего, кроме выжженной земли, не оставлять после себя русским. Но факельщики не успели поджечь хутор. Они увидели Сбитнева и Алексея, подходивших к хате. Не зная, сколько красноармейцев вошло в хутор, немцы из осторожности решили не стрелять, а расправиться с двумя бойцами тихо, используя фактор внезапности. Они спрятались на сеновале и спрыгнули сверху на головы двух советских солдат, чтобы без шума задушить. Подвела излишняя уверенность. Они не рассчитали своих сил. Русские оказались крепче. Немецким факельщикам пришлось проститься с жизнью. За сохранённый хутор и факельщиков Сбитневу и Алексею объявили благодарность. Так старший сержант Сбитнев спас жизнь своему воронежскому земляку и сократил гитлеровскую армию ещё на две единицы.
11. Ночной бой
(Из рассказов сержанта Агапова А. А.)
Старший сержант Сбитнев был в очередной раз ранен и валялся в медсанбате. Алексею, как его заместителю, было приказано возглавить взвод разведки. Должность была лейтенантская, но лейтенантов немцы в бою выбивали в первую очередь, лейтенанты в пехоте долго не жили, и в результате на должностях командиров взводов и заместителей командиров взводов продолжительное время приходилось служить старшим сержантам и сержантам. За несколько месяцев службы в полковой разведке Алексею несколько раз приходилось успешно ходить за линию фронта за языками, и ему присвоили звание сержанта. Батальон скрытно по ночам шёл к линии фронта. Днём батальон отлёживался в лесу. Фронт был уже рядом. Судя по карте, где-то впереди находилось большое белорусское село, но было ли оно занято немцами или нет, никаких разведданных не было. Батальон расположился в лесу, ожидая подхода обещанных в помощь самоходок. Было запрещено курить и разводить костры, но это было излишней предосторожностью – после долгого ночного перехода бойцы так устали, что попадали на хвою и заснули, подложив под голову вещмешки. Днём горячую пищу не готовили, обедали и ужинали бойцы сухим пайком.
Едва стемнело, Алексея с отделением бойцов отправили в ночную разведку. Луна была почти скрыта облаками, и дорога в темноте была едва различима. Не сбиться с дороги помогало только то, что дорога была накатана в две колеи и от её обочин в обе стороны расстилались засеянные поля. Бойцы прошли с километр, но внезапно дорога разделилась на две одинаковые части. Алексей достал карту, лёг у развилки дороги за обочиной в густую рожь и, прикрыв электрический фонарик сверху пилоткой, осторожно посветил на карту. На карте была одна дорога, ведущая к селу. А на деле дорога разветвлялась в две стороны. Какая из них вела в село, было непонятно. «Если на карте одна дорога, а на деле 2 дороги, то одна из дорог должна быть новой, недавно проложенной» – так рассуждал Алексей, обдумывая ситуацию. Он достал из-за правого голенища сапога финский нож, который всегда носил при себе на случай рукопашного боя. Это был новый финский нож. Старый финский нож с наборной рукояткой, которым он пользовался раньше, Алексей поменял на другой. После того как он финским ножом убил немца в траншее, пользоваться этим ножом было неприятно. Противно было даже подумать, что этим испоганенным ножом придётся резать хлеб, сало или открывать консервы. И Алексей поменялся ножами с ничего не подозревающим воронежским земляком. Алексей несколько раз воткнул финку в землю то на одной, то на другой дороге. Грунт одной дороги оказался несколько твёрже, чем грунт другой. «Значит нам сюда, здесь земля накатанная – она твёрже, значит это – старая дорога на село» – шепнул Алексей бойцам. Через несколько минут бойцы вошли в небольшой лесок, и ночь вокруг сгустилась. За леском дорога стала шире и по её сторонам появились кюветы. Бойцы прошли ещё метров 150 и увидели едва различимые очертания белорусских хат. Дорога на село была выбрана точно. Бойцов Алексей разделил по двое и поручил каждой двойке скрытно подползти к своей отведённой хате и полчаса молча слушать и наблюдать, а через полчаса ползти обратно за околицу и собраться в том месте, откуда начали свой путь. При обнаружении немцев огня не открывать. В случае обнаружения немедленно отходить назад. Нескольких бойцов Алексей оставил и расположил в линию напротив села на случай, если в селе бойцы наткнутся на немцев и придётся прикрывать их отход. Через час бойцы вернулись и доложили, что в селе полная тишина, ни звука, ни огонька, ни лая собак. В селе нет ни жителей, село брошено. Вернувшись в батальон, Алексей доложил результаты разведки и уже, было, прилёг и задремал, как его опять вызвали к комбату. Командование отдало приказ батальону Давлетбаева вместе с вновь прибывшими самоходчиками занять покинутое жителями и немцами село. Отделение бойцов под командой Алексея было прикреплено к самоходчикам, которыми командовал маленького роста шустрый и решительный капитан. Разведчики должны были показать дорогу в село.
Как это иногда бывает на войне, произошёл досадный случай, за один час ситуация изменилась. Пока разведка возвращалась в место расположения батальона, пока начальство принимало решение, пока батальон и самоходчики выстраивались в походное положение и выдвигались в село, немцы обнаружили, что село всеми покинуто и заняли его. Алексей, ничего не подозревая, шёл впереди первой самоходки и показывал ей светом фонарика дорогу. Едва голова колонны вышла из леска, как по ней из села был открыт плотный огонь. Алексей крикнул своим бойцам: «Ложись!», и сам бросился в придорожный кювет. Бойцы, шедшие по правую сторону от самоходок, попадали в правый кювет дороги вместе с Алексеем. Автоматный и пулемётный огонь с немецкой стороны всё усиливался.
В темноте непроглядной ночи со стороны села сверкали десятки огоньков от шквального немецкого огня. Некоторые из бойцов стреляли по селу одиночными выстрелами, а некоторые прижались плотно ко дну кювета. «Агапова к капитану!» – передали бойцы по цепочке, и Алексей пополз по кювету к командирской самоходке, прижимаясь к земле и про себя ругая шустрого капитана. Едва Алексей взобрался на борт самоходки, как попал под ругань капитана: «Вы что там, заснули, пехота? Немедленно выдвигай своё отделение вперёд на 100 метров?»
– «Как вперёд, с какой целью?» – Алексей так опешил от неожиданности, что переспросил капитана, недоумевая, не оговорился ли капитан? Под таким шквальным огнём выдвигать бойцов впереди самоходок означало верную и бессмысленную смерть всего отделения. «Самоходки будете охранять. Ты что, хочешь, чтобы мне немцы все самоходки пожгли? Выполнять!» – прокричал капитан. Возражать было нельзя, но бес правды уже заговорил в Алексее: «Товарищ капитан, зря в одну минуту всех людей положим, немец шквальным огнём бьёт, головы не поднять, вы только посмотрите».
«Чего там смотреть?!» – капитан хотел выглянуть из самоходки, схватился рукой за верхний край передней брони и тут же дико закричал, скатился на дно самоходки и начал кататься от боли, громко во всё горло матерясь. Очередь немецкого пулемёта так плотно прошла по верхнему краю брони, что как бритвой срезала капитану четыре пальца правой руки. Пока самоходчики в свете фонарика отрезали капитану пальцы, болтавшиеся на коже, и перебинтовывали руку, Алексей пополз по кювету к своему отделению. Он ползал от одного бойца к другому и говорил каждому: «Видишь, вон там слева пулемётчик бьёт? Давай по нему короткими очередями, как учили, пока не замолчит». Через несколько минут всё отделение стреляло по одной немецкой огневой точке. Как только огонёк выстрелов, выбранной Алексеем цели на немецкой стороне, пропадал, Алексей полз снова от бойца к бойцу и наводил их огонь на новую огневую точку. При таком массовом обстреле целым роем пуль одной огневой вражеской точки у немецких пулемётчиков и автоматчиков не оставалось шансов на жизнь. Самоходчики берегли снаряды для какого-то важного случая, но через полчаса боя, наконец, разродились и дали несколько залпов осколочными снарядами по селу. Это отрезвило обороняющихся немцев. Огонь с немецкой стороны прекратился, и с рассветом самоходки и пехота вошли в село. Утро подтвердило правильность тактики ночного боя. Почувствовав превосходящие силы противника, немцы отступили так быстро, что вопреки своим незыблемым правилам оставили в селе своих убитых с оружием.
Убитые немецкие автоматчики и пулемётчики лежали всюду, где их застала смерть – почти за каждым углом. Их было немало.
Алексей ожидал больших неприятностей со стороны капитана. Ведь он не бросил своих ребят под пулемётный огонь. Не выполнил приказ. Попахивало трибуналом. Но победителей не судят. Ночной бой оказался удачным. Убитых в отделении не было, было несколько легко раненых. Самоходки не пострадали, если не считать множественных следов на краске брони от немецких пуль. Да и капитану было уже не до Алексея. Его сразу же после потери пальцев во время боя из-за большой потери крови отправили в медсанбат, и война для него закончилась. Без пальцев не воюют.
Алексей за этот бой получил благодарность комбата, но, если бы не ранение капитана, не избежать бы Алексею трибунала. Алексей никому не рассказывал, какой приказ от капитана он получил в том ночном бою, и что очередь немецкого пулемёта спасла жизнь ему и целому отделению молодых ребят. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
12. Последний бой
Последний свой бой Алексей не забудет никогда. Операция «Багратион» по освобождению Белоруссии готовилась долго, тщательно и очень скрытно.
Войска к местам сосредоточения передвигались только ночью. Днём подразделения укрывались в лесах. Бойцам было запрещено разводить костры. Горячую пищу для солдат и офицеров не готовили. Бойцы батальона 5 суток питались только сухими пайками. За ночь батальон Алексея проходил по 40 километров. За 5 ночей батальон прошёл около 200 километров. Ночью во время марша было запрещено курить и разговаривать. Идти с полной выкладкой было тяжело даже Алексею, который, несмотря на небольшой рост, был физически силён и вынослив. Некоторые бойцы не выдерживали и бросали отягощающую амуницию. На дороге иногда попадались под ноги брошенные бойцами противогазы, сапёрные лопатки, гранаты, пачки патронов и даже запасные диски. Алексей подбирал брошенные гранаты и пачки патронов и складывал в свой вещмешок. Так у него оказалось три запасных диска к ППШ, десяток гранат «лимонка» и большой запас патронов. Командир взвода сержант Сбитнев был снова ранен и лежал в госпитале, а Алексею пришлось его замещать. Так из командира отделения младший сержант Агапов стал командиром взвода. Ему не раз вместе с другими бойцами взвода разведки приходилось ходить в тыл к немцам за «языками». Так он получил несколько благодарностей от командования и был награждён медалью «За отвагу».
Всего за 2 месяца участия в боевых действиях он от звания рядового дослужился до звания младшего сержанта.
Чтобы в ночном изнурительном переходе облегчить путь двум ослабевшим бойцам, Алексей взял у них автоматы и повесил их себе на шею вдобавок к своему, Как только начинал брезжить рассвет, поступала команда, батальон сворачивал в лес, и бойцы падали вповалку и засыпали как убитые. Последнюю ночь пришлось идти по болотам и грязи, иногда по щиколотку, а то и по колено. На 6-е сутки батальон прибыл ночью на передовую и сменил находившийся там уставший и поредевший другой батальон. Для наступления должны были подойти и другие части, но они отстали. Батальон занял позиции в траншеях. Траншеи были неглубокие, не полного профиля, всего в пол роста, потому что глубже копать не было возможности – дно траншеи начинала заливать просачивающаяся вода. Чтобы не стоять в воде, солдаты выложили дно траншеи мостками из тонких длинных брёвнышек. За длительное время противостояния советских войск и вермахта позиции были оборудованы несколькими блиндажами и землянками в 2-3 наката. Было где укрыться от миномётного и артиллерийского обстрела. На рассвете Алексей расставил своих бойцов по ячейкам. На взвод пришёлся участок обороны метров в 200 – 250. Сам Алексей занял ячейку в центре позиции взвода и оборудовал её очень тщательно. Он прокопал ячейку вперёд, потом немного вбок и внизу у самого настила прокопал себе «лисью нору» на случай бомбёжки или артобстрела. Теперь его можно было накрыть только прямым попаданием снаряда. Мина ротного миномёта, даже упав сверху на «лисью нору», не смогла бы причинить ему никакого вреда.
Три дня было полное затишье. Полевые кухни отстали, застряли где-то в болотах, и бойцы трое суток кипятили в котелках и в касках болотную воду и пили это мутный напиток вместо еды. Сухой паёк закончился ещё на пятидневном марше. Немного выручил старшина, который верхом на лошади пробрался на передовую через полузатопленные болотные низины и привёз сорокалитровую флягу до краёв наполненную чистым медицинским спиртом. Бойцам налили каждому по фляжке из расчёта 100 граммов фронтовых на несколько дней. На завтрак, обед и ужин вместо еды и чая бойцы трое суток пили спирт, разбавленный кипячёной болотной водой.
На 4-й день Алексею передали сообщение от комбата: на подходе подкрепление. В случае немецких атак не отступать. Держаться до подхода подкрепления. Вот тут наступление немцев и началось. Немцы сначала провели интенсивный миномётный обстрел, потом пошли в атаку. Алексей успешно отсиделся от миномётного обстрела в «лисьей норе». Немецкие мины хоть и попадали точно в траншею, но убежище Алексея не задели. Немцы шли в атаку в полный рост, а огонь с нашей стороны был очень слабым. Алексей побежал по траншее от ячейки к ячейке и увидел неприятную картину: большинство ячеек пустовали. Огонь по фрицам вело не больше полтора десятка бойцов. Алексей побежал по траншее от одной пустой ячейки к другой, давая из каждой ячейки короткую очередь по немцам. Пусть думают, что бойцов много. Немцы отошли. Огонь прекратился. И тут Алексей услышал какой-то странный разговор, который доносился из блиндажа. На каком языке говорили, сразу ясно не было, но явно не на русском.
