Буян
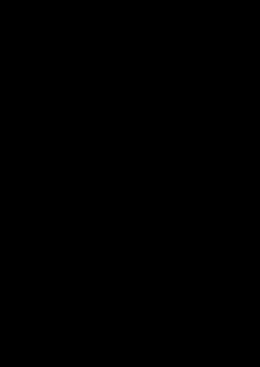
Переводчик Александр Муцко
© Пенелопа Дельта, 2025
© Александр Муцко, перевод, 2025
ISBN 978-5-0065-4098-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предварительное замечание!
Книга переведена без купюр и сокращений, «как есть».
В тексте содержатся сцены жестокого обращения с животными, сцены насилия над людьми, жестокие подробности военных действий, ксенофобские и шовинистические высказывания, они используются в книге с патриотически-воспитательными целями. Нужно учитывать реалии 1935 года.
Книга не направлена на разжигание национальной или религиозной розни.
Моим внукам, Апостолосу Пападопуло и Павлосу Заннасу
1. НУ ЧТО ЗА ЛЮДИ?
Смотрел я на этих ребят и раздумывал. Вот Лукас – молча пишет что-то, нахмурив брови: он еще злится, а в это время Враси́д, с руками в карманах ходит туда-сюда, садится, встает, насвистывает, напевает, суетится, всем видом своим показывая, что отлично развлекается. Но им обоим на самом деле было ужасно тягостно.
Я сонно следил за ним взглядом, закрывая то один глаз, то другой, и размышлял.
Почему мне так не нравится этот Врасид? Что меня в нем отталкивало? Губастость? Ленивая походка? Или, может быть, привычка никогда не смотреть в лицо собеседнику? Или это из-за его выпендрежных галстуков? Или из-за напомаженных, липнущих ко лбу волос? Или попросту потому, что он был противоположностью своего двоюродного брата Лукаса?
А контраст между ними был огромный. Лукас – стройный, худощавый, всегда немного задумчивый, с голубыми широко распахнутыми глазами – они смотрели на вас словно из глубины души, его вьющиеся коротко стриженные волосы, зачесанные назад, открывали лоб. Врасид – на год старше, толстый, рыхлый, вялый, трепливый, как баба.
Но какое мне дело до всего этого и что меня беспокоило? Почему мне было так неприятно его присутствие, однако ж и глаза я не мог от него оторвать? Прошел час, а Лукас все писал. Наконец Врасид порядочно замаялся, подошел к нему и выпалил прямо в ухо:
– Давай уже, домучивай свое задание и пойдем в сад.
– Иди один, – ответил ему Лукас, – Я с тобой не играю.
– Да что ты говоришь? – сказал насмешливо Врасид.
Лукас откинулся назад.
«Сейчас подерутся» – подумал я про себя и немного порадовался, потому что знал, что, Лукас хотя и на год младше, но сможет ему врезать.
Но тот совладал с собой и снова сел за свою тетрадь.
– Я не играю с теми, кто ругается нехорошими словами, – сказал он.
Врасид засмеялся.
– Какое тебе дело, что я говорю про Васи́лиса?
– Я дружу с Василисом и не выношу, когда ты обзываешь его животным.
Слова Лукаса больно задели меня, словно меня ударили.
– Но я же не в лицо ему это сказал, – оправдался Врасид.
– Тем хуже. Боишься сказать ему это в лицо и говоришь за спиной.
– Пффф, – сделал Врасид, – подумаешь, какой-то дурацкий слуга…
На этот раз Лукас не сдержался и бросился на него. Но тот, зная про силу кулаков Лукаса, не стал дожидаться. Одним прыжком он оказался в дверях, неуклюже спустился и убежал, позабыв свою шляпу.
В другой раз я бы схватил эту шляпу зубами и изорвал бы ее на клочки. Но весь этот разговор меня так огорчил, что я даже не двинулся с места.
Пока Лукас писал, я лежал, положив голову на лапы, и предавался размышлениям.
Хотя я и любил Лукаса и терпеть не мог Врасида, но в этот раз я не мог быть на стороне своего любимчика. Послушайте-ка историю этой ссоры.
Врасид хотел срезать большую гроздь неспелых бананов, что свисали с бананового дерева. Ему помешал садовник Василис. Он сказал, что плоды еще очень зеленые, что нужно сначала, чтобы пожелтели бананы верхнего ряда, тогда только можно срезать гроздь и положить на циновку, чтобы дозрели все. А Врасиду хоть кол на голове теши. Он все упрямился и злился. И как только Василис отвернулся, он сказал ему в спину: «ну ты животное». Тут Лукас разозлился, и между двоюродными братьями возникла ссора.
Но несмотря на всю мою неприязнь к Врасиду, я решил, что в этот раз неправ был Лукас.
Так впервые меня ранила людская предвзятость.
С тех пор мне довелось слышать немало обидного. Но этот первый случай действительно причинил мне боль, сильно задел меня за живое.
Люди привыкли называть других людей «животными», «зверьми», «четвероногими», чтобы высказать им с презрением, что те якобы не думают, не выражают чувств, не рассуждают, не переживают. Я слышал это и продолжаю слышать. Но так и не могу к этому привыкнуть.
Но разве это позорно, когда тебя называют животным? Разве это оскорбление быть четвероногим? Или разве число ног имеет значение? Мы – мы разве не чувствуем? Не соображаем? Не любим? Разве нам не бывает больно? Даже больнее, чем людям…
Эти мысли мучали меня в тот день, и я решил рассказать вам несколько историй из своей жизни, чтобы вы увидели, насколько вы, люди, бываете несправедливы, а также чтобы вы убедились, что вы нижестоящие существа по сравнению с нами, потому что у вас нет способности понять нас, а мы можем сразу раскусить вас по одному только взгляду, по одному движению, по тону вашего голоса, не важно, на каком языке вы говорите.
2. БЕЛЫЕ ЛОСКУТЫ, ЧЕРНЫЕ НОГИ
Мое первое яркое воспоминание – это первое мое путешествие. Лето я провел в Кифисье, в предместье города под названием Афины, а потом поехал в первый раз в Александрию, в Египет, где жил мой хозяин.
Про Египет я вообще и понятия не имел. До этой поездки я помнил только огромный сад в Кифисье, где было много деревьев и цветов – повсюду цвели цветы, цветы и снова цветы. Я был тогда маленьким, кто подарил меня моему хозяину – не знал. И как понимаете, для нас, как и для вас, впечатления этого возраста проходят без следа.
Впервые я оказался на большом корабле. От моря шел сильный запах, задувал ветер, а в трюме была пропасть мышей. Какая же радость для собачки протискиваться между сундуков и коробок и одним рывком душить мышей, огромных, как кролики.
Вся семья путешествовала вместе. Но особенно теплую дружбу я водил с Лукасом и близнецами, Аней и Лизой, тремя младшими детьми моего хозяина. Они часто приходили и играли со мной на окраине кифисийского сада, где жил слуга Соти́рис. Там же стояла и моя конура.
Я не очень хорошо знал своего хозяина. Он приехал из поездки накануне нашего отъезда из Кифисьи со старшим сыном, Ми́цосом. Что же касается двух дам, госпожи Васиота́ки и Евы, ее старшей дочери – той было уже пятнадцать, и она больше не снисходила до игр, – я едва их знал. Редки были их визиты в мой уголок сада, как и ласки их.
На корабле было очень оживленно. Пассажиров было полно, и со многими я подружился.
Только с одной девочкой, миловидной голубоглазой англичаночкой я был в раздоре с первого дня.
Но возможно я сам был в этом виноват?
Она сидела в парусиновом кресле рядом с Мицосом и беседовала с ним. В руке, что свешивалась с подлокотника, она держала лоскут белой ткани и во время разговора с Мицосом медленно водила им туда-сюда так, что это возбуждало мой охотничий инстинкт.
Я навострил уши. Лоскутная тряпочка продолжала двигаться вперед-назад, словно говорила мне:
– А вот и не поймаешь, а вот и не поймаешь, а вот и не…
– Ах так, да? – вырвалось у меня.
Одним прыжком я подскочил к англичаночке, выхватил у нее эту тряпку из рук, тряханул пару раз, чтобы та испустила весь свой тряпичный дух, зажал тряпку в лапах, два раза куснул и порвал на три части.
Откуда мне было знать, что поднимется такое возмущение из-за какой-то тряпочки, которую я прикончил!
Девочка так разоралась, как будто я ее оскорбил, она завопила, что я разорвал ее кружевной платок. Мицос, Лукас, господин Васиота́кис, близнецы, все они повскакали с мест и закричали:
– Буян! Буян!
Я не знал, кого первым слушать и к кому первому бежать. Госпожа Васиотаки твердила, что собаки не годятся в спутники. Одна Ева оставалась в своем шезлонге и хохотала от души.
Я остановился поразмыслить, как бы всех уважить, как пойти ко всем сразу, и тут меня схватил Мицос и надавал тумаков.
Больно не было. Пара шлепков по спине – не стоит и речи. Но достоинство мое было крепко задето, ведь я не очень хорошо еще был знаком с Мицосом, чтобы терпеть от него такие вольности в обращении со мной.
Я тоже разозлился. На всех. Не захотел пойти к голубоглазой англичаночке, хотя она и раскаялась теперь и звала меня к себе. Не нравятся мне люди, которые лезут ко мне без спроса, и я хотел ей показать это.
С поджатым хвостом я ушел от них и спустился в трюм, где набросился на мышей. Всех, кто попадался, всех передушил. Так я отомстил этой глупой девчонке, которая нашла повод для ненужной суеты.
Этой ночью мы остановились в каком-то порту. В суматохе подплывали лодки, раздавались крики, люди кто поднимался, кто сходил на берег, но моих хозяев видно не было. Один Мицос поднялся на палубу и завел разговор с лодочником, дедом Ла́мбросом. Он расспрашивал, нет ли новостей от некоего капитана Манолиса и от двоюродного брата Перикла, что проживал вместе с капитаном Манолисом.
Все хорошо у них в Ираклионе, отвечал дед Ламброс, у бабушки тоже хорошо, она посылает ему приветы – они ведь очень старенькие уже, а Перикл еще мал, потому и не смогли ночью приехать повидаться с моими хозяевами.
Разговор был неинтересный, я никого не знал из тех, кого упоминали, так что я просто глазел по сторонам и слушал разные речи вокруг себя.
Порт назывался Суда, а место – Крит. Это была родина моего хозяина. Крит это остров, то есть большой кусок суши, окруженный водой. Я, правда, не обегал его кругом, так что поручиться вам не могу. Предпочитаю говорить о том, что видел сам.
Мы отплыли еще до рассвета, а на следующее утро, на заре, увидели желтую полоску суши, по ней были разбросаны кучами огромные камни. Когда мы приблизились, я различил, что эта полоска – земля, а камни – дома и ветряные мельницы. Потом я увидел мачты и множество лодок, потом черные горы угля, белые горы мешков, желтые горы досок, все это громоздилось вдоль берега. Затем я различил людей, сновавших туда-сюда.
Но не увидел ни одного дерева.
Это была Александрия. Мы приплыли.
Однако не судьба мне было спокойно закончить мое путешествие.
Корабль причалил к пристани. К великому своему изумлению я увидел, как волна белесых одежд и черных голов ринулась по деревянному трапу и наводнила корабль.
Мне не доводилось еще видеть и слышать чернокожих людей. Впервые я увидел их в такой массе, они поднимались крича и переругиваясь.
На них были странные длинные рубахи, грязные и залатанные – у кого белые, у кого выцветшие синие или черные, назывались эти рубахи «галабеи». Чтобы рубахи не мешали им поспешно карабкаться, эти люди зажимали их зубами, приоткрывая широкие штаны-шаровары и длинные черные голые икры.
Знали бы вы, как, еще будучи щенком, я безгранично и неодолимо ненавидел голые икры. В первый раз я видел их столько, да еще и все черные. Мной овладела непередаваемая злость, и я начал нервно прыгать и гавкать.
В эту минуту один одноглазый, голоногий, подбежал к нам, отталкивая и убирая с дороги остальных. Он схватил чемодан Евы, саквояж господина Васиотакиса и наклонился подхватить еще другие свертки.
Чаша терпения переполнилась, это уже выходило за все границы!
С лаем я бросился на голые ноги мавра, тот издал крик и вскочил на скамейку. Я за ним. Хватаю его галабею, тяну, рычу. Что было потом – помню плохо. Послышался страшный грохот, я перекувыркнулся в воздухе и оказался на полу, среди чемоданов, в неразберихе рук и ног, которые сталкивались и боролись друг с другом. У меня начала кружиться голова, но галабею я из зубов не выпустил.
Вокруг меня оглушительно гремели голоса. Кто-то тянул меня, кто-то шлепал…
Внезапно мавр вырвался, оставив кусок ткани в моих зубах и помчался вниз по лестнице. Я бросился за ним. Я ловил его за голые ноги.
– Надевай обувь! Надевай обувь! – лаял я вне себя от ярости, снова хватая его за одежду.
В миг его галабея превратилась в лохмотья, как когда-то кружевной платок голубоглазки, а я уже подбирался к его широким штанам-шароварам.
А тот, с ужасом в единственном глазу, с поднятыми руками кричал на меня: «Африт! Африт!», что значит «Дьявол! Дьявол!» И он боялся меня схватить, этот здоровенный мужик, меня, такого, в общем, мелкого пса.
Шаровары его пострадали бы не меньше, чем галабея, если бы не подоспел Мицос. Он резко схватил меня за нос и заставил раскрыть пасть. Так он спас одноглазого мавра, и тот убежал.
Мицос схватил меня за ошейник и потащил назад. Он хлопнул меня пару раз по спине и привязал на поводок.
Его мать недовольно покачала головой.
– Ну что это за собака! Пожалуй, он дикий! Осторожно, Христо, а то и на тебя бросится, – сказала она какому-то юноше, что стоял, улыбаясь, рядом с ней.
– Да нет, не бойся, – отвечал юноша, – он меня знает, мы старые друзья. Правда, Скамб?
Я поднял на него глаза, но не понял. С кем он говорит? Смотрит на меня, однако я его совсем не узнаю.
– Он породистый пес, ты правильно его выбрал, Христо, – сказал Мицос. – Он принял носильщика за вора и бросился на него. Ты бы лучше порадовалась, мама, и успокоилась, ведь теперь у нас в доме будет хороший сторож.
Слова Мицоса настолько польстили мне, что я уже никого больше не слышал и даже не пошел за хозяином – он спустился на пристань с хозяйкой, Евой и незнакомцем Христо.
Все вместе они сели в красивый экипаж с кучером, одетым в белое и двумя здоровенными лошадьми, и уехали.
Я и представить себе не мог, что я породистый. Но так сказал Мицос, а он врать не будет, у него же усы, и вообще он красавчик.
Я позволил ему спустить и меня, раздутого от гордости, на пристань, посадить в другой экипаж с младшими братьями и сестрами и отвезти, куда те пожелают. Мицос держал меня на руках – что еще нужно для счастья?
Это был мой первый контакт с обществом. Тогда я не знал еще всей суеты и тщеты этого мира.
3. МОЙ ДРУГ БОББИ
Перед нами проносились одна за другой арабские улицы, узкие, извилистые, забитые грязью и людьми. Проезжая мимо, я замечал и какие-то переулки, еще более узкие и кривые, с низкими, черными от грязи засаленными дверьми, где на земле сидели арабы, играли арапчата, разгуливали куры; надутые голуби толклись невдалеке от голодных кошек, а те смотрели на них жадными глазами. Страстно хотелось оборвать поводок, выпрыгнуть из кареты, схватить за шкирку какую-нибудь кошку и трясти ее, пока та не испустит дух.
Вы ведь знаете, что мы, собаки, ненавидим кошек, как греки ненавидят болгар. По крайней мере так говорил Мицос, а он-то разбирается в этом деле. Если спросить грека, за что он ненавидит болгар, он ответит вам, что те его «извечные враги». Не совсем понимаю, что это значит, но представляю, что у болгар есть какой-то душок, который бесит греков, как кошки бесят нас.
Так размышлял я, когда увидел перед собой сад Васи́лиса.
Но расскажу вам обо всем по порядку.
Итак, мы проезжали по улицам и переулкам с ветхими домишками и арабскими лавками – «бараками», где пол был ниже мостовой, где сидели, скрестив ноги люди в тюрбанах и фесках, в полосатых галабеях, желтых, пепельных или баклажановых, и продавали ткани, тапки, ковры или золотые украшения. На улочках торговцы толкали перед собой тележки, нагруженные халвой, красными и белыми сладостями – они были черны от мух. Другие, сидя на земле на корточках, жарили в масле какие-то желтые котлетки – от них разносился подгорелый запах по всей округе. Поодаль, девчушка в красной галабее, с платком, замотанным вокруг головы (когда-то белым) перекладывала из корзинки на землю и с земли в корзинку какие-то полые неказистые лепешки, которые арабы едят вместо булок. Порой на обочине какая-нибудь арабка, сидя на земле, продавала нараспев финики или виноград на лотках, гудящих от мух. Среди уличной грязи играли и галдели арапчата. Завидев экипаж, они бросались вперед, зажав зубами свои разноцветные галабеи, и, мелькая черными телами, плясали и прыгали перед лошадьми: мы чудом никого не раздавили.
Все это меня сильно раздражало, тем более, что никто из них не носил ни обуви, ни носков. Но Мицос крепко держал меня за ошейник, и только лаем я мог выразить свой гнев.
Вскоре мы выехали из переулочков и поехали по улицам пошире и почище, с большими домами, роскошными магазинами, где, к моей радости, я снова увидел прохожих в шляпах и в обуви.
Дальше, за магазинами, стояли квадратные дома с жалюзи, окруженные палисадниками и садами – казалось они спали с закрытыми, как глаза, ставнями. Черепичных, как у нас, крыш не было ни на одном доме.
Мы въехали в один из таких садов, там была зелень, трава и большие, раскидистые деревья, что немного напомнило мне прохладу Кифисьи.
Тут Мицос спустил меня с поводка и дал свободно побегать, где хочется.
Перед мраморной лестницей, что вела ко входу в дом, стоял экипаж, в котором приехали господин Васиотакис с дамами. Экипаж был запряжен двумя красивыми лошадьми гнедой масти, взмокшими от пота и разгоряченными с дороги.
Правая, увидев меня, подмигнула и сказала:
– Привет тебе, земляк! С каких пор ты на византийской службе?
– Что? – спросил я.
Но в эту минуту кучер, весь в белом, в белых перчатках, дернул их за уздечки, и лошади тронулись с места. Они обошли по кругу сад и остановились у другого края, перед конюшней.
Я помчался за ними и подоспел к тому времени, как кучер спрыгнул на землю, и двое арабов-конюхов, которых называют тут коневодами, приняли лошадей, окатили их водой и отстегнули поводья.
Я подбежал к правой лошади.
– Что ты там говорил? – спросил я.
– Да хотел узнать, откуда ты, земляк, оказался тут на византийской службе.
Левая лошадь, симпатичная кобыла, встряхнула головой и высказала своему товарищу с ноткой презрения:
– И охота тебе, Бобби, в такую жару языком трепать? Не видишь разве, он еще щенок, и не понимает о чем ты толкуешь.
Ее колкость меня сильно задела.
– Лучше щенок, чем прокисшая старая дева, – ответил я.
Она издала насмешливое ржание и пошла за коневодом, который отвел ее в стойло, чтобы пообсушить.
– Старая дева-двухлетка! – сказала она. – А уже прокисла! Бррр.
– Не обращай внимания на Дейзи, – добродушно сказал Бобби. – Она не злая, это просто жара на нее так действует. Видишь ли, мы, англичане, сильно страдаем от жары.
– Ух ты! – вырвалось у меня. – Вы англичане?
– Конечно. Как и ты.
– Я?
– Полно тебе, разве ты не знаешь? Ты фокстерьер, а фокстерьеры всегда англичане. Поэтому я и спросил тебя, с каких пор ты на византийской службе.
Эта шутка мне совсем не понравилась. Мицос был греком, Лукас и близнецы тоже. Я слышал от них это столько раз когда их флажки с голубыми полосками трепетали на ветру. Они втыкали флажок и в мою конуру, и она становилась то фортом Куги с Самуилом, то Приютом в Гравии, а порой и Воротами Св. Романа.* Мне вовсе не хотелось быть кем-то отличным от них, я так и сказал об этом Бобби.
Тот рассмеялся.
– Что поделать? Хочешь-не хочешь, но ты англичанин, – сказал он. – Англичанином родился, англичанином и помрешь.
Эти слова меня очень огорчили. Я опустил уши и голову и поплелся к дому, куда, как я видел, заходили мои хозяева.
Внезапно меня посетила блестящая идея и я помчался назад к конюшне. Двое коневодов вытирали Бобби толстыми кусками фланели, чтобы обсушить его.
– Бобби, – крикнул я ему, – а где ты родился?
– Не знаю, дружок, – ответил он, – но думаю, что на конюшне, там купил меня хозяин.
– А… – растеряно выдал я.
Этот ответ меня совсем не просветил. Но тут мне пришла еще одна идея.
– Но друг мой, тогда ты араб! – крикнул я ему. – Ведь эта конюшня на аравийской земле.
– Нет, дружок, – ответил Бобби, – как хозяин мог купить меня в его же собственной конюшне? Меня выкупили из конюшни моего первого хозяина, одного лорда, и привезли меня сюда на корабле. Меня поднимали и снова опускали в большом деревянном ящике, на канатах, с лебедками, с криками, была такая суматоха…
– А… – вырвалось у меня снова.
Все это было немыслимо для меня. Ящики, лебедки, канаты – и это так путешествуют лошади? Я вот сам поднялся на корабль, без всякой суматохи и криков. Но промолчал об этом. Поразмышлял. И спросил его:
– А где жил твой хозяин-лорд?
– Не знаю…
– Может, в Кифисье? – спросил я, чтобы подвести его к нужному мне выводу.
– Почем мне знать? Слово «Кифисья» я слышал часто, но не знаю, где это.
Ох, как жаль, что лошади такие невежды, сказал я про себя. Говорит, что англичанин, а не знает, где родился. И я спросил его опять:
– А на каком языке говорили на твоей конюшне?
– На английском. Мне говорили «найз бой» и «файн троттер», что значит «хороший мальчик» и «отличный рысак»…
– Значит, ты родился на английской земле, – перебил я его с восторгом, – и правильно говоришь, что ты англичанин. А я родился в Кифисье, где говорили по-гречески, так что я грек. Видишь теперь, что мы не совсем земляки.
Меня переполняла радость. Мой вывод казался мне яснее ясного, и я часто-часто завилял хвостом. Но Бобби, однако, остался в сомнениях.
– Но кем были твои отец и мать? – спросил он.
– Не знаю. Я их не видел.
Бобби смотрел на меня все более задумчиво.
– Думаю, важно, кто твои родители, греки или англичане, а язык, на котором говорят на твоей конюшне не имеет значения, – сказал он. – Я знаю, что Дейзи, когда хочет похвастаться, говорит, что ее мать…
– Ох, братец, оставь Дейзи в покое! – сказал я раздраженно. – Я тебе толкую, что я на самом деле грек.
Я задрал хвост и вышел из конюшни.
Должно быть лошади действительно тупые, сказал я про себя.
Но Бобби был добр ко мне, и отнесся по-дружески, так что я устыдился своих мыслей и снова вернулся в конюшню с целью сказать ему доброе слово.
Бобби все еще стоял в задумчивости.
Увидев меня, он опустил голову, окинул добрым взглядом и сказал:
– Знаешь что?.. Осмелюсь сказать, то, что делает тебя греком или англичанином это твое имя. Как тебя зовут?
– Буян. По-гречески будет – Магас.
– Тогда ты грек. А меня зовут Бобби, так что я англичанин. И Дейзи англичанка. Такова правда жизни.
Конечно, так оно и было.
От радости я лизнул Бобби в нос и убежал вприпрыжку.
Все-таки некоторые лошади не совсем уж тупые, сказал я про себя.
4. ДОМОХОЗЯЙКА С ХИОСА
Я помчал в сторону дома чтобы отыскать своего Лукасика. На зеленой лужайке, что расстилалась перед домом, торчала лейка, она поворачивалась вокруг себя и разбрызгивала воду. Стояла невыносимая жара, трава же отдавала приятной прохладой.
Я забежал под струйки воды, повалялся на травке, покувыркался, отряхнулся и, освеженный, побежал к дому.
Парадный вход был закрыт. Я обошел вокруг дома, наткнулся на веранду, забрался на нее и прошел в широкую стеклянную дверь – она была открыта нараспашку, а оттуда вошел в гостиную.
Стол был накрыт, но в комнате никого не было.
Внезапно я услышал голос Лукаса и смех Ани, самой резвой из двух близняшек.
Вне себя от радости, я побежал на голоса и оказался в огромном мраморном зале: тут и там были разбросаны ковры, по углам стояли кадки с растениями, а на столах и пристенных столиках – цветы.
В глубине, вокруг стола, уставленного стаканами и рюмками, расположилась вся семья, вместе с незнакомцем Христо.
Было очень красиво и к тому же прохладно, и я остановился, чтобы сориентироваться и убедиться, что я нахожусь в доме, а не в саду – так много было повсюду цветов.
На моей спине осталась вода и она меня несколько раздражала. Я снова встряхнулся и повалился на ковер, чтобы просушиться.
Но в это же время в глубине зала раздались голоса, их все перекрывал голос госпожи Васиотаки. Застигнутый врасплох, я вскочил на лапы.
– Вон, вон! Уберите его вон, эту пакость! Пропали наши ковры!
Из дома пропали ковры? Какой же наглец посмел их тронуть, когда я здесь?!
Я вспомнил хвалебные слова Мицоса о моей чистопородности и стал возбужденно подпрыгивать от желания сделать что-нибудь хорошее.
– Вон! Вон уберите его! – вопила разгневанная хозяйка, хлопая руками в мою сторону.
Я бросился вперед на помощь, гавкая, чтобы выразить свою преданность.
Кто же был злодей? А вот Христо, иностранец, улыбается там тихо в своем кресле.
Конечно же это он злоумышлял насчет наших прекрасных ковриков. Поэтому я ринулся к нему.
Но едва я сделал шаг, как госпожа Васиотаки поднялась с места.
– Йоргос, ради бога, уведи его прочь, эту пакость! – крикнула она своему мужу. – Погляди-ка только! Что это такое?!
Что-то мокрое натекло мне в глаз, мешая видеть. Я склонился над ковром, обтер липкую грязь и, снова свободный, с лаем бросился на гадкого Христо.
Но тот, вместо того, чтобы вскочить, протянул руку и позвал меня.
– Ко мне, ко мне, спокойно, – тихо сказал он.
Госпожа Васиотаки теперь была вне себя от ярости.
– Грязь! – крикнула она. – Грязь на белом коврике! Вон, вон, Буян! Уберите его прочь!
– Не волнуйся, Марина, душечка! – доброжелательно сказал мой хозяин. – Пусть хоть разок твои ковры испачкаются, так, для разнообразия…
– Йоргос, что ты говоришь такое!.. Да где это видано?! Теперь у нас еще и собаки в гостиной будут?! Мицос, Христо, ты, Ева, что вы там сидите и хохочете, уберите его вон, выгоните эту пакость…
Я снова подбежал к Христо и встал у его ног, виляя хвостом, уши навострил – старался понять, о чем речь.
То, что моя хозяйка сердилась на меня, я уже почувствовал. Но из-за чего, спрашивается?
Ковры все были на своих местах. Что я ей сделал? А та, все больше раздражаясь, говорила своему сыну:
– Мицос, ну пожалуйста, серьезно, убери его за дверь!
Мицос встал и взял меня за ошейник.
– Несчастный, грязненький, глупый Буян! – сказал он, похлопав меня по спине. – Чего ты хочешь от домохозяйки с Хиоса!*
– Держи его крепче, – сказала госпожа Васиотаки, нажимая на колокольчик. – Сейчас придет Сотирис и заберет его. Ну и ну! Погляди-ка, сколько грязи он занес в дом! Сотирис, прикажи слугам, все равно они там бездельничают, пусть уберут собаку и немедленно отдадут ее Али, пусть ее вымоют и привяжут на конюшне…
– Ну уж нет, душечка, – возразил господин Васиотакис. – Пусть пес получше узнает дом, иначе как он будет его охранять?
– Ничего не хочу слышать! – крикнула хозяйка. – Пусть его сначала вымоют, пусть вычистят, а потом посмотрим. Уведи его, Сотирис, и сходи за шваброй и ведром с водой, убери эту грязь отсюда…
Пока меня нес Сотирис, я печально обозревал с высоты черные следы на белом ворсе ковров. Вот в чем была вся причина, теперь я понял. Это были мои собственные следы, но настолько незаметные и незначительные, что, право же, не стоило госпоже Васиотаки так расстраиваться и называть меня пакостью, причем трижды!
Какое разочарование для меня! Я считал, что я чистоплотен и хорошо воспитан. Ведь я слышал много раз, как Сотирис и садовники говорили в Кифисье, какой я, дескать, благовоспитанный, никогда не… Не то, что другие собаки, которые забывают, что они находятся в доме.
И каково мне теперь было слышать такие слова от своей хозяйки…
Бедняга! Я не знал, что значит «домохозяйка с Хиоса». И не представлял, что такое чистота как на Хиосе.
Снаружи, на подсобной лестнице, нам повстречалась миловидная девушка с белым вышитым передником и с расшитом платочком на голове. Увидев нас, она рассмеялась.
И правда, представляю, как нелепо я выглядел, когда Сотирис нес меня за шкирку, а мои четыре грязные и мокрые лапы болтались, как палки.
– Нате вам, пожалуйста! Еще и собаки в гостиной! – хмуро сказал Сотирис. – Только этого нам не хватало. Забери его, Маригó, ради бога, передай Али, пусть он его вымоет и приведет обратно. Хозяин просил.
– А как насчет хозяйки? – спросила Мариго сквозь смех.
– А что она может поделать, если хозяин так решил? Давай-ка мы с тобой вычистим эту собачью грязь. Ты бери собаку, а я пойду в дом почищу ковры!
Мариго забрала меня и повела на кухню.
Я пошел. Но мое достоинство было сильно задето, потому что Сотирис говорил обо мне как о ком-то невоспитанном.
Позор на мое доброе имя, что заслужил я в Кифисье!
Я начал осознавать, что чем старше становишься, учишься чему-то, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь в этой жизни.
Теперь я понял, что грязь это плохо. Я раньше и представить себе этого не мог! Там, в Кифисье, на траве, среди зелени и роз, под соснами, где я любил шнырять, всегда была грязь, когда шел дождь, или когда поливал садовник. Но я никогда не видел, чтобы кто-то смывал ее с земли, чтобы кто-то приносил швабру и тер по траве, чтобы ее помыть. Она и так была чистой, и зеленой, и красивой, и гораздо прохладней ковров моей хозяйки, со всей их грязью, да простит меня госпожа Васиотаки. Так что же я плохого сделал? За что меня выгнали вон? И почему меня трижды назвали пакостью?..
С этими грустными мыслями брел я за Мариго, а она тащила меня за ошейник.
И мы зашли на кухню.
5. БЕССЛАВНАЯ ОХОТА
Кухня, большая, просторная, вымощенная плиткой и наполненная светом, сияла чистотой. Бесчисленные ряды медных сверкающих кастрюль красовались рядами на полках, одна блестящей другой, от большой до самой маленькой – как солдаты на параде.
Повар, повариха-помощница, официант, горничные, арабы и христиане, жили все вместе как братья, работали, беседовали, иногда ссорились; все в чистом, подтянутые, с живыми веселыми лицами, так что отрадно было на них посмотреть.
Рядом с мраморным столом сидел араб средних лет, высокий, тощий, одетый в длинную черную галабею, блестящую, словно шелк. С облегчением я заметил, что на нем были носки и красные туфли, которые по-арабски называются «бабуши».
У него был только один глаз. Мне стало его жаль. С самого начала у меня замирало сердце, когда я видел арабов-феллахов, как здесь называют местных, с одним глазом. Но вскоре привык. В Египте было столько одноглазых, что это уже воспринималось естественным.*
Мариго подвела меня прямо к этому арабу и попросила его меня сполоснуть.
Он бросил на меня взгляд своего единственного глаза, но остался сидеть.
Видя, что он отнесся ко мне безразлично, я подумал было, что избегну мойки, и снова воспрял духом. Я стал бродить туда-сюда по поварской, принюхивался к ящикам, совал нос в большие мешки и время от времени облизывал какие-то горшки, из которых пахло едой.
До тех пор, пока меня не заметил повар – пузатый, в колпаке и в большом белом фартуке, закрывающим грудь и живот.
– А ну-ка вон отсюда, быстро! – завопил он и побежал ко мне, громко топая ногами.
Так страшно было! Я подумал, что мне приходит конец, и забился под стул.
– Собака не виновата, кир Танасий, – сказала Мариго и остановила повара: тот собирался уже дать мне пинка. – Собака ни при чем. Это все Али, не забрал ее помыть, как было велено.
Милая, добрая Мариго!..
И в этот миг я решил стать ее лучшим другом.
– Не надо мне тут собак на кухне! – закричал повар. – Сожрет еще что-нибудь, беды не оберешься. Пошел, давай! На улицу!
Мариго дернула Али за фартук.
– Эй, Али, не слышишь что ли? – крикнула она арабу. – Я сказала тебе, что хозяин просил вымыть собаку и привести назад, и быстро!
С восточной леностью Али поднялся и, шаркая ногами, с важным видом вышел из кухни.
Я посмотрел ему вслед, но большого желания идти за ним у меня не было.
А чего вы хотите! Помывка – это когда тебе дерут шерсть жесткой щеткой, когда мыло и в глазах, и в пасти, когда в ноздри твои льются потоки воды. К такому не привыкнешь. И я ее больше всего ненавидел.
И я улизнул от ничего не подозревающего Али.
Но горе мне! Тут-то меня и поджидал повар! Едва я вышел из-под стула и приблизился к краю открытой печи, где с противня распространялся аппетитный запах жареного, я внезапно услыхал грохот десяти громов сразу. И какой-то неведомый мне железный демон набросился на меня сверху и укусил за ноги.
Ой-ой, как больно! Я завизжал и бросился бежать!
Лучше уж мыло Али, или даже хлыстик хозяина, чем гром и молния от разгневанного кира Танасия.
Дверь в сад была открыта.
Одним прыжком я оказался за ней.
С философской безмятежностью в саду меня поджидал Али. Как только он увидел меня, то неспеша повернул на конюшню и присвистнул, чтобы я шел за ним.
Когда мы пришли, он снял свою прекрасную галабею, закатал белые рукава, которые выступали из-под желтой полосатой жилетки, принес воды, мыло и щетку, и начались мои мучения.
У Али, похоже, был опыт обращения с собаками, к тому же он хорошо усвоил указания моих хозяев.
Не буду описывать вам страдания, что испытал я в его натруженных руках: неоднократные намыливания, немеряное количество воды, неоднократное наполнение ведер. Ох уж эти мелкие ежедневные неприятности, без которых никому в жизни не обойтись.
В конце концов, вымытого, вычищенного, на руках, как драгоценный экспонат, чтобы я не дай бог не наступил на землю и не запачкал снова лап, Али отнес меня на веранду и высадил у двери гостиной.
Вся семья сидела за столом.
Первым меня увидел незнакомец Христо, он сидел рядом с моей хозяйкой. Он крикнул:
– Ко мне, ко мне, Скамб!
– Почему ты все зовешь его Скамбом? – спросила Ева. – Тебе ведь Мицос сказал, что его зовут Буян. По-гречески он будет «Магас», что значит «крутой чувак», но мы решили, что «Буян» будет лучше.
– А с какой стати Буян, если это я вам его подарил, и сказал, что его зовут Скамб? – ответствовал Христо.
– Я же сказала. Потому что «Скамб» это по-английски, а мы греки, даже византийцы. Было бы смешно, если бы в византийском доме у собаки была бы английская кличка.
– Какая разница? – сказал Христо. – Твои речи попахивают местечковостью.
– Лучше местечковость, чем преклонение перед иностранным, – отрезала Ева.
– Ева, – строго оборвала ее мать.
Мне показалось, что Христо обиделся. Ева примолкла.
Я стоял с поднятой лапой, не решаясь, к кому пойти.
– Ко мне, Буян, – приказал Мицос.
И когда я охотно подошел, он потянул меня за ухо и сказал с необычной серьезностью:
– Слушай свою хозяйку Еву. Это она назвала тебя Буяном, когда ты еще был щенком. Буяном тебе и помереть.
Мне понравилось решение Мицоса, и я зарыл свой нос в его руках.
Лукас, что сидел рядом с братом обрадовался и обнял меня.
– Молодец, Буян! Как я люблю тебя!
Но тут же поспешно сел назад на свое место, покраснел и смутился.
– Лукас! – строго сказала ему мама. – Ты забываешь, что мы за столом!
– Не ругай его, мама, – вмешался Мицос. – Это я виноват, что позвал Буяна.
– Конечно, это ты виноват, – сказала госпожа Васиотаки. И успокоившись, добавила со смехом:
– Ему сказала, тебя подразумевала.
Обед закончился. Господа запалили свои сигары, а близнецы вскочили и подозвали меня к себе. Я вскочил на спину Лизы, когда та наклонилась поднять упавшую салфетку, и повалил ее на пол. Малышка засмеялась, и я осмелился еще раз запрыгнуть на нее, пока она собиралась встать.
Аня тоже захотела участвовать, она побежала меня ловить, споткнулась о сестру, упала, и мы все вместе растянулись на полу.
Началась чудесная игра.
Но госпоже Васиотаки это не понравилось.
– Лиза, Аня, поднимитесь обе, запачкаете платья о ковры…
Вот и не права была хозяйка! Ей бы следовало знать, что в ее хиосском домохозяйстве платье могло испачкать ковер, но ковер никак не мог испачкать платье.
И чтобы ей это доказать, я бросился на Аню и снова повалил ее на пол.
Однако, госпожа Васиотаки разозлилась.
– Аня, быстро поднимись и привяжи собаку. Но Анюта не успела. Как молния вырвался я из ее рук и помчался к двери на веранду, где за спиной хозяина краем глаза заметил промелькнувшую кошачью тень.
Шерсть на мне встала дыбом! Я издал лай, обогнул диван и бросился на веранду.
Но какая же катастрофа ожидала меня!
Половинка двери была закрыта, а я в ярости не заметил этого!
Послышался ужасный грохот, и я с недоумением ощутил, как мне на спину и вокруг меня сыплется дождь из стекла.
Но где там было меня остановить! Напуганная кошка же сейчас убежит! На раз-два я перепрыгиваю через балюстраду и приземляюсь прямо в цветнике из шипастых роз. Однако ничего я не чуял, ни боли, ни голосов позади. Единственная мыслью моей было, что кошка сбежала, а я принижен и опозорен!
Не спуская с нее глаз, я видел, как она, обезумев от страха, неслась к дереву рядом с садовой оградой. Меня обуяло бешенство, я знал, что если она добежит до дерева вперед меня, то все, ушла. И она добежала!
Своими острыми когтями она впилась в ствол и вскарабкалась наверх, а там уцепилась за ветку и крикнула мне с фырканьем и шипением:
– Маньяк! Что же ты не пробуешь залезть? Давай, залезай, я тебе все глаза выцарапаю!
В ярости я метался, прыгал, заливался лаем, пытался напугать ее и заставить спуститься.
И напугал. Она спрыгнула на землю по ту сторону забора! Бесчестная, она покинула поле битвы и отказалась принять вызов. Дала деру, как заяц.
Сгорая от бешенства, я бросился между прутьями решетки.
Сквозь железные прутья вился колючий плющ. Его густые стебли невольно стали кошачьими союзниками, они сжали меня и вонзили мне в бока свои шипы.
Я не мог сдвинуться ни вперед, ни назад. А на стене напротив – трагическая ирония! – по другую сторону улицы, свернулась калачиком кошка: видя мою неудачу, она рассмеялась!
Мне хотелось придушить ее! Я попытался протиснуться и расцарапал бок. Из меня вырвался вопль, грозящий плющу страшной местью.
Кошка перепугалась и спрыгнула в соседский сад, где и скрылась среди цветов.
Эх! Горе, позор и боль! Я застрял и не могу ей отомстить.
– Ну, погоди! – крикнул я ей. – Не волнуйся, я найду тебя, вертихвостка! Однажды мне повстречается твоя рыженькая мордочка, я узнаю тебя, где бы ты ни была. И тогда уж моя придет очередь смеяться…
За моей спиной послышались шаги и чьи-то речи. Я различил голос Мицоса.
– Раздвинь эти ветки, Христо, а я попробую его вытащить, – говорил он.
И они меня вытащили. Но в каком жутком виде! Кровь и боль это ерунда, но куда деваться от позора, ужасного позора, ведь кошка сбежала от меня. Я был готов укусить самого себя со злости.
Мои хозяева, напротив, были счастливы.
– Вот это пес, да? Выдающийся!
Из ограды я выдавался, это спору нет.
Даже госпожа Васиотаки меня погладила, когда я забрался на веранду.
– Храбрая собачка, – сказала она. – Но глупая. Разбила стеклянную дверь.
Лукас был сильно взволнован.
– Не ругай его, мама, – сказал он. – Посмотри, он весь изодран до крови. Скажи, что он молодец.
– Молодец, да, – ответила она. – Но если бы он оставался в саду, не было бы с ним такой беды. Какое огромное дверное стекло пропало… Говорю вам, собаки не для гостиных.
В этот раз слова хозяйки не задели меня. Мой дух был так унижен, позор был настолько силен, что никакие слова уже не годились мне для наказания. Я бы хотел, чтобы хозяева задали мне настоящего перцу за неуклюжесть – кошку не смог поймать!
6. НАШ ДОМ
До конца недели я изучил все уголки дома и подружился со всеми, даже с поваром киром Танасием.
Вначале наши отношения не ладились. Не потому что он был плохим человеком. Дело в другом. Когда он встречал меня в саду, он всегда проявлял ко мне дружелюбие, а иногда даже давал какую-нибудь кость. Но горе мне, если я шагну за порог кухни, когда он тоже там!
Кастрюли, миски, ложки, стулья, щипцы словно сговаривались на убийство. Едва завидев меня, с полок, со столов, из углов – вся утварь неслась со свистом по воздуху в одну точку – в мою несчастную голову.
Я заключил, что на кухне нет места нам двоим одномоментно. Или я, или он.
И поскольку все эти разборки задевали мою честь, я решил не ступать в поварское королевство в его присутствии. И раз он был ангелом в саду и чертом на кухне, то я, как послушный пес, взял привычку встречаться с ним только в его ангельской ипостаси, то есть в саду.
Все остальные на кухне меня терпели и привечали. Кера Мария, повариха, совала мне то кусочек мяса, то косточку. Милая Мариго́, мой друг Сотирис, кучер-англичанин, помощник кучера грек, портниха Евангелия, гладильщица кера Ри́ни, со всеми я был в друзьях, и все хорошо ко мне относились.
Особенно глубокую любовь я испытывал к садовнику Василису.
Василис был добрым и спокойным человеком – седой, с карими глазами под тенью черных бровей.
Весь день он работал в саду и почитал за честь выращивать лучшие цветы и самые отборные овощи во всей Александрии. Говорил он мягко, немногословно, был очень добр и терпелив с двумя своими помощниками-арабами. Общества же избегал. Остальные слуги, хоть и уважали его, называли его «нелюдимым» и «угрюмым».
Однако никто не слыхал от него резкого слова.
Так что без лишних разговоров его просто оставили в покое.
Я сразу сильно полюбил его.
Множество раз, сидя на каком-нибудь перевернутом горшке он молча гладил меня и тихонечко теребил мои уши, глядя перед собой глазами полными печали и дум.
Другие задавались вопросами. Я – никогда. Я знал, что он в глубокой печали. Я чувствовал ее и любил ее, хотя и ничего о ней и не знал. Свернувшись у его ног, я позволял себя гладить. Так проходило время.
Люди считают нас, животных, тупыми и несмышлеными. Да, речь нам недоступна, но зато мы интуитивно чувствуем настроение того, кого любим, и гораздо лучше, чем те же люди. Мы знаем что такое печаль и различаем ее. И когда мы зарываемся носом в чьи-то руки и заглядываем в глаза – мы говорим этим: «Я знаю, я чувствую, что тебе грустно на душе. И поэтому я люблю тебя в два раза сильнее, я, твой безмолвный друг».
Как-то господин Васиотакис сказал про Василиса:
– Думаю, у этого человека какая-то скрытая драма в жизни. Кто знает, какие бури забросили его сюда, в Египет, в наш дом, где он честно трудится и зарабатывает себе на жизнь…
Василис был странным человеком, не похожим на остальных слуг.
Днем он прилежно работал в саду. Но вечером, когда темнело, он удалялся в свой домик на краю сада, зажигал лампу и часами не отрывался от книг. Порой в его единственном окне горел свет, когда все остальные окна уже были погашены.
У Василиса имелся и свой враг. Это был молочник-болгарин.
Я никогда не видел, как они ругались. Но стоило подъехать повозке, полной кувшинов с молоком, откуда спрыгивал на землю светловолосый, плосколицый молочник, Василис мрачнел, сжимал челюсти, удалялся, закрывался в своей комнате и не появлялся, пока повозка не уедет и не умолкнет вдали звук колокольчика, подвешенного к лошадиной шее.
С хозяевами у меня было все замечательно. Все меня любили.
Но сам я делал между ними различия.
К примеру, я любил своего хозяина, но держался подальше от хозяйки. Сходил с ума по Мицосу, но не по Христо. Хотя и на Христо я не мог пожаловаться, разве что он все время говорил со мной на английском и продолжал называть меня Скамбом.
Христо был приятелем господина Васиотакиса, порядком моложе него, а еще он оказался двоюродным братом моей хозяйки. Во всем нем сквозило английское. Говорил он сквозь зубы, с иностранным акцентом. Смеялся и ступал, как англичанин, избегал рукопожатий и держал себя немного надменно. По его словам, он вырос в Англии и там же обучался, его восхищало все английское и только английское. Весьма недурен собой, высокий, худощавый, всегда хорошо одетый и вежливый, он был все-таки суховат. И животных он любил как-то слишком напоказ.
Его семья жила в Англии. Поселившись в Александрии, он часто захаживал в наш дом. Мои хозяева любили его как члена своей семьи.
Совсем из другого теста был Мицос, парень двадцати лет, с душой нараспашку, простой, жизнелюбивый, он все время улыбался, насвистывал или напевал.
Как только я видел его, то бежал к нему, где бы он ни был, бросался к нему играть, не принимая в расчет, в чем он одет, нет ли грязи или пыли на моих лапах.
С Евой было иначе. Как только я видел ее, пятнадцатилетнюю девочку, первой моей мыслью бывало тут же подбежать к ней. Но я всегда останавливался на полпути. Если мне случалось подойти к ней поближе, и у меня было хоть немного грязи на лапах, она сразу останавливалась, отступала с пути, закрывала руками свои юбки и строгим тоном говорила мне:
– Сидеть, Буян, сидеть!
Почему сидеть, ведь я еще не «вставал»? Как же бесила меня эта девчонка.
И все же, как ни крути хвостом, я любил ее, как и Василиса. Мне нравилась ее гибкая стать, ее строгий стиль, ее каштановые волосы, ее легкая походка. И когда она забывала, что ей пятнадцать, и носилась с младшими братьями и сестрами, за ней было никому не угнаться.
Порой, умытый и чистый, я без приглашения входил в дом, заставал ее читающей или шьющей и с удовольствием сворачивался калачиком у ее ног. И она никогда меня не отгоняла. Само собой, она частенько гладила меня и слегка почесывала меня кончиками пальцев. Мне нравилась ее ласка, пусть и немного машинальная.
Однако игр с ней я никогда не затевал. И горе мне, если я зайду на кухню, когда она месит тесто для кренделей или складывает слоями пахлаву! Мой визит закончился бы так же ужасно, как и с киром Танасием, если бы я навлек на себя его гнев.
А с младшими, с любимым моим Лукасом, с задирой Аней и ее бледной тенью Лизой был сплошной праздник.
Но, к сожалению, у них были уроки!
Что за напасть такая? Дети по всему свету проводят свои прекраснейшие дни склоненные за столом, тыкают в бумагу какой-то палочкой с железным наконечником, которую называют перьевой ручкой, и скрипят ей, или читают какие-то испещренные непонятными значками листы, которые они называют книгами!
И это в то время, когда сияет солнце, и лилии, жасмин и нарциссы источают свои ароматы; в то время, когда в полуденную жару ты залезаешь в садовую ванну или растягиваешься в тени какого-нибудь большого дерева под шепот ветерка, дети «учатся», их глаза прикованы к черным значкам в книжках, уши заткнуты пальцами, чтобы случайно не услышать щебетание воробьев или лая какого-нибудь Буяна, который зовет их выйти попрыгать и поразмяться!
Несчастные детеныши человеков!
Учителя и учительницы, мисс и мадемуазели сменяли в классной комнате друг друга весь день, и дверь в эти часы для меня была закрыта.
Все это мне очень не нравилось. Но больше всего не нравилась мне одна мадемуазель, которая однажды принесла с собой котенка, и я получил тумака, потому что попытался его придушить. И это был такой смешной котенок, крошка, с розовым бантиком на шее!
С того самого дня, как только меня замечала эта пухлая мадемуазель, она издавала пронзительный вопль, прикидывалась испуганной, и любой, кто бы там ни был, поспешно ловил меня и вышвыривал вон.
Мисс я тоже не любил, не только за то, что она была тощей, как жердь и у нее были большие торчащие зубы, но и за то, что у нее, как и у мадемуазели, был чужой запах.
Пусть вам это не покажется странным. Так уж мы, собаки, устроены. Нам нравится запах дома. По запаху мы узнаем свой дом, хозяев, и никогда не кусаем их. Не то иностранцы, они раздражают нас своим запахом, и мы пугаем их своими клыками.
Поэтому вы можете подметить, что изредка мы рычим и на домашних родственников, когда те приходят с улицы. Как будто впервые их видя, мы обнюхиваем их пару раз и только тогда понимаем по запаху, что они из родни наших хозяев.
Но это не обязывает нас любить всех родственников. Доказательство – Врасид.
У госпожи Васиотаки была сестра, госпожа Сардели́ди. Ее муж был адвокат, он жил неподалеку от нас. То и дело вся их семья без приглашения заваливалась к нам. Госпожа Сарделиди была ничем не примечательная тетенька, не злая, но и не особо добрая, в целом без огонька, ни рыба, ни мясо. Она была их тех существ, что вроде живут, а вроде и не живут, все едино.
Однако, ее муж и сын возмещали ее «никаковость» за десятерых, каждый!
Более неприятного человека, чем господин Сардели́дис я не встречал. Он был длинным-предлинным и тощим, с большим крючковатым носом, с выступающими зубами в золотых коронках, искавшими, будто, кого бы куснуть. Свои три оставшиеся волосинки он отращивал такой длины, чтобы они, как арка, пересекали его лысину и прилеплялись к противоположной стороне. Крикун, балабон, склочник, зануда, он слова не мог сказать, чтобы не прибавить к нему пару вычурных эпитетов. Все на свете знал. И навязывал каждому свое мнение.
Его звали Амбрузис. Но имя это не казалось ему достаточно благородным. Так что волею его жена на людях называла его «Амвросио».
Сын их получился удачной копией отца, только толстый, рыхлый, в вечно запачканной одежде и с немытыми руками.
Это и был Врасид.
Никто не любил его в нашем доме, но все вынуждены были терпеть его ради госпожи Васиотаки – та сильно любила свою сестру.
Вот какой доброй была госпожа Васиотаки. Она любила всех и привечала всех, кто входит в дом. Даже невыносимого сиора Амбрузиса она терпеливо сносила, чуть ли не с любовью.
Ни капли свой благосклонности не теряла она никогда, особенно по отношению к мужу.
Однако зачастую сиор Амбрузис испытывал ее стойкость.
Меня она доброжелательно терпела. Зная, как сильно хозяин любит животных, она позволяла мне заходить в дом, особо не жалуясь, главное, чтобы я был чистым. Однако она пересиливала себя – ей всегда претило все, что хоть на самую малость нарушало порядок в ее домохозяйстве.
Сиор Амбрузис знал об этом и все время старался посеять между нами семена раздора.
– Своячница Марина, – говорил он ей, – как ты терпишь собак в своем жилище, ты же добропорядочная, опрятная домохозяйка? Неужели ты не боишься тех вредоносных, опасных микробов, что таит его нечистая, вонючая пасть? Вдобавок, неисчислимые насекомые, коих он переносит в своей густой лохматой шерсти могут заселить твои ухоженные ковры.
– А что я могу поделать, Амбрузис, такова воля Йоргоса, – ответствовала госпожа Васиотаки с простодушной улыбкой. – Я уж ему говорила, но он и слушать не хочет.
– Будь я на твоем месте, я бы сказал ему… – начал было сиор Амбрузис.
И начал громоздить свои теории, известные и неизвестные, чтобы доказать, насколько пагубно для людей присутствие животных в доме.
Уфф! Как же я его ненавидел!
Дети тоже терпеть его не могли. То и дело он находил повод их отругать.
Если дети гуляли в саду, то едва завидев издалека его приближение, они разбегались и прятались. Горе им, если он успеет заметить на их передниках хоть пятнышко грязи!
А без грязи никогда не обходилось.
Для этого передники и надевают, как однажды разгневанно сказала Ева, когда сиор Амбрузис решил поднять в доме бучу.
Как-то раз Лиза заперлась со мной в вольере птичника чтобы пособирать яйца из гнезд. Аня рассердилась, она тоже хотела попасть в птичник, а ей пришлось остаться снаружи. Она в порыве дернула решетчатую дверцу, но не смогла ее открыть и со злости стала подбирать камешки и кидаться ими в Лизу из-за сетки.
Лиза, белокурая, с выцветшими на солнце волосами, слегка трусливая, безынициативная и безвольная, была полностью подчинена шатенке – порывистой и вспыльчивой Ане: та «держала ее у себя в кармане», но и яростно, страстно защищала ее каждый раз, случись кому-то тронуть ее сестру-близняшку.
– Открой мне, сейчас же открой мне! – кричала Аня, порывисто тряся дверью.
Лиза перепугалась, собрала яйца в фартук и попыталась ей отворить. Но из-за резких Аниных дерганий решетчатую дверь заклинило, и ее невозможно было не то что открыть, а просто сдвинуть с места. И ни Аня не могла войти, ни Лиза не могла выйти.
Что было делать сестрам? Кричать они не смели – госпожа Васиотаки запрещала им вмешиваться в сбор яиц. А Лукаса, их родного защитника, не было рядом.
Лиза, как всегда, пустилась в слезы. Но Аня так просто не сдавалась, она стала искать выход.
– Ты мелкая и тощая, – сказала она сестре. – Положи яйца обратно в гнезда и подлезь в дырку под стеной, откуда выходят куры.
Эта дырка, что у самой земли, была закрыта железной дверкой. Аня открыла ее, и я легко в нее пролез. Но Лиза в нее не пролезала.
Снова рев и отчаянье!
Рядом нашлась мотыга. Аня разрыла ей землю, достаточно, чтобы Лиза просунула голову и плечи. Аня потянула ее, Лиза оттолкнулась ногами и, наконец, вылезла.
Можете себе представить, в каком ужасном виде она была. Лицо, волосы, одежда, ноги – все в земле!
В таком виде мы выходили из курятника и тут же наткнулись на сиора Амбрузиса, который шел в дом.
Само собой, первым делом он поднял крик. Его услышала Ева – она сидела с книгой под тенистой перголой, и тут же побежала спасать сестер.
– Ладно, ладно, дядя, не кричите, все поправим, – сказала она ему, отряхивая грязь с одежды близнецов.
Но я видел, что лицо ее побледнело в предчувствии катастрофы.
Она отвязала им передники, скомкала их в сверток и повела сестер к задней двери дома.
– Глупышки несмышленые! – рассерженно шептала она. – Не могли меня позвать?..
У Лизы слезы текли ручьями по грязному лицу. Аня не плакала, но поутратила свой боевой дух и привычку командовать.
Мы зашли в подвал, там Ева сняла с близнецов верхнюю одежду, туфли и носки, подала знак кере Рине не причитать, а забрать запачканную одежду. В одних сорочках, с голыми ногами, она бегом подняла малышек наверх, на второй этаж, где были детские комнаты, и повела их прямиком в ванную.
Я сидел за дверью и ждал.
Но не прошло и пяти минут, как раздался сердитый голос госпожи Васиотаки:
– Аня, Лиза! Где вы? И следом тут же:
– Ева, Ева!
В ванной с шумом текла вода. Но чуткий Евин слух уловил крики матери. Красная от досады и ярости она вышла оттуда.
– Да, мама! – ответила она нарочито спокойным тоном.
– Пусть двое младших немедленно спускаются вниз.
– Но мама! Они немного запачкались, и я их отмываю. Я приведу их, как только их одену.
– А почему они запачкались? С чьего молчаливого согласия они пошли в курятник? Быстрее спускайтесь! – приказал сердитый голос госпожи Васиотаки.
– Да, мама, сейчас.
И Ева снова пошла в ванную.
– Успел-таки сиор Амбрузис… – сказала она, пренебрегая в своем негодовании даже крупицами уважения к своему лысому дяде. – Слышите, глупые дети?..
Она закрыла дверь, и я не услышал, что она им прошептала в конце.
Когда близнецы наконец вышли, переодетые в чистое, с еще влажными расчесанными волосами, их движения были неловки, словно у мышек, вылезших из плошки с маслом.
Они спустились.
Сиор Амбрузис был в кабинете – развалился в глубоком кресле, с улыбочкой, обнажавшей все его длинные желтые зубы в золотых коронках. Он потирал руки от удовольствия, когда госпожа Васиотаки ругала близнецов, а они, бедняжки, повесив головы, выслушивали упреки, красные и напуганные.
– Я же запретила вам собирать яйца… – начала мама.
– В гнездах, кишащих насекомыми и микробами, – встрял сиор Амбрузис, щеря свои зубы.
– И я говорила вам, не заходить в курятник без разрешения… – продолжила мама.
– Где используют порошковое средство против орнитопаразитов, поэтому находится там вредно вдвойне, – перебил ее сиор Амбрузис.
Тут даже терпеливая госпожа Васиотаки не выдержала.
– Простыми словами – там пыль, и вши. Говори уж, чтобы мы тебя понимали, Амбрузис! – засмеялась она.
– А что такого? Почему бы младшеньким не подучить новых слов, более точно передающих значение… – начал Сарделидис.
Завязалась беседа, во время которой Ева подала младшим знак уходить. На этом выговор закончился.
Но наказания они не избегли. В обед малышек закрыли в классной комнате делать уроки, а вечером за ужином их обеих лишили фруктов. Отец узнал об их проступке, поглядел на раскопанный лаз, на заклинившую дверь и отругал их тоже.
Уф! Как же я ненавидел этого мерзкого, занудного двуногого Сарделидиса!
Он никогда не упускал возможности донести на детей их матери. Он говорил ей, что они «погрязли в отвратительной и ужасающей нечистоте». Что они «празднолюбивые, необразованные неучи». Что их несомненно «одолеет брюшной тиф или столбняк».
И не успокаивался, пока детей с криком не отсылали в учебный класс. Тогда, потирая руки, он улыбался, словно пиратский череп, и приговаривал:
– Они еще не подозревают, несчастные, скольким опасностям подвергаются.
К Еве у него тоже были претензии – она-де читала «морально разрушительные произведения», вместо того, чтобы «углубиться в Новый Завет и Хрестоматию».
Меня переполняла ярость! Распирало желание спросить его, разве он, в своей деревне, где вырос, не читал сказок? И неужели он не возился в земле, когда был еще резвым ребенком, с волосами на голове?
Хотя дети утверждали, что он никогда не был маленьким, никогда не смеялся, никогда не играл. Что он родился лысым, ворчливым стариком. И мне кажется, они правы, так оно и было.
Ева не любила его. Христо выслушивал его с иронической ухмылкой, не перебивал и, считая себя выше, позволял ему самому распутывать клубок своих идей. А затем, не ответив, заводил разговор на другую тему.
Даже госпоже Васиотаки подчас было не по себе, особенно когда он пугал ее болезнями.
– Типун тебе на язык, Амбрузис! – говорила она ему испугано.
Мицос же поднимал бунт.
– Но мама, – вспыхивал он, едва закрывалась дверь за господином Сарделидисом, – как ты выносишь этого занудного человека! Скажи ему хоть раз, чтобы он понял, как он достает нас своими теориями!
– Тише, тише, дитя мое, – отвечала госпожа Васиотаки с ее вечным добродушием. – У всех у нас есть недостатки. Каждому из нас нужно уметь выносить закидоны других. Иначе как другие будут выносить нас?
Тогда Мицос улыбался и обнимал мать.
– Ты терпелива, как Иов, мама, – говорил он ей. – Но у нас нет такого терпения, а дядя наш невыносим!
Мицос был бунтарем в этом доме.
– Это критское наследие его отца, – сказала со вздохом терпеливая госпожа Васиотаки.
Мицос был очень аккуратен и следил за собой и своей одеждой – она была как только что из шкафа. Однако он восставал против «строгих правил», как он говорил. Ему нравилась свобода. Ему нравилось растянуться на диване и вздремнуть после обеда, в жаркие летние часы. А мать беспокоила его, требовала подложить под голову кружевную салфетку, которую она называла «антигрязь».
– Отстань, мама, убери ее, ради бога, она натирает мне шею!
– Но дитя мое, ты засалишь кожу дивана…
– Не волнуйся, мама, я умываюсь каждое утро.
– Но она не помешает…
– Нет, мама, все нормально!
– Какой же ты, а! Когда я была маленькой, я была гораздо послушнее.
Мицос снова смеялся и целовал матери руку.
– Запеленай меня, как раньше, – мягко говорил он, – и увидишь, я стану самым послушным мальчиком в мире!
– Хотя бы ноги убери с дивана, запачкаешь.
– Не беспокойся мама, я хорошенько почистил ботинки перед тем, как зайти в дом.
– Ох, ну что ты за ребенок!…
Бедная госпожа Васиотаки обреченно покачала головой и вернулась на место.
Мой хозяин улыбнулся и отпустил шутку:
– Конечно, – сказал он ей, – меня-то ты укротила за столько лет, приучила в узде ходить. Теперь сын за меня бунтует.
Одним прыжком Мицос вскочил и обнял мать.
– Все хорошо, мама, давай свою салфетку.
И он с радостью положил ее на подушку дивана, вздыхая:
– Эх, чистюля ты с Хиоса!… Всех нас достанешь, мама, и отца, и весь дом.
На самом деле хозяин мой не терпел никакого давления. Он был еще более своенравным, чем Мицос. И бедная госпожа Васиотаки всегда уступала ему:
– Как пожелаешь, Йоргос, как пожелаешь.
Спустя несколько дней я привык к александрийской жизни и должен признаться, она мне нравилась. Я был бы абсолютно счастлив, если б меня на грызла одна мысль.
Целый месяц прошел, а я еще не смыл с себя позора первого дня с моей бесславной охотой. После моей неудачи, не знаю уж, что случилось, но ни одна кошка не казала тут и кончика хвоста.
Наконец это заметила и госпожа Васиотаки.
– Знаете что, дети? – сказала она, – После появления Буяна попрятались все кошки, эти бичи окрестностей. Похоже, его присутствие заставляет их держаться подальше.
– Думаю, что первая кошка, за которой погнался Буян, – сказала Лиза, – пошла и рассказала всем остальным кошкам, они напугались и убежали.
– Что же она им рассказала? – спросил Лукас. Аня не ответила. Она призадумалась. Затем обернулась к отцу и предложила:
– Знаешь что, папа? Поставь ловушку в саду, чтобы поймать ту рыжую кошку, первую, которая сбежала от Буяна, и увидишь, что остальные вернутся. А то сейчас она их запугивает не приходить…
Господин Васиотакис рассмеялся и ласково хлопнул ее по плечу.
– Их разорвет Буян, или они разбегутся от страха, зачем нам это, глупенькая ты моя девочка. Конечно, лучше, чтобы Буян их не убивал – мы все равно от них избавились. Вот, что нам нужно. Убийство – это дикость. Пусть себе живут.
Но я вовсе не хотел этого! Честь моя страдала от невозможности смыть великий позор моей первой неудачи.
И с каждым днем горечь моя только росла.
7. ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Однажды я увидел, что калитка сада открыта, и вышел на улицу. Я был безумно рад оказаться на воле. Мне вдруг показалось, что весь мир – мой. Нет передо мной больше решеток и изгородей, что мешали зрению. Я был свободен идти, куда захочу, свободен покорять новые горизонты, узнавать новое.
Однако только я отбежал на несколько шагов, как услышал голоса:
– Буян, Буян!
Едва я остановился понять, что происходит, как меня схватил Али: он еле дышал от пробежки. Он оттащил меня назад, насильно, как невольника, и закрыл за собой калитку.
Я был в ярости на Али за его деспотическую гиперопеку. Мое достоинство опять пострадало.
С недовольной мордой я пошел и лег на солнце перед своей конурой, сердито положив голову на вытянутые лапы.
Дейзи была запряжена в легкую двухколесную повозку и ждала, когда спустится хозяин.
Она наблюдала за всей этой сценой. Увидев, что я злюсь, она догадалась о причине и презрительно посмотрела на меня.
В других обстоятельствах я бы ответил ей тем же. Но сейчас меня просто подмывало, и я не выдержал.
– Много из себя строишь! – вырвалось у меня.
Ответа не было. Она неподвижно смотрела прямо перед собой, с поднятой головой, с хомутом на шее, красуясь, как те гордые лошади на фотокарточках.
Меня это еще больше разозлило.
– Что ты хочешь сказать? Что сейчас ты выйдешь на улицу, а я останусь дома? – Снова нет ответа. Она стояла с самоуверенным, надменным видом и жутко меня бесила.
– Я свободный, а ты подневольная, – высказал я ей. – Я могу гулять где угодно – хочу, в сад пойду, хочу в дом, хочу – на конюшню, то по песку, то по траве. А ты, если не запряжена, то только в стойле стоишь! И чтобы тебе выйти, надо тянуть повозку! И еще у тебя уздечка в зубах! А если шагнешь в сторону, получишь кнута. Что, не смеешь поднять на меня глаз? Эй, ты слышишь меня, кера Дейзи?
Мои речи ее ничуть не взволновали. С тем же презрительным взглядом она взглянула на меня свысока и сказала:
– С кем это ты говоришь, недомерок?
Я вскочил и подпрыгнул к ее носу.
Мой яростный лай вспугнул одну кошку, что таилась поблизости незамеченной, свернувшись калачиком на ветке в густой листве высокого дерева. Она спрыгнула вниз, приземлившись на лапы.
Но между нами не было больше ни решетки, ни зеленой изгороди.
Я забыл о достоинстве, гневе, кобыле, и обойдя стороной хозяина, Мицоса и детей, которые подошли уже к тому времени, бросился на кошку.
Она бежала, словно у нее пружины в лапах. Но я был тоже не промах. Она стрелой бросилась в цветник. Я – за ней. Обезумев, она понеслась к веранде и поднялась на две ступеньки крыльца. За ней и я. Глупая, она не заметила, что льняные занавески на веранде, из толстого корабельного сукна, были спущены и привязаны к перилам, оставляя свободной только лестницу, так что она попала в ловушку.
Но она поняла это. И тогда «дала зверя».
Не успел я напрыгнуть на нее, как она бросилась ко мне и полоснула меня по носу своей когтистой лапой.
Я издал дикий вопль, а она, перепрыгнув через меня, ускакала в сад.
Но боль тоже сделала из меня зверя. В один миг я оказался рядом с ней и схватил ее за шкирку, едва она вонзила когти в кору первого попавшегося дерева.
Борьба не длилась долго. Двумя рывками я сломал ей шею, и она упала замертво.
– Ну ты даешь, Буян! – крикнул Мицос.
Я обернулся на зов. Все собрались вокруг. Хозяин, Мицос, дети, коневоды, садовники.
– Здоровая, взрослая! – сказал хозяин, осматривая убитую кошку. – Смотри, как он ее придушил!
Я подошел и взглянул. О, радость! Это была та самая рыжая мордочка, давняя знакомая! В пылу охоты я ее и не узнал.
Меня переполняла такая гордость, что казалось, я расту, раздуваюсь, становлюсь ростом с Дейзи, которая равнодушно стояла неподалеку!
– Эй, госпожа кобыла, – крикнул я ей. – Ну что, опять скажешь, что я недомерок? – Она с достоинством повернула голову и посмотрела на мертвую кошку.
– Хуже, – сказала она. – Теперь ты стал убийцей.
– Ты просто завидуешь! – упрямо крикнул я ей.
И повернулся к Ане, которая не знала, как еще меня приласкать.
– Хороший Буян, – ласково приговаривала она, – Храбрый Буян! Смотри, Лукас, бедный пес, что с ним сделала кошка! У него вся морда в крови.
Лукас с сочувствием посмотрел на меня. Но в его взгляде я заметил какое-то сомнение.
Он повернулся к Лизе – она, бледная, стояла в стороне, прижавшись спиной к дереву.
– Да, – ответил он, – поцарапали его… Но бедная кошка…
Что? Лукас отвергает меня? Лукас заодно с Дейзи?…
– Тебе ее жалко? – спросил его отец. И улыбнулся.
– Да нет, нет, – ответил покрасневший мальчуган. – Кошки жрут все и воруют. Лазают на деревья и ловят птенцов!…
Ну конечно, кошки ловят птенцов! Хорошо, что Лукас об этом вспомнил и развеял мое ужасное сомнение от его первых слов. Конечно, кошки – воровки, они хотят всех убить. И я бы убил их всех.
С легким сердцем я подбежал к Дейзи и сказал:
– Кошки ловят и жрут птенчиков, так-то!
– Собаки тоже их жрут, если найдут, – надменно сказала она, – они только на деревья не умеют лазать.
Я разозлился.
– Никогда мы не едим птенцов! – крикнул я ей. – Зачем нам эта мелочь.
Дейзи тронулась с места.
– Лиса и виноград, – крикнула она мне, – «хорош, да зелен…».
Остальное затихло с расстоянием.
– Сама ты зеленая, воображаешь из себя! – озлобленно ответил я ей.
Повернулся и пошел на конюшню к своему другу Бобби.
8. ЗВЕЗДОЧКА И СУЛТАН
Я застал Бобби за едой.
– Заходи, дорогой, – сказал он, повернувшись ко мне и громко стукнув копытом в пол. – проходи, сделай милость!
Мое плохое настроение вмиг улетучилось.
– Для тебя – все, что угодно! – ответил я, забегая в его денник. – Хоть черта лысого.
– Тогда поймай мне вон того феллаха, – сказал он, показывая мне кивком головы на мышонка, который испуганно глядел на нас из-под деревянной перегородки. – Целый час уже меня достает. Шныряет туда-сюда по яслям, слов не понимает.
И снова указал кивком на мышонка – тот спрыгнул на пол и побежал к своей норке.
Но несчастный не успел. На счет три он сошел в царство Харона.
– Молодец, Буян! – сказал обрадованный Бобби. – Если появится другой, я тебя позову.
– Конечно, сколько хочешь, – сказал я, запрыгнул в ясли с сеном и удобно там разлегся. – Хватит тебе варится в одиночестве.
В соседнем деннике стояло еще двое вороных лошадей, Султан и Звездочка. Султан с веселым оживлением наблюдал за этой сценой.
Он свесил голосу с деревянной перегородки и сказал:
– А почему такая несправедливость? Почему к нам не заходишь?
– Да с удовольствием, к тебе и к Звездочке, – ответил я. – Я вас тоже люблю. А вот Дейзи – нет.
Как только Звездочка это услышала, она поднялась на ноги, водрузила передние ноги на ясли, чтобы получше нас видеть.
– О! Что тебе сделала наша соседка? – спросила она, охочая почесать языком.
– Да не то, чтобы сделала… Что она может мне сделать?.. Просто говорила мне неприятные вещи.
– Например, что?
– Да вот, сказала мне вслед… Погоди-ка… А, вспомнил. Назвала меня «зеленым виноградом».
– Что это значит? – спросил Султан.
– А я знаю? Так она сказала.
– Что она тебе сказала? – переспросила Звездочка.
– Я толком не понял. Я уходил, а она крикнула: «Как лиса и виноград, хорош, да зелен».
– Пфф…! Какой же ты дурачок! – сказал, рассмеявшись, Бобби. – Я знаю, о чем это. Это цитата из одной истории – она слышала, как хозяин рассказывал ее детям. Как-то раз лиса была голодна и увидела виноград, но он слишком высоко висел на лозе, и она не могла его достать. Тогда она осерчала и заругалась на него: «На взгляд-то он хорош, да зелен – ягодки нет зрелой».
– А что это значит? – спросил я.
– Не знаю, – отвечал Бобби. – Это какое-то лисье ругательство. Дейзи сама не понимает. А я говорил ей: «Не произноси слов, значения которых не знаешь». А она все настаивала, что знает и понимает.
– Эта Дейзи такая невоспитанная, – сказала Звездочка. – Воображает еще себя красавицей.
– Ты гораздо лучше и красивей, – сказал я ей.
Звездочка дважды довольно кивнула черной головой с белым пятном на лбу.
– Хе-хе, – сказала она смущенно. – Но Дейзи, она особого рода.
– Какого? – спросил я. – Она разве не англичанка, как и Бобби?
– Да, – сказал Бобби. – Но она гордится, что ее мать с ее хозяином побеждали на конкурсах красоты. Она происходит из знатного рода, у нее, говорит, есть дипломы.
– А что это такое?
– Не знаю. Дейзи говорит, у нее есть дипломы. Я думаю, это нечто вроде призов и наград. По крайней мере, я так понял.
Впервые я услышал, что призы и награды дают за красоту.
Я попросил объяснить, но никто толком ничего не знал.
– Одно я знаю, – робко сказал Бобби, – что моя мать тоже взяла один приз.
– То есть что? Сахар? Или ты про диплом говоришь?
– Не знаю. Я не уверен насчет дипломов, потому что Дейзи говорила, что у нее единственной на конюшне есть диплом. Так однажды сказал хозяин.
– А у тебя Султан? А у тебя, Звездочка? – спросил я.
Мой вопрос, казалось, расстроил Звездочку. Она поспешно опустила ноги и мотнула головой.
– Какая разница, что совершили наши родители? – надувшись сказала она. – Ни отца, ни мать я не помню. Я просто Звездочка Афанасия Дьяка, и с меня довольно. А Султан – это вороной конь Колокотрониса*, и ему этого тоже довольно.
Теперь я был в полном замешательстве.
– Чья ты? – спросил я.
– Афанасия Дьяка.
– Невероятно!
– А что такого? Говорю тебе, это так.
– Но ведь сейчас ты принадлежишь господину Васиотакису!
Тут Звездочка замялась и замолчала.
– А кто тот господин? – спросил я.
– Афанасий Дьяк? Это один из героев Революции.
– Какой революции?
– Не знаю.
– Он родственник хозяина?
– Не знаю, – сдержанно сказала Звездочка, – Должно быть. Может ты, знаешь, Султан?
– Нет, не знаю, – задумчиво сказал Султан.
– А кто твой хозяин, как ты сказал, его зовут? – спросил я его.
– Господин Васиотакис, само собой. Но на самом деле я вороной конь Колокотрониса.
Я еще больше запутался. И спросил наугад:
– Он тоже герой?
– Конечно. И один из самых великих.
– А где он живет?
– Не знаю.
– А чем он занимается?
– Не знаю. Но он герой. Так Мицос сказал.
Я был сбит с толку, расстроен и растерян.
– Ничего не понимаю, – раздраженно сказал я. – Сваливаете все в кучу и ничего не объясняете.
– Это трудно объяснить, – примирительно сказал Бобби, – нам тоже никто ничего не объяснял. Мы говорим тебе то, что сами слышали, в тот день, когда привезли Звездочку и Султана.
– А что вы слышали?
– Хозяин был в саду с Мицосом и детьми. И они спросили его: «Как назовем наших новых английских лошадей?» И он сказал…
– Английских? – встрял я. – Но это же греческие имена.* Бобби умолк на секунду.
– Не важно, – продолжил он, – не перебивай. Так вот, Мицос показал на одну лошадь и сказал: «Этот будет Султан». Лиза спросила: «Почему?» А тот ответил: «Потому, что Султан это прославленный вороной конь Колокотрониса, в битве за Триполицу». Тогда Лукас встрепенулся и сказал: «Ага, а другая, с белой отметиной на лбу, будет Звездочка Афанасия Дьяка». Хозяин засмеялся и сказал: «Хорошо, им подходит. Наша конюшня будет полна героев Революции». Это все, что мы знаем, – повторил Бобби. – А ты теперь, сам делай выводы, какие хочешь. Все то утро мы думали в четыре головы, но так ни до чего и не додумались.
Никто из нас не мог объяснить, как у Султана и Звездочки оказалось по два хозяина сразу, как вторые из них оказались великими героями, и никто не знал, что они совершили; как Султан был с Колокотронисом в битве за Триполицу, хотя он не видел ни самого Колокотрониса, ни участвовал в сражении. И, наконец, как так получилось, что у них греческие имена, хотя они английские лошади.
Подошел полдень, а у нас все еще не было ключа к этой загадке.
9. ВАСИЛИС
В полдень, когда господа вернулись, зазвенел колокольчик к обеду, и вся семья собралась в гостиной. Я зашел туда со своим хозяином, Лукас увидел меня и вспомнил об убийстве кошки, что случилось поутру.
Торопливо, в сильном возбуждении, он поведал Еве о том, что я учинил.
– Это правда, Буян? Ты в одиночку расправился со взрослой кошкой? – сказала Ева. – А меня не было, вот бы увидеть!
Лукас быстро огляделся вокруг, чтобы убедиться, что их не слышат, и сказал сестре доверительно:
– И хорошо, что ты этого не видела! Отвратительное зрелище.
– Почему?
– Потому что бедная кошка так страдала в его зубах… Ты бы видела! Просто ужасно!
Ева ласково погладила его по волосам.
– Тебе жалко ее? – спросила она. – Представляю, какое это было жуткое зрелище.
Лукас молчал.
– Не люблю я кошек, – сказала Ева. – Они зловредные. По их милости у нас куры пропадают, и заснуть мы не можем нормально из-за их воплей.
– Мне они тоже в общем-то не нравятся, – сказал Лукас с долей неуверенности. – Они коварные, злобные… И поедают бедных птенчиков в гнездах.
Уф! Эти слова снова принесли мне облегчение, и моя душа вернулась на место.
Этот день был для меня полон радости. Меня не знали, как приласкать. Мною настолько восхищались, что хозяйка даже забыла, что мне пора отправляться в свою конуру, и меня оставили в гостиной и на ужин.
Это было впервые, когда меня оставили в доме в такой поздний час.
Перед ужином вся семья собралась в библиотеке. Госпожа Васиотаки с Евой вышивали. Близнецы учились вязать. Лукас то читал вслух, то заводил беседы, пока не пришли мужчины и не сели за стол. Настало время отдыха.
В тот вечер хозяин с Мицосом и Христо пришли раньше, чем обычно.
– Мы принесли вам одну новость! – крикнул Мицос, заходя в комнату. – Кто угадает, какую?
– Падишах крестился? – сказала Ева.
– Хорошая новость? – спросила мать.
– Потрясающая! Вы такой и не ждали.
– Неохота угадывать. Скажи, что?
– Секрет – отвечал Мицос. – Давайте, ребята, кто отгадает, о чем новость?
– Мы поедем на Крит?! К бабушке?! – радостно вскричал Лукас.
– Хорошо бы! – сказал господин Васиотакис. – Но к сожалению, с сентября и позже, пока хлопок прибывает с плантаций, мы, хлопкоторговцы, не можем покинуть Египет. Похоже, да не то. Отгадывайте дальше.
– Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе! – подсказал Христо.
– Ну, наоборот! Догадались? – добавил Мицос.
– Бабушка приедет к нам! – закричали трое младших.
– Да. К нам приедет бабушка!
Дети повскакали от радости и принялись болтать наперебой, засыпая их вопросами.
– Она надолго останется?
– Когда она приезжает?
– Что она написала?
– Она приедет к нам в дом?
Да, сказали им, она приедет к нам на следующей неделе и останется на всю зиму.
Крики и прыжки начались с удвоенной силой. Дом чуть не треснул!
Лукас хотел поделиться с кем-нибудь своей радостью. Но никто его не слушал, и он подошел ко мне, присел рядом, обнял меня за шею и сказал:
– Ты еще не знаешь нашей бабушки, Буянчик, но ты увидишь, какая у нас золотая бабушка, и ты ее полюбишь! Она не похожа на других бабушек. У нее седые волосы, но на щеках нет морщин, и она совсем не ворчливая. Она все время шутит, веселит нас, играет с нами.
И в предчувствии любви, которую я, конечно же, буду испытывать к бабушке, Лукас сжал меня в объятьях и поцеловал, словно я и был его бабушкой!
Вся неделя прошла в приготовлениях. Дети только и говорили, что о бабушке и о ее приезде. Мадемуазель ворчала, что они невнимательны на уроках. Мисс – что они делают ошибки на письме. А учитель музыки бурчал, что никто не учит гаммы и не делает упражнения. В конце концов и я присоединился к их нетерпению и считал часы вместе с ними.
И вот настал великий день.
С раннего утра дети вышли в сад насобирать цветов, чтобы украсить бабушкину комнату.
– Василис! Василис! Где ты? Быстро, неси свой секатор! – кричали они. – Отец разрешил нам срезать столько цветов, сколько хотим.
С добродушной улыбкой и с секатором в руке появился Василис.
Дети каждый притащили по корзинке, и Василис срезал им цветов по их желанию.
Бегом они поднялись в бабушкину комнату, взяв и меня с собой, и вскоре заполнили ее розами, нарциссами и гиацинтами.
На комоде осталось пустое место, и дети решили поставить туда горшок «с очень большим цветком», чтобы он «занял место» и украсил мебель.
В первый раз я очутился в спальне и всему дивился, запрыгивал в кресла, на столики, в раковину умывальника, погружал нос в ароматную воду, нюхал мыло – я был вне себя от радости.
Разумеется, там не было госпожи Васиотаки, она поехала со старшими на пристань, чтобы встретить бабушку, иначе бы я тут так не резвился! Она бы не одобрила прыжки по мебели и обнюхивание всего подряд.
Внезапно я замер. Стоя в раковине умывальника, внутри шкафа напротив я разглядел еще одну комнату и еще один умывальник, и в этом умывальнике еще одного пса, фокстерьера, такого же, как я.
Я навострил уши. Он тоже.
Что за шутки!
Я спрыгнул на пол и оглядел комнату, которая была внутри шкафа.
Я снова увидел умывальник, но пес исчез.
– Буян! Давай быстрее, пошли вниз! – крикнул Лукас.
Но я не послушался. Я был поглощен видом той, другой комнаты, где я видел еще одного пса. Я побежал к шкафу и снова увидел его – он бежал прямо на меня.
Я остановился – он тоже остановился. Я снова поднял уши. Он повторил за мной.
Не успел я заговорить с ним, как Аня схватила меня и побежала со мной за Лукасом.
В тот же миг, когда она схватила меня, другая девочка, с такими же каштановыми волосами и в таком же платье, как у Ани – но это была не Лиза! – наклонилась и подхватила того, другого пса.
И я потерял их из виду, когда они скрылись из шкафа.
Я настолько изумился, что не мог издать ни звука.
Аня отнесла меня в сад, там уже были Лукас и Лиза. Трое ребят побежали искать Василиса, и, скача за ними, я позабыл о девочке, умывальнике и собаке из шкафа.
– Василис! – крикнул Лукас. – Нам срочно нужен большой цветочный горшок, поставить на комод для бабушки.
– Покажи нам самые лучшие, что у тебя есть в теплице, – крикнула Аня.
– Пожалуйста, – робко добавила Лиза. Она никогда не забывала говорить «спасибо» и «пожалуйста».
– Большой горшок? – удивился Василис. – А у вас есть к нему подходящее кашпо, чтобы поставить горшок внутрь?
– Нету!
– Тогда один горшок некрасиво будет! Да и вода из почвы попортит деревянную мебель.
– А что нам тогда делать? – разочарованно спросила Аня.
– Хотите я вам сделаю по-быстрому корзину цветов, как на обеденном столе у вашей мамы? – предложил всегда готовый помочь Василис.
Лица ребят вновь засветились.
– Василис, ты замечательный человек – сказал с восторгом Лукас.
Ребята, а за ними и я, побежали к теплице, и Василис раздал им по циновке, чтобы не сидеть на земле.
– Быстрее, быстрее, Василис, корабль уже подплывает! – крикнула Аня как самая нетерпеливая.
– Пойдемте сначала соберем цветы, – ответил Василис.
И все скрылись в гуще розовых кустов.
– Василис, а ты успеешь до бабушкиного приезда? – беспокойно спросила Лиза, когда мы зашли в теплицу и сели на циновки, а Василис принес проволоку и корзину.
– Успею, Лиза, если вы все трое мне поможете.
Дети возликовали. Но они не знали, с чего начать. В спешке они накидали цветов как попало, вверх ногами.
– Нет, нет, Аня! Так быстрее не будет, – сказал садовник. – А ты, Лиза, смотри, осторожно, стебли поломаешь. Если хотите мне помочь, отрежьте с веток нижние листья и обмотайте проволокой стебли. А корзину я украшу сам.
Я поражался мастерству Василиса. На дне корзинки он уложил подстилку из сухого мха и воткнул в него розы одну за другой. И они стояли прямо, сами по себе, как на ножках.
– Какую красоту ты сотворил, – сказала Лиза, ошеломленно глядя на него. – Где ты так научился украшать корзинки?
– Я работал в одной хорошей цветочной лавке, в Афинах, в мой первый приезд в Грецию, пока не попал сюда, – ответил Василис.
– В твой первый приезд в Грецию? – спросил Лукас. – А где ты жил раньше?
– Я туркомерит.
– Что это значит? – спросила Лиза.
– Значит, из турецких земель, – торопливо объяснил Лукас. – Но кто ты по роду, Василис?
– Ты турок? – возбужденно перебила его Аня.
– Нет, дочка, я грек. И такой непримиримый грек, что сами греки Эллады мне позавидуют. Ведь я македонец.
– А почему ты уехал из Македонии? – спросил Лукас.
– Ну… Не очень хорошо ладил там с людьми.
– Почему? Вы ссорились?
– Ну да, ссорились.
– С турками? Вот злодеи! А ты воевал, Василис?
– Конечно… воевал.
– А много турок ты убил?
– Порядком… Но не турок, не с ними мы воевали.
– А с кем?
– С болгарами.
– С болгарами? Почему? – спросила Аня.
– Расскажи, Василис, – в замешательстве сказал Лукас. – Мицос тоже все время говорит плохое про болгар, что они наши враги. Но они же тоже христиане?
– Говорят, что да. Но лучше бы они ими не были. Они хуже турок.
– Но что они забыли в Македонии? Это же греческая земля, просто турки ее сейчас у нас отобрали.
– Они хотели ее забрать себе, как забрали Восточную Румелию,* хотя она тоже была греческой. А мы не хотели им этого позволить… Так что пришлось повоевать с ними, поразбивать им морды… Македония – греческая земля. Мы заберем ее назад.
Василис говорил упрямо, стиснув зубы. Его нахмуренные черные брови под белыми от седины волосами придавали его кроткому и доброму лицу ожесточенный вид.
Лукас задумчиво поглядел на него, но ничего не сказал.
– Конечно, мы заберем назад Македонию, – порывисто воскликнула Аня. – Лукас говорил, что, когда вырастет, он станет военным офицером и заберет ее. А Мадемуазель над ним все время подшучивала.
– Да пусть подшучивает… В наших краях франкам не место, они не понимают, о чем наши мечты. И лучше пусть не вмешиваются, никогда от них не было нам добра. А ты правда, Лукас, это задумал сделать, когда вырастешь?
Василис поднял на него взгляд и увидел задумчивое лицо мальчишки.
Но Лукас не ответил.
Василис слегка погладил его по голове.
– Не отступай, Лукас, если к тому времени не проснется еще свободная Эллада. Но ты еще мал. Думаю, скорее кир Мицос пойдет в офицеры и заберет эту землю, прежде чем ее опустошат эти звери.
– Турки? – спросила Лиза.
– Болгары.
Он сказал это с такой ненавистью, что я невольно поднял на него взгляд. Как лицо Василиса могло внезапно стать таким злым?
Лукас тоже это заметил и заволновался.
– Они причинили тебе какое-то зло, Василис? – спросил он. – Тебе лично что-то сделали плохое болгары?
Василис не ответил. Его губы нервно дрожали, но руки продолжали втыкать в дно корзины розы одну за одной.
Лиза положила свою белую ручку на грубую руку садовника.
– Скажи, Василис, что тебе сделали злые болгары? – участливо спросила она.
Но он снова не ответил.
– Не хочешь говорить нам? Почему? – более резким тоном спросила Аня.
– Оставь мне мое, Анюта, – сказал вдруг с усталым вздохом Василис. – Смотри! Волосы мои поседели за несколько дней. Оставь меня есть свой хлеб, что дает мне твой отец, да будет к нему милость Богородицы. Не спрашивай меня об этом.
Ребята больше ничего не спрашивали. Садовник молча вплел последнюю розу в ручку корзины.
Неожиданно Лукас вскочил, обнял Василиса за шею и поцеловал.
И сразу же помягчел жесткий взгляд Василиса.
– С чего это ты поцеловал меня, кир Лукас? – хрипло спросил он.
– Так просто. Потому, что я люблю тебя, – сказал Лукас, немного смущенно.
На его глазах выступили слезы. И со страстью он добавил:
– Погоди, Василис, вот я вырасту, и мы вместе поедем в Македонию, и поднимем там восстание, как в 21-м году, поедем на Крит и на Хиос, и там тоже поднимем восстание, и мы освободим из турецкого рабства всех эллинов и прогоним турок и болгар до самой их Кызыл Алмы!…*
– Твои б слова, да богу в уши, Лукас, – сказал серьезно Василис. – Ну довольно, только не забывай, когда вырастешь, ни ты, ни все остальные, что борьба 21-го года не закончилась, что только маленькая часть освобождена, что великая Эллада по-прежнему невольница, а Городом* управляют турки. Не забывай об этом, кир Лукас.
Лицо Лукаса радостно засветилось.
– Вот увидишь! – сказал он с верой в голосе.
Руки он заложил за спину, кудрявую голову гордо вскинул вверх.
И мне показалось, что мой малыш Лукас вдруг повзрослел, стал мужчиной.
Лиза посмотрела на него с искрой в глазах. Однако на лицо Ани набежало облачко.
– Какая жалость, что девочек не берут на войну! – насупившись сказала она. – Я бы пошла с тобой, Лукас!
И неожиданно спросила:
– А у тебя, Василис, есть сын?
Садовник ответил не сразу. Он проговорил негромко:
– Был когда-то.
Аня, вскочившая было за братом, снова резко присела.
– Был? А где он сейчас? Почему ты не приведешь его к нам сюда? Мы бы поиграли вместе, когда у нас нет уроков!
– Да, Василис, почему бы тебе не привести его сюда? – добавила Лиза.
Василис не отвечал. Но потом резко сказал:
– А почему бы вам не пойти поиграть, ребята? А то сыро тут, простудитесь еще.
– Почему ты нас гонишь? – грустно спросил Лукас. – Раньше ты не говорил, что тут сыро.
Одним прыжком я вскочил и радостно залаял. Я услышал издалека стук копыт Бобби и Дейзи, они поворачивали с улицы во двор. Экипажи возвращались.
– Бегите, ребята, ваша бабушка приехала, – сказал Василис с привычным спокойствием в голосе.
Все трое поднялись и помчались прочь из теплицы, а с ними и я, мы подбежали к решетчатым воротам сада.
На секунду я обернулся посмотреть, не идет ли за нами Василис.
Я увидел, как он идет к дому с корзиной, украшенной свежими цветами. Его поникшее лицо было невеселым и постаревшим.
Но тут мне свистнул Лукас, и я побежал за ним.
10. БАБУШКА
Лошади торжественно въехали во двор и остановились перед мраморной лестницей, ведущей в дом. Первыми подкатили Бобби и Дейзи, затем Султан и Звездочка. Мой хозяин выбрался из второй повозки, с ним были Мицос и Христо, и помог своей маме выйти из повозки Бобби.
Едва она ступила на землю, как все трое детей бросились ей на шею.
Со смехом бабушка обняла их и расцеловала одного за другим.
– Ну и ну, как же вы выросли, Аня-Лиза! – сказала она им, объединив их в одно лицо. – А ты, Лукас, дай-ка глянуть на тебя. Вытянулся как! Подай мне руку опереться, лестница такая крутая.
Лукас торжественно взял ее под руку, и она неспеша поднялась, смеясь от радости. Бабушка была худощавой, бодрой, и вовсе не казалась какой-нибудь ворчливой старухой, только что волосы седые. Я собрался подняться вместе с ними, но меня задержал возглас Дейзи.
– Сдохну сейчас! Уф, сил нет! – заржала она, запрокинув голову и тяжело дыша. – Уф! Какая же тугая уздечка…
– Спокойно, спокойно, Дейзи, не ворчи, – сказал ей терпеливый Бобби. – Все мы шли одной дорогой, и никто не жалуется.
– По такой жаре! Погнали нас! Здесь что, никогда не бывает прохладно? Что за дыра это место? – все более обиженно говорила прекрасная кобыла. – Право, не понимаю, почему наши хозяева живут здесь, а не на Крите!
Кучер натянул повод.
– Хоп, хоп! – крикнул он.
И Дейзи с Бобби тронулись по направлению к конюшне. Позади ехала вторая повозка со Звездочкой и Султаном.
– Что ты там сказала про Крит? – крикнула Звездочка, дойдя до конюшни, где уже стояла Дейзи, а двое коневодов поспешно снимали с нее упряжь. – Дейзи, что там с Критом?
Дейзи повернула свою изящную голову к Звездочке, но надменно промолчала.
Добрый Бобби ответил за нее:
– Бабушка сказала, что в Ханье выпал снег, а у нас тут еще лето. И с тех пор Дейзи тоскует по Криту.
– Ах ты, бедная Дейзи, не знаешь, чего желаешь, – сказала Звездочка. – Если бы ты была там, то тоже не замолкала бы от жалоб. Спроси Султана и меня, как нас возили на месяц в Ханью, чтобы продать одному бею, мы чуть ноги там не сломали, как нас гоняли туда-сюда!
– Да ну? Почему? – спросил я.
– Потому что там булыжные мостовые.
– Что это значит?
– То есть они замощены мелкими камнями, вдавленными в землю, то круглыми, то острыми, как попало. И то и дело ямы.
– Пфф! – презрительно выдала Дейзи, – Если бы ты была из нашего рода, ты бы высоко поднимала ноги и не боялась бы камешков.
– Шутишь что ли, – сказал ей Бобби. – Ты поскользнёшься и сломаешь ноги еще быстрее.
– Но мы хотя бы не потели так! Уф! – в отчаянии сказала Дейзи. – Бабушка говорила, что в горах выпал снег. Как давно я не видела снега…
– Будет тебе, Дейзи, – по-доброму сказал Бобби. – Бабушка говорила, что плохо, когда так рано выпал снег. А знаешь, что она говорила про деда Манолиса?
– А кто это дед Манолис? – спросил я.
– Это один старик, дядя хозяина. А, вот еще что! – крикнул Бобби Звездочке. – Бабушка сказала кое-что интересное и для тебя. Она сказала, что дед Манолис, который очень стар и сильно болеет ох холода, он знал твоего другого хозяина, Афанасия Дьяка.
– Правда? – воскликнула Звездочка. – А бабушка его знала?
– Не знаю. Она не сказала.
– А еще что она сказала?
– Ничего особенного, только что дед Манолис очень стар. Она называла его еще «капитан Манолис». Он настолько стар, что знал даже Афанасия Дьяка. И что холод может угробить его. Я говорил это Дейзи, чтобы та поняла, как плох холод, по которому она все тоскует.
Коневод отвел Бобби в сторону и вылил на него несколько ведер воды.
Я тут же отскочил. Вода и мыло мне не по нраву, утром я уже натерпелся купальных мук.
Я пошел в дом и увидел, как бабушка поднимается с детьми в свою комнату, чтобы, по ее словам, снять шляпу и немного охладиться.
По обыкновению, все трое ребят говорили наперебой, чтобы быстрее рассказать все про свой дом.
Я прыжками поднялся на несколько ступенек и остановился перед ними.
– О, Буян! – воскликнула Лиза на половине фразы. – Погляди-ка, бабушка, это наш Буян.
– Вот как, откуда же взялась эта новая собачка? В позапрошлом году у вас ее не было.
– Не было, – сказал Лукас. – Он еще маленький. Нам его подарил Христо, весной, он был еще щенком.
– И знаешь что, бабушка? – сказала с восхищением Аня, захлебываясь от спешки, чтобы высказать все сразу, – знаешь, это настолько сильная собачка, что она убивает всех кошек, двумя рывками.
– Двумя рывками! – удивилась бабушка. – Представляю, двумя рывками он забрал все семь их жизней!.. Бедные кошки!
– Бедные? – недовольно сказала Аня. – Почему это они бедные, бабушка? Ты знаешь, они очень плохие. Однажды Танасий забыл закрыть окно кухни, а ночью внутрь пробралась кошка и съела всю рыбу. Никакие они не бедные, бабушка, они плохие.
– Ну хорошо, кошки плохие, – со смехом сказала бабушка. – Тогда и Аня плохая, раз она ест, когда голодна.
– Плохая? Почему? – озадачено спросила Аня.
– А ты что, не ешь, когда голодна?
– Ем!.. Но разве это плохо, когда мы едим, когда голодны?
– Ну ты же говоришь, что кошка плохая, а она тоже была голодна и съела рыбу.
Аня на мгновение потеряла дар речи. Лиза тоже недоуменно посмотрела на бабушку.
– Но бабушка, я ем свою еду, мне ее положил на тарелку отец, – сказала Аня, очнувшись.
– Да, бабушка, нам отец накрывает на стол, и нельзя ничего оставлять на тарелке, – робко добавила Лиза.
– А кошка стащила рыбу, которую ей никто не давал! – перебила ее Аня. – Это, бабушка, кража!
– Правильно! Но возможно, несчастная не знала, что это рыба Танасия. Может быть ей мама никогда не говорила не лазить в окна и не есть рыбу, которую Танасий хранил для завтрашнего обеда.
Кошка увидела открытое окно и рыбу, разложенную на тарелке, и подумала, несчастная, что это ей приготовили, накрыли на стол, она и пролезла внутрь, и съела ее.
– Но бабушка, – спросил Лукас, – совершенно запутавшись, – но разве это правильно, что она съела рыбу?
Бабушка снова рассмеялась и ласково хлопнула его по плечу.
– Нет, глупыш, это неправильно. Но это естественно, потому что кошка не знает, что правильно, а что неправильно. И если кто и провинился в том, что рыба съедена, так это, думаю, Танасий – он не позаботился закрыть окно. Танасий не мог не знать, что ночью на кухню может проникнуть какая-нибудь голодная кошка.
– И правда! – задумчиво сказал Лукас. – Точно! Значит, это Танасий виноват.
Со страхом и надеждой следил я за всем этим разговором. Аня говорила в точности то, что cказал бы я сам, если б умел говорить. А бабушка ей во всем противоречила. Но хуже того, слова бабушки мне показались разумными, ведь и я, когда нахожу косточку и вижу, что кира Танасия нет рядом, беру ее и ем.
И внутри меня что-то беспрерывно кричало: «Убивать, убивать, убивать всех кошек, без разбору и жалости».
Но что если они не плохие? Если это естественно для них есть рыбу Танасия, как я ем кости, то правильно ли мне их будет убивать?
