Журнал «Парус» №86, 2021 г.
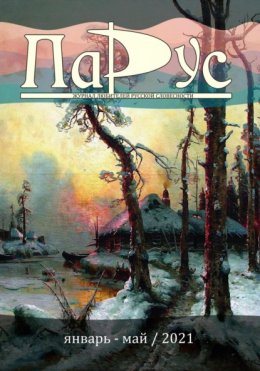
Цитата
Афанасий ФЕТ
***
Учись у них – у дуба, у берёзы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.
Все злей метель и с каждою минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!
Но верь весне. Её промчится гений,
Опять теплом и жизнию дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.
31 декабря 1883
Художественное слово: поэзия
Юрий КУЗНЕЦОВ. Я не знаю, может быть, светает…
К 80-летию поэта
«И к старцу обратился я…» – когда-то написал поэт, пройдя почти полувековой земной путь. Сегодня мы отмечаем его собственное 80-летие, наступившее как будто в мгновение ока и сразу перенесшее его к «черте мудрости» – почтительно уважаемого старчества. Так справедливо ли будет адресовать эту строчку самому Юрию Поликарповичу Кузнецову?
Поэтическая традиция «вопрошания старца» в русской литературе второй половины XX века красиво и нежно звучала у Николая Рубцова – приведём фрагмент из его стихотворения «Жар-птица» 1965 г.:
– Старик! А давно ли ты ходишь за стадом?
– Давно, – говорит. – Колокольня вдали
Деревни еще оглашала набатом,
И ночью светились в домах фитили.
– А ты не заметил, как годы прошли?
– Заметил, заметил! Попало как надо.
– Так что же нам делать, узнать интересно…
– А ты, – говорит, – полюби и жалей,
И помни хотя бы родную окрестность,
Вот этот десяток холмов и полей…
А позже, спустя полстолетия, уже другой Николай – кубанский поэт Николай Зиновьев – создаст своего героя, обращающегося с заветным вопросом к мудрому старику:
Дымя махоркой, на завалинке
Седой как лунь старик сидит.
Я перед ним, как мальчик маленький,
Он на меня и не глядит.
И вдруг взглянул:
«Что с кислой мордой?» —
«Я вас спросить хотел давно…»
Но он прервал: «Россию мёртвой
Живым увидеть не дано».
Как хотелось бы продолжить эту благородную традицию отечественной литературы – и как-нибудь, совершив «чудо», поменять в стихах Юрия Поликарповича Кузнецова вопрощающего и вопрошаемого.
А ведь в стихах нашего нестареющего пророка – всё тот же немеркнущий огонь прозрений. Как трудно представить поэта 80-летним, согбенным временем и, что еще невероятнее – пришедшим к другим, более жизнерадостным и светлым истинам. Многое из того, что было сказано им более тридцати или даже сорока лет назад, звучит всё так же мрачно и неоспоримо – да и «газета всё та же»!
Свой «славный путь напролом» Юрий Поликарпович, как и его лирический герой, принципиально не читающий «газет» ни до обеда, ни после, прокладывали вдоль «трепещущих от ужаса» соседних кустов, мимо соглядатаев, прикрывающихся этой самой газетой, мимо «призраков с четвертым измереньем», мимо уже почти привычно-литературно «рыщущей» по Москве «нечистой силы». А вокруг нависали «всё грозней небеса, всё темней облака» в «бурлящей стране». «Один соглядатай сменяет другого», но поэт не оставлял своего не зримого земным оком и не подвластного никаким наблюдателям маршрута —
А за нами матушка-Россия,
А за нами Божия гроза…
Можем только представить, как по тонкой струне, соединяющей разорванные миры, «тот и этот», летит семимильными шагами русский богатырь в сапогах-скороходах. Отчетливо видится лишь такая же нестареющая, как стихи, кузнецовская усмешка с лукавой хитринкой – суровый поэт-скептик, презрительно кривящий губы, словно бы отринул на миг смертельную серьезность, и вот – явление чуда! – мраки рассеиваются и нам уже подмигивает из недостижимого далёка светло улыбающийся задорный кубанский мальчишка:
А кто кого пересмотрит,
То мы еще поглядим.
Так и скользил неуловимый поэт над бездной, отдавая себе отчет в том, что уже «задел невидимую сеть». «Путь напролом» был избран им так же бесповоротно. Участи «трусливого куста» Юрий Поликарпович для себя не мыслил, да и забота его была родом из того же недостижимого далёка:
Я душу спасаю от шума и глума.
Читая сегодня стихотворения вечно молодого классика второй половины XX века, размышляя над ними и стеная над нашей обглоданной Родиной, очень хочется обратиться к старцу со всеми сокровенными и затаенными даже от самих себя вопросами.
На землю приходят один только раз,
Что думает мальчик об этом?
Ведь он по-настоящему видел. И предвидел. Предвидел наши заданные и незаданные вопросы, прозревал в крутящихся клубах дыма и пыли из разных миров вполне отчетливые очертания. Но, как водится в истории классической литературы, унес с собой свою тайну, оставив бесконечные разгадки другим поколениям и временам.
***
Услышим ли сегодня в ответ от «старца»: «Я не знаю, может быть, светает…»?
Ирина КАЛУС
ВЕРА
Опять бурлит страна моя,
Опять внутри народа битвы.
И к старцу обратился я,
Он в тишине творил молитвы.
И вопросил у старца я,
Что в тишине творил молитвы:
– Зачем бурлит страна моя?
Зачем внутри народа битвы?
Кто сеет нас сквозь решето?
И тот, и этот к власти рвется…
– Молись! – ответил он. – Никто
Из власть имущих не спасется.
1990
НАВАЖДЕНИЕ
Призраки с четвертым измереньем
В мир проникли плотным наважденьем.
Среди них ты ходишь и живешь,
Как в гипнозе, слыша их галдеж.
Лица их – сплошные негативы,
Мины их презрительно-брезгливы,
А в глазах, как мысль, мелькает цель,
Людям неизвестная досель.
Одного, другого ненароком
Тронешь, и тебя ударит током.
Мрак включен. Остерегайся впредь;
Ты задел невидимую сеть.
Тут система, ну а мы стихия,
А за нами матушка-Россия,
А за нами Божия гроза…
Все-таки гляди во все глаза.
1988
ГАЗЕТА
По вольному ветру, по белому свету,
По нашему краю
Проносит газету, проносит газету,
А я не читаю.
Я душу спасаю от шума и глума
Летящих по краю.
Я думаю думу; о чем моя дума,
И сам я не знаю.
И вот в стороне человек возникает
Подобно туману.
Прикрывшись газетой, за мной наблюдает,
Что делать я стану.
Рычит ли собака, мычит ли корова,
Система на страже.
Один соглядатай сменяет другого,
Газета всё та же.
Наверно, сживут меня с белого свету
И с нашего краю,
Где даже скотина читает газету,
А я не читаю.
1990
ДУБ
То ли ворон накликал беду,
То ли ветром ее насквозило.
На могильном холме во дубу
Поселилась нечистая сила.
Неразъемные кольца ствола
Разорвали пустые разводы.
И нечистый огонь из дупла
Обжигает и долы, и воды.
Но стоял этот дуб испокон,
Не внимая случайному шуму.
Неужель не додумает он
Свою лучшую старую думу?
Изнутри он обглодан и пуст,
Но корнями долину сжимает.
И трепещет от ужаса куст
И соседство свое проклинает.
1975
***
Ни великий покой, ни уют,
Ни высокий совет, ни любовь!
Посмотри! Твою землю грызут
Даже те, у кого нет зубов.
И пинают и топчут ее
Даже те, у кого нету ног,
И хватают родное твое
Даже те, у кого нету рук.
А вдали, на краю твоих мук,
То ли дьявол стоит, то ли Бог.
1984
ПРЕДЧУВСТВИЕ
Всё опасней в Москве, всё несчастней в глуши.
Всюду рыщет нечистая сила.
В морду первому встречному дал от души,
И заныла рука, и заныла.
Всё грозней небеса, всё темней облака.
Ой, скаженная будет погода!
К перемене погоды заныла рука,
А душа – к перемене народа.
1998
ЦАРЬ-КОЛОКОЛ
Гей, Царь-колокол! Где твои громы?
Снова медное царство мертво.
Погляди: что ни явь, то фантомы…
– Ничего, – говорит, – ничего.
Нет порядка, есть ложь и свобода,
Узок путь, а трясет широко.
Глубоко ли молчанье народа?
– Глубоко, – говорит, – глубоко.
На поверхности пень да колода,
Прямо тяжко, а сбоку легко.
Велико ли терпенье народа?
– Велико, – говорит, – велико.
Оттого о любви, о свободе
Не гремит колокольная медь.
Дух безмолвствует в русском народе,
Дух святой, и велит нам терпеть.
1993
ОКНО
Тень Петра по живому шагает.
– Это что за народ! – говорит. —
Из окна, как лягушка, сигает,
Али наша держава горит?
А прохожий ему отвечает:
– Государь, он в Европу сигает.
– А держава?
Прохожий плюется:
– А держава сгорела давно. —
Слышит: стук молотка раздается —
Это Петр забивает окно.
1988
ВОРОНА
Законы у нас косые.
Резоны у нас столбняк.
На каждом шагу Россия,
На каждом углу дурак.
Стоять на углу – резонно!
Один вот такой стоит.
На ветке сидит ворона,
А он на нее глядит.
Ворона – пустая птица,
Не птица, а Божий вздор.
Три дня на него косится,
Три дня он глядит в упор.
Глядят друг на друга в мокредь,
Глядят друг на друга в дым.
А кто кого пересмотрит,
То мы еще поглядим.
1998
АВОСЬ
Есть глубинный расчет в этом слове мирском,
Бесшабашность и мудрость с запечным зевком,
Свист незримой стрелы, шелестенье в овсе,
Волчье эхо и весть о заблудшей овце,
Русский сон наяву и веселие риска,
Славный путь напролом и искус василиска.
На авось отзывается эхо: увы!
Сказка русского духа и ключ от Москвы.
1971
***
Ой ты, горе, луковое горе!
Остановка: здравствуй и прощай!
На разбитом на глухом просторе
Вон окно мигнуло невзначай.
Я не знаю, может быть, светает…
Ничему не верится во тьме.
Чей-то голос за душу хватает:
– До свиданья! Встретимся в тюрьме.
1989
РУССКИЙ ЛУБОК
Во вселенной убого и сыро,
На отшибе лубочный пустырь.
Через темную трещину мира
Святорусский летит богатырь.
Облака, что бродячие горы,
Клочья пены со свистом летят.
Белый всадник не чует опоры,
Под копытами бездна и смрад.
Он летит над змеиным болотом,
Он завис в невечернем луче.
И стреляет кровавым пометом
Мерзкий карлик на левом плече.
Может быть, он указы бросает
И рукой его бьет по плечу.
Может быть, свою душу спасает:
«Осторожно! Я тоже лечу».
Облик карлика выбит веками,
И кровавые глазки торчком…
Эх, родной! Не маши кулаками.
Сбрось его богатырским щелчком.
1996
Подборку составил Евгений ЧЕКАНОВ
Ольга ХАПИЛОВА. Горизонты иные
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Дождевая вода не успела пролиться,
Затворённое небо бесстрастно и глухо;
Между бледных созвездий легла кобылица,
Над землёю навесив мухортое брюхо.
И струится с высот серебристая грива,
На сентябрьском ветру завивается в косы;
Удручённо глядит запоздалая нива,
Как морскою волной отливают покосы.
На асфальт перекрестий садовых дорожек,
Где налипшие листья прозрачны и квёлы,
То рассыплется горсть пенопластовых крошек,
То роятся, роятся белёсые пчёлы.
И хотя всё серьёзно, как быль или небыль, —
Снег по-зимнему падает прямо за ворот, —
Кобылица проснётся, откроется небо
И лучами замоет побеленный город.
***
Пусть на сонном маршруте особых предвестников нет,
Времена парусами уныло повисли на реях —
Я мечтаю доплыть до черты, за которой рассвет
Вспыхнет новым светилом – и тёмное сердце прозреет.
Там усталый апостол достанет из волн свой улов,
Серебристые рыбы блеснут одесную-ошую;
Но тогда надо мною исполнится истинность слов,
И отверстое небо вовек ни о чём не спрошу я.
Может, просто к покою потянется бренная плоть —
Хоть кого изведёт череда безнадёжных скитаний,
Только вымолвлю сердцем: «Воистину прав Ты, Господь!» —
И на веру приму роковой парадокс мирозданья.
***
…И однажды меня убьют, а я не поверю.
Даже если вдруг буду падать, как спелый колос,
И когда по округе всей разнесёт потерю
Кто-то очень родной и близкий рыданьем в голос.
И не дрогнут нисколько, нет, разбитые губы,
Лишь, промокнув насквозь, прилипнет к спине рубаха.
Так и буду стоять, моргать и хихикать глупо,
Не подумав даже закрыться рукой от взмаха;
И безмолвно сползать на землю, бледней бумаги;
На каком-то тряпье подмятом неловко лёжа,
Осязать меж пальцев горячие струйки влаги
И в людскую злобу не верить, не верить всё же.
***
Соберутся иерей с причтом,
Кто-то станет голосить громко —
Обо мне пойдёт молва-притча,
Мол, убита наповал громом.
Мол, как треснет пополам туча,
Да как рыком закладёт уши —
По всему видать, грехов куча…
А мне басни недосуг слушать —
Кто судил меня «судом Линча»,
Тот и дома у меня не был —
Я на пряничном коне нынче
Уезжаю прямиком в небо.
Пусть дорожка пролегла криво,
Но теперь я в стременах крепко.
Земляникой отдаёт грива
И иным ещё, слегка терпким.
Нет коню тому цены-платы,
И ступает он, живой, строгий —
Что ни шаг, то серебро-злато,
И не вязнут в облаках ноги.
А под нами – желтизна – донник,
Ясно светятся поля рожью.
Поспешай, скачи, скачи, коник —
Колесницу догоняй Божью!
НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ
В час, когда студное прошлое гидрой стоглавою
Перед ногами моими совьётся в кольцо;
Если Ты спустишься, Боже, на землю со славою,
Если и Ангелы в страхе закроют лицо;
Если разверзнутся книги и выведут тайное,
Если всё чуждое скроется в лаве густой —
Не отвернись, помяни милосердие крайнее,
И одесную стоящих Тебя удостой.
ИЮЛЬ
Где-то радуга в ручье тонет —
А в ином у нас тонуть не в чем;
И земля гудит-поёт-стонет,
И кузнечик под окном певчий
Так старается один, будто
Колесницы из-за гор мчатся.
Юный месяц пеленой спутан,
Ждёт, родимый, своего часа,
О свободе вышину молит —
Упованью дураков учит.
И несут в себе грозу молний
Кучевые облака-тучи.
А над тучами – просвет ясный
Улыбается тебе лично;
И в просвете том парит ястреб,
За собой взлететь зовёт-кличет,
Всё бледней, бледней его точка.
В тёмном небе полыхнёт-ухнет —
Зарождается строка-строчка,
Летним ливнем в пыль дорог рухнет.
И покатится поток пенный,
Напоит простор живой влагой,
Да разбрызгает стихи-песни —
Станут люди их читать-плакать.
ПОТЕРПИ ОБО МНЕ
В благодатном саду расцвели благодатные вишни;
Горевой пустоцвет, что Тебе я на это скажу? —
Потерпи обо мне, не секи меня, Боже Всевышний,
Может статься, и я этим летом на что-то сгожусь.
Ты воззри на меня: я раба-чужестранца покорней —
Потрепало изрядно челнок мой житейской волной.
Только Сам окопай эти жалкие, голые корни,
Только Сам Ты удобри участок земли подо мной.
И когда в другой раз Ты меня у дороги приветишь —
От обилия ягод склонюсь у всещедрой руки
И Тебе одному протяну я тяжёлые ветви.
Потерпи обо мне и покуда меня не секи.
ТАЙНА СТИХА
Пока ещё далече до греха,
Не становитесь избранной мишенью —
Ужели мало собственных лишений? —
Не разбирайте таинство стиха.
Есть право лечь к подножию креста,
Есть честь и слава поминальной тризны —
Но есть цена, цена прожитой жизни,
Как полцены печатного листа.
ПОСИДИМ У КОСТРА
Спрячут небо в вершинах колючих усталые сосны,
Заслонив на века без того сокровенную суть.
Посидим у костра… Если хочешь, я буду серьёзна;
К слову, вот тебе фляжка, давай-ка ещё по чуть-чуть.
Нет, давай до краёв и не чокаясь – знаю, не нужно,
Пусть в груди оборвётся на этом последнем рывке;
Потемнеет в глазах, и походная медная кружка,
Застонав, как от боли, сломается в нервной руке.
А когда рассветёт, и костёр догоревший потушат,
Может статься, последние эти туман и роса,
Мы домой побредём, словно голос сорвавшие души,
Пряча руки в карманах и в землю потупив глаза.
***
Надавила тоска мерзкой жабой-грудницей,
И слова в оправданье истратила все я:
Бог ты мой, как же нас отучают родниться,
Прямо в сердце волчцы недоверия сея!
Я почти что смирилась с инстинктами стаи
И с волками бок о бок по-волчьему вою —
А колючки наружу уже прорастают,
По-ежиному пряча меня с головою.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Озарён позолотою храм пятиглавый,
Там, где яблоку вечером негде упасть.
Свете тихий, сиянье Отеческой славы,
Агнец Божий, грядущий на вольную страсть.
Неповязанный волос откинут на плечи,
И не сгорбила спину пустая сума.
На Фаворской горе всё готово для встречи,
Замерла, ожидая, природа сама.
И внимает земля, ловит каждое слово,
Отдалённые звуки скрипящих ремней,
Тёплый шорох песка, шелест ветра сухого
И катящихся вниз по обрыву камней.
Обозначила даль горизонты иные,
Предстоят Серафимы, молитвой дыша,
И святые мужи Моисей и Илия
Во сретенье Твоё уже делают шаг.
Небо горнее днесь, торжествуя, застыло,
И пасхальную всё предвкушает весну.
Только плоть человечью внезапно, уныло
От начала, из древности клонит ко сну…
Сколько дней скоротечных за временем оным
Погребёт в океане вселенской тоски…
Вот, глаза протерев, по скалистому склону
Разметутся ближайшие ученики.
Но в минуту, когда на исходе надежды,
Из глубин потаённых вдруг вырвется стон —
Дай увидеть душой сквозь сомкнутые вежды,
Как пронизан лучами Твой пыльный хитон.
РАДОСТЬ
Растворился огонь в предночном часе,
Вижу отблеск живой Твоего града.
Чем воздать я смогла бы – прими, Спасе —
В благодарность мою и хвалу радость:
О всполохах зарниц, что грядут ночью,
Озаряя своим торжеством север;
Что ромашки растятся в срок точно,
Что качнётся под грузным шмелём клевер;
О стальных облаках, где парит коршун,
Распластав величаво крестом крылья.
Пусть становится день ото дня горше
И трясёт надо мною полынь пылью;
Скоро осень забрызгает лес краской,
И седая зима не пройдёт мимо —
Всё творенье стремится ко мне с лаской,
Потому что ношу я Твоё имя.
Аркадий ГОНТОВСКИЙ. Шёпот света на тонкой грани
ВРЕМЯ ВОЛЧЕЕ
…да нехто неведы имя волчие
вместо агнечя приимет неразумием…
Азбуковник, XIII–XIV вв.
Над безмолвием в пелене снегов
Гибло, долго
Рвал пространство вой, проникая в кровь
Песней волка.
А кругом снега заметали след,
В белом вихре до кровоточия
Проглядел глаза и почти ослеп.
Слушал волчее.
Эти мысли черны.
Чуждой вере верны.
Кто не знает вины,
Заходи со спины.
Жажда требует крови пролитой.
Время вяжет по жизни проклятой.
Время гиблое.
Время волчее.
***
Сквозь нескончаемый январь,
Сквозь ночи, напролёт,
По-над моим окном фонарь
Продрогший свет поёт.
Он что-то помнит и тогда
Раскрашивает снег,
Так осыпается звезда,
Заканчивая век,
И падает с небес янтарь
Не нужный никому,
Лишь очарованный фонарь
Поёт, пронзая тьму.
***
А наутро шёл снег,
Шёл и шёл без конца.
И стоял человек,
Человек без лица.
Словно вынули душу.
В кромешной тиши
Он стоял весь наружу,
Человек без души.
Он протягивал руку,
И его одного
Снег ласкал, словно друга,
И летел сквозь него.
***
Повернёшь за холмом – и навстречу потянутся избы,
Тишиною оконных провалов глядят и глядят —
Вот идёт человек из неведомых далей отчизны,
Может, следом за ним и другие вернутся назад.
Словно старые люди, потянутся взглядом навстречу —
Может, кто-то родной? Может, будет ещё старикам
Напоследок тепла и простой человеческой речи
За столом, где друзья и наполнен наливкой стакан.
Но кругом тишина, только вскрик потревоженной сойки,
Только шорох листвы, это осень вздохнула опять.
Просто ей на роду вспоминать и оплакивать – скольких
Мы теряем по жизни, едва успевая понять.
Тишиной, как молитвой, пронизаны ветхие избы.
Осень сыплет листву ворожбою у тёмных окон.
Но сама ни во что уж не верит, а шёпота лишь бы
Ворожит по старинке и плачет, не помня о ком.
***
Между печалью и грустью
Камень горючий лежит.
Кто моё сердце отпустит?
Сколько ни пробовал жить,
Не было счастья – и только
Бусинка-детство в горсти;
Выйду из дома и долго
Буду по свету брести.
Буду идти без дороги,
Сколько останется сил,
В храм, где забытые боги
Не забывали Руси.
Я подойду к ним с поклоном:
«Не обрекайте на суд».
Словно янтарь с небосклона,
Бусинку поднесу.
«Вот он я – сирый и босый».
И, может быть, за грехи
Тихая-тихая осень
Птицу отпустит с руки,
Чтобы нечаянной грустью
Слышалось в небе порой:
«Кто моё сердце отпустит?
Кто мне подарит покой?»
ДУША И ВРЕМЯ
Невольным вздохом растревожит,
Тепла попросит у судьбы.
А век натягивает вожжи
И поднимает на дыбы.
И в шоры! – сузив до предела.
Есть жажда, боль и удила —
Чтоб отступилась, занемела
И немотой изнемогла.
Пусть рвут и гибнут за удачу,
Но по душе – не норови!
Здесь по душе уже не плачут,
Вдруг поскользнувшись на крови.
Здесь миф свобод пьянит – и, слепо
Приняв объедки со стола,
Покорно разойдутся в склепы
Живьём гниющие тела,
Чтоб завтра, повторяя снова
По кругу безысходный бег,
Ещё вернее сжать оковы
Души оплаканной навек.
ПИСЬМО В ПЕТЕРБУРГ
Любовь моя, моя мечта далёко.
Сойдёт листва и упадут снега.
И у окошка, опершись на локоть,
Я буду грезить сны. И берега
Далёкие, окутанные тайной
Угаданной на выдохе строки,
И лёгкий взмах ресниц над розой чайной,
И лёгкое движение руки —
Коснутся и растают тишиною,
В холодном вихре канут за окном.
И тихо притяжение земное
Укроет чувства настоящим сном,
Где шепчутся серебряные плёсы
И дышит бесконечностью прибой.
Душе нужны мечтания и слёзы
И миражи за дымкой голубой.
***
Сестра моя – жизнь…
Б. Пастернак
Свет неистовый не ищу,
Безнадёга диктует стих.
Вспомню всё и за всё прощу.
Если можешь, и ты прости.
Есть несбыточное и прах.
Между ними ревущий мир,
Отражённый в твоих глазах.
Отражённый всего на миг.
А весна вновь ломает лёд.
И прозрачнее синева.
У весны есть сердечный код
И несказанные слова.
Есть несбыточное и прах.
И щепотка тепла в горсти.
И развеянное в ветрах:
«Ты прости меня, ты прости…»
***
В невесомости, вне желаний,
У истоков земли и рек
Я увидел глазами лани,
Как рождается человек.
А потом по сухому руслу
Уходили от бездны врозь
Боль… и я, отдаваясь чувству:
Что-то в жизни оборвалось.
И холодный поднялся ветер,
Настигал, прижимал к земле.
И входили в меня столетья:
Прах и тени в ревущей мгле.
***
Давно, вчера ли было так:
Когда творилось, что негоже,
Один законченный чудак
Искал заветное в прохожих.
Он всё заглядывал в глаза
И извинялся, глупо мямля,
Что не тускнеет бирюза,
Слезой упавшая на камни.
Что невозможно и нельзя
Так не по-божьи.
И всё заглядывал в глаза,
Когда с него сдирали кожу.
А был ли суд? Иль без суда?
Давно? Вчера ли? Разве важно?
Но говорят, один чудак
Воскрес однажды.
Он ходит вновь по городам,
Он что-то ищет в тьме прохожих.
И будто знает, никогда
Найти не сможет.
***
Огни, огни… В огне пространство.
И рвётся в небесах печать.
А поезда идут со станций,
Чтоб ничего не замечать.
И нет в ушедшее возврата.
И трепет «завтра» сердцу скрыт.
И всё любимое когда-то
В огне бессмысленном горит.
***
Свет займётся на тонкой грани
Тихим шёпотом позолот.
И печалью неведомой ранит,
И неведомым счастьем зовёт:
Как светло. И как больно. Не много,
Ведь не много надо тепла,
Чтоб душа средь круга земного
Радость светлую обрела.
Пробежит тепло, затуманит
Взгляд, скользнувший куда-то за
Шёпот света на тонкой грани.
И покатится тихо слеза.
***
Прозрачный свет, последнее тепло.
И хочется брести куда не зная,
Глядеть, как поднимаясь на крыло,
Уходит вдаль над горизонтом стая,
Запоминать деревья и траву,
Ловить их сон и редкий трёп сорочий,
И снова возвращаться в синеву,
Где исчезает журавлиный росчерк.
В поисках жемчужины
Евгений ЧЕКАНОВ. Азиат
Посадил азиат европейца
За решетку железную
И глаголет ему:
– Ты не бейся
О тоску бесполезную.
Погружается в сумрак кромешный
Жизнь твоя неповинная.
Посиди за решеткой, сердешный,
Подожди, когда сгину я.
Подожди, когда взмокнет эпоха
Новой слякотью ржавою,
Вот тогда и рассыплешь свой хохот
Над угрюмой державою.
Вот тогда европейской башкою
Всё смудришь не по-моему
И разгонишь железной рукою
Мою челядь помойную.
И пойдешь европейской дорогой
Безоглядной походкою…
А пока мою душу не трогай,
Посиди за решеткою.
Не забудь в этом сумраке рока
Только самого главного —
Не впускай в свое сердце до срока
Азиата державного.
Художественное слово: проза
Леонид МАЧУЛИН. Неизбежное. В голубом плену.
Рассказы
Неизбежное
В Крыму, на старой судакской дороге, через три часа после захода солнца, автомобиль, на котором они возвращались из блицкрига, не вписался в поворот. После яростной борьбы за существование, когда он одновременно крутил руль, жал на тормоз и тянул на себя ручник, автомобиль завис над пропастью. Она проснулась от смертельного визга тормозов, удара о дверцу, переднюю панель, снова о дверцу, потом об его локоть – и каким-то седьмым чувством поняла, что лучше не кричать, лучше стиснуть зубы, прикусить губу, что угодно, лишь бы не отвлекать его от этой схватки. Она еще не знала, что происходит, но поняла, что он сражается за них. Значит, есть надежда. Она молчала, и это давало им шанс.
Когда автомобиль замер на кромке между узкой асфальтированной полоской и пропастью, зацепившись непонятно за что задним мостом и гоняя воздух передними колесами, словно лопастями вентилятора, спасти их могло только чудо. Этим чудом могло быть всё что угодно. Даже ее молчание.
Когда он убедился, что они уже не летят (или еще не летят?) в пропасть, когда его мозг быстрее компьютера просчитал все возможные варианты их выживания, он едва слышно выдохнул и медленно, очень медленно расслабил пресс, за ним мышцы шеи, плеч, спины – и только после этого почувствовал на губах солоноватый привкус. Так, что дальше? Двигатель заглох еще во время маневров. Погасив фары, он очень тихо, даже сам себя едва слыша, одними губами спросил:
– Ты меня слышишь?
– Да, – ответила она так же одними губами, не шевелясь. – Слышу.
– У нас проблемка, – стараясь не испугать, прошептал он и скосил глаза в ее сторону. – Машина передком зависла над пропастью. Кажется. Потому что она как-то странно качается. Но если мы все еще не свалились вниз, значит, есть шанс. Надо ждать. Главное – не шевелиться. Ведь кто-то же должен проезжать по этой … – тут он не сдержался и истеричным шепотом выругался. – Не вытащат ночью – будем ждать до утра. Утром нас точно спасут. Если раньше, конечно, не свалимся вниз…
Последнюю фразу он не произнес. Зачем? Она и так едва дышит, напугана до смерти. Тем более он сам во всем виноват. Тоже мне, герой-любовник! Они задержались в номере, выехали позже и он решил сократить путь. Ехал бы по симферопольской трассе – ничего бы не случилось. А так – что выиграли? Он представил себе картинку: передние колеса над пропастью, автомобиль от порывов ветра качается, как стрелка весов: туда-сюда, туда-сюда…
Что дальше? До рассвета как минимум пять-шесть часов. Шестью шесть тридцать шесть, это триста шестьдесят минут. По миллиметру в минуту – триста шестьдесят миллиметров… Даже по полмиллиметра…
А ведь было всё так романтично! Он хотел любви – и она пришла. Он мечтал о красивой девушке – она была красива. Он рисовал ее идеальной – и ее характер, словно шаблон, совпал с его самыми нереальными желаниями. Казалось бы – бери, хватай, лови шанс, ты счастливчик! Ты выиграл миллион! Он же почему-то медлил…
Не торопилась и она. Нет, всё совпадало с тем, чего хотела она. Но именно это точное совпадение, поразительно точное, и тревожило ее. Так бывает только в книжках. Книжки про любовь пишут для подростков и простаков. Она же была достаточно умна, чтобы не поддаться искушению. Да, он ей нравится! Даже влюблена. Ну и что? Это ни к чему не обязывает. Они встречаются, у них великолепный секс, они могут не разговаривать неделями и делать всё синхронно – так, как делают только договорившись. Ну и что?
Каким-то седьмым чувством и он, и она ощущали, что, несмотря на обоюдное неосознанное сопротивление, они всё равно сближаются, становятся всё роднее. Спустя три-четыре месяца те, кто видел их вместе в первый раз, принимали за семейную пару – настолько естественно они смотрелись. Тем не менее каждый продолжал жить в своей семье и старательно уходил от разговоров о будущем…
Когда глаза привыкли к темноте, они увидели огромное звездное полотно, закрывшее им лобовое стекло. Звезды бесцеремонно мигали, и на мгновенье ей показалось, что они раскачивают их автомобиль! Она одернула себя и приказала успокоиться. Господи! Всё будет хорошо. Если они еще живы, значит, им не суждено погибнуть, значит, их спасут. А ее любимое авто, в котором они провели столько упоительных часов, раскачивается не для того, чтобы убить их, просто автомобиль – живой, он дышит: вдох-выдох, вдох-выдох…
– Милый, ты слышишь меня? – шепотом спросила она.
– Да. Что?
– Ничего. Я просто хотела сказать…
– Я знаю. Давай поговорим об этом потом?
– Хорошо.
Он судорожно продолжал считать: по миллиметру в минуту – это очень много! А если по полмиллиметра? Всего восемнадцать сантиметров. Черт! Всё равно много! Даже половина половины нарушит равновесие! Он скосил глаза влево и при свете звезд увидел за стеклом свой край дороги. Если медленно, не перенося центра тяжести, подвести руку к дверце, затем – рвануть ручку, толкнуть дверцу и, спружинив ногами, выбросить тело из машины, может быть, удастся уцепиться за камни. Конечно, машина рухнет вниз. Шансы на его спасение мизерны, но они есть. А как же она?
…А она в это время вспоминала, что последние месяцы нехотя просыпалась каждое утро. Нехотя – потому, что рядом было чужое лицо. Лицо человека, ставшего чужим за такой короткий срок! Ее муж считался идеалом мужчины: не пил, не курил, приносил в семью всю зарплату, был эрудирован, умел блеснуть словом, и всё же, всё же… Она давно смотрела на свою юношескую любовь глазами зрелой женщины. Ей не хватало какой-то глубины, полноты ощущений. Хотелось чего-то необычного, незаурядного. И она не торопилась с разводом, надеялась, что вдруг это придет само собой. И дождалась!
…Нет, он не мог спастись без нее. Без нее он станет обыкновенной скотиной, простым животным. Зачем? Вот если бы кто-то проезжал мимо, увидел бы их, осторожно осмотрел место аварии, аккуратно зацепил бы трос за крюк для прицепа и так же не спеша, но резко сдернул их обратно на дорогу… Всего на девять сантиметров, но – в противоположную сторону!
…Они отправились в Крым на выходные дни. Выехали в пятницу, после работы, чудесно провели субботу и воскресенье. Знали, что пора возвращаться, но никак не могли надышаться крымским воздухом, и вместо четырех, ну, максимум, пяти часов вечера, выехали в семь. И вот – приехали.
А какие были планы! Это он настоял на поездке. «Надо отдохнуть, – сказал он неожиданно, – собраться и со свежими силами пойти на развод. Ведь очевидно – мы рождены друг для друга. Разве не так?»
Что она могла возразить? Ей было так хорошо, что она лишь сонно пошевелила головой на его плече. Они столько раз собирались сделать это – и каждый раз жалели своих супругов. А может, просто боялись остаться друг с другом на всю жизнь?
Теперь уже точно они останутся вместе на всю жизнь…
– А если я переберусь на заднее сиденье? Тогда центр тяжести будет в нашу пользу? Мы будем спасены? Как ты думаешь?
– Маловероятно. Машина рухнет от малейшего качка, дуновения ветра. Но если хочешь – давай проверим. Хочешь?
– И что же делать?
– Ждать.
Она закрыла глаза и не сказала, что не хочет ждать. Она представила, как бросается в его объятия и жадно целует в губы в последний раз, представила, как машина летит вниз, кувыркаясь, ударяется о камни, переворачивается – раз, другой, третий, а она всё это время, до самого удара о землю, до самого взрыва, целует его и – даже не плачет. Просто не успевает.
В голубом плену
То удивительное лето напоминало домотканую дорожку, какую ткала когда-то мать моего отца – полоска за полоской, черная, серая, красная, синяя, белая, черная…
Как-то зимой дед достал с чердака потемневшие от пыли и времени деревянные бруски, жерди, колышки непонятного назначения – и стал собирать это всё в одной из двух комнат старого дома. На другой день, проснувшись, я увидел огромную, по моим детским представлениям, конструкцию.
– Что это, дед?
– Увидишь сам.
Справившись со стряпней на кухне, бабушка села на табурет расставив ноги, положила на фартук несколько цветных клубков, стала привязывать концы к заранее натянутым дедом нитям, что-то поколдовала, жалуясь на никудышнее зрение, и… На моих глазах стала рождаться домотканая дорожка. Родившуюся в девятисотом году бабушку в детстве учила ткать ее бабушка, и эта традиция, сохранившая секрет мастерства из глубины веков, ожила в век космических полетов и телевидения…
Потом короткими зимними днями она до самой весны бросала между натянутыми нитками челнок, прихлопывала дранку брусом, подвешенным на веревках, меняла ногами положение педалей, а те в свою очередь – расположение натянутых нитей: верх-низ, верх-низ; снова и снова бросала челнок… Я завороженно смотрел, как она ловко управляет старинным станком, и всё пытался понять механику этого таинства.
В начале зимы, когда бабушка взялась распускать на узкие полоски старую одежку и какие-то куски цветной ткани, а затем сматывать всё это в разноцветные клубки разного размера, я спросил, для чего она это делает. «Скоро увидишь», – ответила она, и я сразу потерял интерес к ее странному занятию. Теперь же, когда она из этих клубков наматывала дранку на челноки, а ими ткала дорожку, я сразу вспомнил ее тихое ворчание при керосиновой лампе долгими зимними вечерами.
Вначале дорожка была настолько короткой, что вся помещалась на станине. Потом стала расти, но так медленно, что я сгорал от нетерпения – мне хотелось поскорее походить по ней, такая она была красивая и необычная. В ту зиму бабушка соткала несколько дорожек разной длины и ширины – на пол и на лавки. Они долго украшали обе комнаты, создавая ощущение бесконечности, оберегали ноги от зимних холодов.
Бабушкины дорожки: цвет за цветом, полоска за полоской – черная, серая, красная, синяя, белая, черная, без алгоритма, как на душу ляжет, – я вспоминал их, когда в мою размеренную, обыденную жизнь приходило что-то неожиданное – тяжелое или радостное. Со временем научился спокойно принимать плохое и хорошее, достойно переносить и то, и другое. Правда, это умение снизило эмоциональный накал восприятия – как плохого, так и хорошего. Но детские воспоминания всегда оставались сильными и яркими. Может, то особенное, полосатое лето потому и запомнилось, что своими яркими полосками эмоционально вернуло меня в родную деревню?
Тем летом мне удавалось немало времени проводить на даче. И хотя рядом было много домашних, это не мешало мне каждую свободную минутку проводить с Ней. Никто не мог нам помешать, потому что, оставаясь вдвоем, мы никого не замечали и в любую минуту суток могли уединиться… Я что-то делал в саду – Она была рядом. Садился работать над книгой – Она без конца заглядывала в кабинет, словно спрашивая: ты не забыл обо мне? может, я буду набирать текст под диктовку на твой ноутбук?
Я не мог забыть о Ней – это было Божье создание… Но когда вожжа попадала под хвост, никто не мог ей угодить. Даже я не решался к ней приближаться. Ее огненно-вспыльчивый характер, с эмоциями нараспашку, так напоминал мне мой собственный, что я лишь издали тихонько любовался Ее темпераментом. Впрочем, Она, как и я, легко и быстро отходила, и затем вела себя как ни в чем не бывало…
Тем летом я сильно повредил ногу, мне наложили гипс и на полтора месяца приговорили к костылям. Когда боль первых дней заглохла, я вернулся к работе над книгой. И хотя Ее старались не пускать ко мне, Она характером прокладывала тропинку и пробивалась к моей постели. Подходила, боясь сделать больно, гладила тонкими, нежными пальцами гипс, смотрела распахнутыми глазами в слезах, как будто не верила, что такое могло произойти со мной – ведь Она так любила меня!…
Какое-то время я не выходил из кабинета, в одночасье ставшего мне спальней. Она же, напротив, еще чаще стала бывать у меня, без приглашения ложилась рядом и тихо лежала, как будто тем самым снимала мои страдания и одиночество.
С легким характером, веселая, улыбчивая, она постоянно что-то тихонько напевала. Особенно Ей нравилось включать на моем смартфоне радио или музыку, а под нее петь и танцевать для меня. Она могла делать это непрерывно – лишь бы я этим любовался. Иногда мне казалось, что Она подсознательно лечит меня своим пением и танцами…
Её эмоции перехлестывали через край и словно будили мой остывающий вулкан. Даже разницу в возрасте Она нивелировала тем, что постоянно просила меня что-нибудь рассказывать. Вот тогда я впервые и поделился с ней своей историей про бабушкины домотканые дорожки. Она завороженно слушала, глядя голубыми глазами так, словно это Она была старше, а не я. И тогда, забыв обо всем – о делах, обязательствах, о книге, я вспоминал свое детство. А иногда нес всякую чушь, лишь бы оставаться в Ее голубом плену…
Тем летом Ей особенно нравилось дарить мне цветы. Всякие. Стоило какому-нибудь цветку ей понравиться, как Она тут же лишала его жизни и бегом несла мне. Всякие – полевые, с клумбы, свои, чужие, – лишь бы они пришлись Ей по душе.
Никто и никогда за всю мою жизнь не дарил мне столько цветов…
Ей было два с половиной года. Это была моя дочь.
Юрий МАЗКОВОЙ. Жить рядом с океаном
Рассказы
Мой опасный друг
«Take it easy»
(«Не переживай ты так»),
распространенное австралийское
выражение
Подружились мы с океаном не сразу, хотя я стремился к этому давно. В конце концов такая возможность представилась. Переехав в Сидней, мы даже мысли не допускали о том, чтобы искать жилье дальше чем в километре от берега. И (о счастье!) нам повезло снять квартирку аж с видом на океан.
Вид оказался недешевым: мне пришлось бросить курить, пить и ограничить себя во многом другом. Однако же, если выйти на балкон, попросить жену подержать тебя за ноги, перегнуться через перила и вытянуть шею, то можно было увидеть кусочек залива Марубра. Настоящего тихоокеанского залива!
Мы гордились тем, что живем здесь, и не подозревали обо всех чреватостях жизни в прибрежной зоне. Единственной потенциальной здешней проблемой, как мы наивно считали тогда, были акулы. Мы ошибались.
Едва распаковав чемоданы, мы быстро переоделись и побежали к океану. Для человека, плававшего до этого лишь в почти пресной воде Балтийского моря, первое знакомство с Тихим океаном оказалось шокирующим. Попробуйте смешать соль с перцем (да-да, именно с перцем, ибо, клянусь Всевышним, перец в Тихом океане есть!) и сыпануть себе в глаза. Вот примерно так я себя и ощутил:
– А-а-а-а!..
– Take it easy, – сказал мне некий дядя, оказавшийся поблизости, – морская соль полезна для здоровья.
Да уж, я давно понял, что всё, вызывающее отвратительные ощущения, почему-то обязательно полезно для здоровья.
Первой вещью, купленной в Австралии, были очки для плавания. Но это решило только одну проблему – проблему соли. Через несколько дней, придя на пляж и нацепив очки, мы с сыном бодро зашагали к воде.
– Эй! – крикнул нам один из загоравших. – Будьте осторожны! Голубые бутылки (blue bottles)!
Мой английский тогда был «не очень», и я подумал, что парень шутит по поводу того, что мы приезжие: наши тела, лишенные загара, и впрямь немного отдавали голубизной. Но зайдя в воду всего по колено, я вдруг почувствовал, что меня как будто полоснули бритвой по икре. Глянул вниз – крови не было, но рядом с ногами плавала какая-то голубая прозрачная тварь, похожая на большой вареник и окутанная длинными синими ниточками. Одна из этих нитей и обернулась вокруг моей правой икры.
Я заорал и бросился на берег. Мой сынишка с воплем присоединился ко мне: он получил то же самое, но вокруг левой икры.
– Take it easy… – начал парень, который пытался нас предупредить минуту назад.
– Что? Неужели это тоже полезно для здоровья? – процедил я сквозь стиснутые зубы.
Он немного опешил.
– Не думаю, что полезно, но совершенно точно, что не смертельно. Попарьте ноги в горячей воде и обязательно примите какие-нибудь антигистамины. Через несколько дней пройдет.
В тот вечер нам позвонила мама:
– Как вы там? Не умираете от жары?
– Нет, что ты, – заржал я, – мы с Олегом даже парим ноги три раза в день!
С тех пор мы не любили залив Марубра. Слава Богу, небольшие заливчики в Сиднее идут один за другим и, когда болячки на ногах зажили, мы пошли на пляж «Куджи».
Первое, что я там увидел, это здоровенный плакат «Coogee is alcohol free zone». Я знал значения всех слов на плакате и перевел надпись как «На Куджи алкоголь дают бесплатно». «Я приехал в правильную страну», – мелькнуло у меня в голове. Но поиски бесплатной выпивки ни к чему не привели. Отчаявшись, я спросил у местной бабушки: «Ну, где же здесь бесплатный алкоголь?». Та растолковала, что на самом деле плакат означает «На Куджи пить нельзя». А затем, увидев, как вытянулось мое лицо, произнесла традиционную австралийскую фразу:
– Take it easy…
Следующий морской курьез случился на пляже «Бронти», куда нас пригласили на барбекю. Как выяснилось позже, этот пляж – один из самых коварных в Сиднее. Когда мы с супругой решили окунуться, нас тут же накрыло невесть откуда взявшейся волной и потянуло в бездну, крутя как флюгер. Моментально исчезло понимание, где верх, а где низ. Было полное ощущение, что нас засасывает в огромный унитаз.
Когда нас выплюнуло на поверхность, берег оказался очень далеко, люди вдали выглядели не больше муравьев. Кричать сил не было, и мы замахали руками. Довольно быстро к нам подгребли спасатели на досках, пристегнули нас к доскам липучками и доставили к берегу. Убедившись, что серьезных повреждений мы не получили, они решили поучить нас уму-разуму:
– Ну и какого ж черта вы полезли в рип?
– Куда?
– В рип! Это водоворот, по которому прибойная вода скатывается обратно в океан.
– Но мы выбрали вроде как тихое место. Без пены…
– Вот дурни! Отсутствие пены и есть первый признак рипа! В следующий раз купайтесь в пене, как русалки, – спасатель подмигнул моей жене. – Ну а сейчас… Take it easy!
Так мы привыкали и к океану, и к этой фразе.
После этого эпизода я стал купаться в рокпулах, то бишь в «скальных бассейнах». Но тут появились опасности иного рода. Как выяснилось, сиднейские студентки и прочие молодые здешние женщины имеют обыкновение принимать вокруг рокпулов солнечные ванны не только без лифчиков, но еще и в трусиках по размеру не больше фигового листика. А поскольку рокпулы – это бассейны, вырубленные в скалах, и идти к ним надо тоже по скалам, то заставить себя смотреть при этом под ноги ой как непросто. Ведь кругом такое… Так что мужские травмы около рокпулов – очень типичная вещь.
Однако нет худа без добра. Моя супруга – типичная сова, и поднять ее рано утром для принятия океанских ванн было прежде непростой задачей. Но когда она выяснила причину ссадин, появляющихся на моих конечностях после каждого утреннего купания, то стала как миленькая вставать рано – и сопровождать меня на водные процедуры. Частота моих падений резко сократилась.
Конечно же, жить рядом с океаном – это здорово! Но во всем есть и негативная сторона. Если вы решили жить у Тихого океана, то будьте готовы ко всякому. А впрочем, take it easy…
Стоматологический этюд
Для некоторых вещей справедливо правило «чем больше, тем лучше». Например, для денег. Другие имеют свой оптимум, например, женщины. А третьи приносят мучения при малейшем отклонении от нормы! Например, зубы.
У меня, как недавно выяснилось, тридцать четыре зуба, два из которых лежат горизонтально в кости под нормальными зубами. Так вот один из этих двух, как сказал ортодонт, стал причиной отторжения имплантов, которые этот дядя мне поставил.
Я сразу догадался, зачем врач это сказал. Таким образом он давал мне понять, что он тут ни при чем. На мою тираду: «Ты же, стервец, видел прекрасно на рентгене, что у меня там лежит этот лишний зуб! Почему же ты продолжал вворачивать эти импланты?» он ответил пожатием китайских плеч.
Выбор передо мной был поставлен драматичный: либо ставь мост через две дырки, либо, если все-таки хочешь импланты, удаляй лишний зуб. А для этого надо бурить кость.
Ситуация усложнялась с каждым днем. Тот специалист, который ставил импланты, наотрез отказался делать операцию сам и отвел меня к хирургу. Хирург-немец, обладавший ученой степенью, бесцветными глазами и красноватым носом, сказал, что это дело плевое, и предложил сделать операцию в госпитале на следующей же неделе.
Цену немец обозначил низкую. Но я был несколько обескуражен разницей во мнениях двух врачей. Китаец-ортодонт считал, что ситуация сверхсложная, что рядом нерв, что в моем возрасте этот чертов зуб уже сросся с костью и что «лучше туда не лезть». А немец-хирург сказал, что это элементарно, как «два пальца об асфальт». И кому же верить?
Ходить с перекошенной рожей после повреждения нерва мне не хотелось. Последовав совету жены, я решил потратить время на более глубокое изучение проблемы. Обратившись еще к нескольким хирургам-дантистам и заплатив им сполна за каждую консультацию, я получил новую информацию.
Толстая гречанка, единственная обладательница усов из всех моих консультантов, увидев снимки, схватилась за сердце и долго кричала, размахивая волосатыми руками, что трогать ничего нельзя, а нужно спокойно дотянуть до конца жизни. Кричала она так убедительно, как будто до этого конца мне было уже недалеко.
Симпатичный, харизматичный, лысый и бородатый еврей, потирая руки, сказал, что он с удовольствием сделает мне операцию. Зуб он удалять не будет, а просверлит прямо через него две шахты, построит стенку из искусственной кости по окружности каждой шахты, а уже в центр поставит имплант. Это, – заметил он, – новейший метод, который дает многообещающие результаты. На мой вопрос, сколько таких операций сделал лично он, лысый бородач честно ответил: «Пока ни одной». В его глазах я прочел: «Но мне очень хочется попробовать!»
Подумав, я решил обратиться к некоему признанному светилу в этой области. Светило не сказало ничего, потому что его консультации надо было ждать два месяца. И если догонять я еще могу, то вот ждать долго не могу вообще.
После некоторого размышления я выбрал немца. Конечно, за это был тут же отшлепан женой. Она считала, что надо дождаться, когда свой вердикт вынесет светило.
Операция была сделана в госпитале под общим наркозом. После десяти дней приема антибиотиков мой вес сократился на четыре кило. И это понятно: все дни я провел на толчке, пытаясь при этом поверить, что такова нормальная реакция организма на лекарство. После недельного отдыха началось вторичное воспаление и меня опять посадили на антибиотики. У них было другое название, но эффект был тот же.
Я вспоминал Корчагина и Мересьева и крепился. Наступил решающий момент: мне сделали ортопантограмму. И панорамный рентген выявил, что зуб так и не удалили!
Правда, это выяснил я сам, а не панорамный рентген. И несколько позже. Рассматривая снимок в кабинете врача, я еще сомневался.
– Мне кажется, зуб так там и сидит… – лепетал я.
– Так и должно казаться, – успокаивал меня врач. – А на самом деле это не зуб, а полость, которую я вам заполнил синтетическим материалом.
Я понял, что надо брать быка за рога. Потребовал диск со сканом на руки, пришел домой и всё внимательно изучил (я, кстати, хорошо разбираюсь в рентгене сварных швов). Посмотрев 3D-снимки не торопясь, убедился, что зуб все-таки и ныне там.
Жена остановила меня в последний момент. Остановила вопросом: «Куда это ты собрался с молотком?»
Как все-таки хорошо иметь любящую жену! Она взяла ситуацию в свои руки – и светило согласилось принять меня вне графика, в личное время. Изучив снимки, светило сжалилось и прооперировало меня само. И теперь мой зуб лежит у меня дома, на полке, в отдельной баночке.
Конечно, пришлось помучиться, ведь в этот раз челюсть мне разворотили значительно сильнее. После двух общих наркозов и нескольких недель на сильных обезболивающих состояние мое оставляло желать лучшего. Но постепенно все-таки молодость взяла свое, как сказала мне девяностолетняя соседка.
Когда выяснилось, что за вторую операцию должен будет заплатить первый врач, причем вчетверо больше, чем операция стоила бы у него, мне совсем полегчало.
Другой мужчина
Он всегда рядом, этот везунчик. Он подтянут, мускулист, у него мужественный вид, на который всегда все западают. Он классно говорит, а одевается так, что окружающие невольно задерживают на нем взгляды. Хотя и неброско. Его рабочий кабинет в безупречном порядке, хоть сейчас на обложку журнала «Money». Он никогда не ищет нужные документы, поскольку отлично знает, где они лежат. Его галстук всегда соответствует костюму.
Он высокого роста и классно танцует в «стиле Джеймса Бонда». На корпоративах все смотрят на него. Если попросят, он даже может спеть поставленным чистым голосом.
Он никогда не опаздывает и заканчивает все проекты в срок, не выходя при этом за рамки бюджета. Он не раздражается, даже разговаривая с дураками, находит способ и имеет терпение всё доходчиво объяснить. А от безнадежных сотрудников избавляется легко, причем так, что они даже не обижаются. Ему всегда приходят в голову отличные идеи; когда он берет слово, все замолкают и слушают с интересом. У него такой спокойный голос и располагающая манера, что даже накаленная обстановка разряжается, когда он начинает говорить.
Он знает четыре языка, причем те, на которых говорят самые важные клиенты. Его речевые обороты красочны и образны на всех языках.
Каким-то образом он умудряется уделять много времени своим детям, и они искренне хотят «быть как папа», а жена от него без ума. Она заботится о нем и помогает в карьере.
Он всегда где-то рядом: на работе, на встречах с клиентами, в телевизоре, он отражается в женских взглядах. Другой мужчина. Он дышит мне в затылок или, наоборот, идет впереди. И мне приходится всё время стараться не подкачать. Обнадеживает только одно: для кого-то я тоже – другой мужчина.
Литературный процесс
Собств. инф. Просека Василия Казанцева
2 февраля 2021 года окончил свои земные дни выдающийся русский поэт Василий Иванович Казанцев. Значение его творчества для отечественной литературы осознано по сей день далеко не всеми его современниками. Между тем этот поэт прорубил в густой тайге нашей словесности столь широкую «просеку», что ее невозможно будет не увидеть даже через несколько столетий. Казанцев стоит в одном ряду с Тютчевым и Фетом; явленный им уровень владения поэтическим словом – и, шире, уровень осмысления и творческого отражения им того, что происходило и происходит с каждым из нас на скользящей сиюминутной грани нашего бытия, – потрясает.
Прожив внешне тихую человеческую жизнь, Василий Иванович произвел поистине «революцию» в русской поэзии, сдвинув на задворки и кричащую публицистику, и плоскую вербальную эквилибристику. Этот поэт всегда двигался только в глубину, не идя в своем творчестве ни на какие компромиссы с современностью. И ушел так далеко, что в ближайшие века сугубое большинство неофитов русского стихосложения будет обречено видеть только его спину. А сам он будет всё время шагать впереди.
Редакция русского литературного журнала «Парус» скорбит о кончине замечательного лирика, лауреата Государственной премии России В.И. Казанцева и выражает соболезнование родным и близким покойного.
Собств. инф. Поздравляем Арбена Кардаша с юбилеем!
11 февраля 2021 года отмечает свое 60-летие выдающийся лезгинский писатель, народный поэт Дагестана Арбен Кардаш. Наш журнал публиковал его стихи в переводе Евгения Чеканова.
Редакция русского литературного журнала «Парус» сердечно поздравляет Арбена Мехединовича с юбилеем, желает ему отменного здоровья и творческого долголетия.
Ренат АЙМАЛЕТДИНОВ. Несколько слов о поэзии В. Левашова
Со стихами Виктора Левашова меня, заведующего отделом поэзии «Паруса», познакомил в 2016 году Евгений Феликсович Чеканов, приславший по электронной почте первую книгу Виктора «Короткое лето». Впоследствии стихи из нее трижды украшали наше издание. Чем же они привлекли меня, кроме того, что я всегда с особым вниманием отношусь к рекомендациям старшего коллеги по журналу? Как мне работалось с ними при составлении подборок для поэтической рубрики?
На второй вопрос отвечу сразу: работалось приятно. Стихотворения из четырех разделов книги подбирались, притягивались друг к другу, казалось, с тем же удовольствием, какое испытывал поэт в процессе их сочинения:
Как приятно
подбирать слова
к шуму леса,
запаху дождя,
сразу с места
или погодя.
Между тем автор честно признаётся: «Пишу я небрежно, пишу наугад. Слова попадаются в лад и не в лад». И действительно: «походка» его стиха зачастую угловата, образность местами надуманна и несуразна, о качестве рифмы иной раз и вовсе хочется промолчать. Читаешь порой, и кажется: еще строчка-другая в таком духе – и, споткнувшись, покатишься кубарем по ступенькам, как маленький Витя из стихотворения «Я в цирке, помню, грохнулся с лестницы…» Но каким-то чудом поэтическое равновесие всякий раз удерживается, и тогда невольно задумываешься: а недостатки ли это? Что если «немножко нервная», с обэриутскими «родимыми пятнами», полуёрническая поэзия Виктора Левашова и не может быть иной?..
Чистой радостью творчества отмечены многие стихотворения поэта. Но одного этого ему, конечно же, недостаточно – и свои намерения он формулирует предельно конкретно:
А я как воробей, чирикаю взахлёб,
пытаясь раздробить умов застывших лёд.
Разбудить современника, помочь ему стряхнуть с себя морок будней, заглянуть в себя и за горизонт бытия – задача, требующая от писателя не только таланта и дерзновения, но и большой личной ответственности. Именно поэтому, растормошив читателя, Виктор Левашов не оставляет его, взъерошенного и растерянного, в предрассветном мареве, но щедро делится с ним путеводным светом своих поэтических озарений.
Понимая, что такая ответственность перед читателем невозможна без смирения и самоограничения, в собственной жизни Виктор Левашов готов обойтись малым (но отнюдь не меньшим, чем в знаменитом хлебниковском «Мне мало надо!..»):
Оставьте мне лишь уголок потише,
окно в стене, над головою крышу
и право жить по собственным часам.
Всё остальное выдумаю сам.
Чуть выше я совсем не случайно написал о всматривании в горизонт, преодолении границ обыденности. Об этом, деликатно подсказывая читателю единственно верный ориентир, говорит и наш поэт:
Берёзок плач, стенанья уток,
скелет моста… Дорога
смыкается у горизонта, будто
уходит в царство Бога.
Из бортовых тетрадей
Евгений ЧЕКАНОВ. Конец рабочего дня
Из рассказов конца 70-х годов
Начальник летел мимо Мурашкина на полной скорости – и уж совсем было пролетел, но вдруг оглянулся, вгляделся и радостно сказал:
– Здорово, Иван Сергеич! Ты как, в добром здравии? Ну, тогда я тебе, слушай, поручение дам. Сходи вставь раму в седьмой комнате.
– Всегда пожалуйста, – откликнулся Мурашкин. – Это во втором общежитии, что ль?
– Да-да-да! – крикнул начальник, скрываясь за углом. – Во втором, в седьмой!
Столяр покашлял и, с сожалением взглянув на окно мастерской, в котором маячила сутулая фигура художника Олега Семеновича, изменил направление своего движения. До второго общежития было недалеко, минут пять неторопкого ходу.
Ящик с инструментом был у Мурашкина в руке. Без ящика он во дворе фабрики не появлялся – так повелось с той самой поры, когда он понял, как надо себя вести в здешних местах. Ящик был из фанеры, громоздкий, зато ручка ножовки и часть топорища, выглядывавшие из него, сразу бросались всем в глаза. Все понимали: человек идет не просто так, а по делу.
Иван Сергеевич числился здесь, на фабрике, столяром ЖКО, но работу ему поручали всякую. Он и плотничал, и красил, и штукатурил, и облицовывал – ни от какого дела не отказывался. Поначалу эта его черта настолько всех удивила, что ему в глаза говорили: «Ты чего, мужик, – рехнулся?». Потом привыкли. Да и как-то так получилось, что за первые же полгода столяр выполнил все неотложные работы. Начал с тех, за которые до него никто и браться-то не хотел – с помойных решеток, с туалетов. А потом и другие дела переделал. Остались мелочи – по ремонту кой-где ковырнуться, ящик под мусор сляпать, стекло вставить… Повседневка, одним словом.
Была даже такая полоса, когда начальник ЖКО и вовсе стал Мурашкина после обеда домой отпускать. Однако вскоре такое сладкое житье кончилось по причине конфуза: под главным инженером фабрики рухнул в общежитии пол. В общежитие пузана этого заносило раз в год, не чаще, – и вот, поди ж ты, ступил как раз на гнилое место. Ясное дело – расшумелся, ручонками размахался. Где Мурашкин? Подать сюда Мурашкина! Прискакала к Ивану Сергеевичу на квартиру деваха с проходной – и застала хозяина за чаепитием. Ну, тут уж всем попало – и столяру, и комендантше, и самому начальнику ЖКО. Лай стоял – хоть святых выноси…
На другой день, поуспокоившись, начальник Мурашкину сказал:
– Ты, Иван Сергеич, больше домой в рабочее время, слушай, не ходи. Не надо…
– Это-то мне понятно, – ответил столяр, – не пальцем деланы. А только где ж мне находиться, когда работы нет? У меня ведь тут ни сарайки, ни будки. Может, какую ни то пристроечку всё ж таки сгоношу? Вон там, слева от мастерской, местечко пустое есть…
– Не велено, Иван Сергеич. Я уж закидывал удочку: ни в какую. А ты, слушай, вот что: ты бегай по двору, чтобы тебя видно было. Побегай да покури, покури да побегай. Понимаешь?
– Понять несложно, – вздохнул столяр. – Понимаем. Только вот…
– Вот таким макаром, Иван Сергеич! Ну, с богом!
И умчался.
С той поры Мурашкин и бегает. До обеда, худо-бедно, работа для него находится. А потом начинается… Со стороны глянуть – ухохочешься. Двор у фабрики маленький, спрятаться негде. Бежит Иван Сергеевич, в руке ящик с инструментом, вид озабоченный: ни дать ни взять, где-то крышу с цеха сдуло. Однако ж заходит – забегает! – по пути к Олегу Семеновичу, выходя от него лишь часа через два. Оттуда снова круг по двору дает и – в цех, с ремонтниками калякать. От них, опять же через двор, – в проходную. Ну, а там уж и конец рабочего дня не за горами…
С одной стороны, оно вроде бы и ничего – и время кой-как тащится, и зарплату начисляют. С другой – как-то неловко, словно от самого себя хоронишься.
…Задумавшись, Мурашкин не заметил, как подошел к общежитию. Открыв тяжелую дверь, вошел в темный коридор, поднялся по скрипучей лестнице и постучал в седьмую комнату. Никто не отозвался. Столяр постучал еще раз, подергал за ручку – дверь заперта. Прошел по коридору дальше, заглянул на кухню. Здесь, в большой комнате с высоким потолком, стоял гомон, как на базаре. Все четыре обитательницы второго общежития были тут – одна старуха стирала в жестяном корыте, поставленном на табуретки; трое других копошились у газовых плит.
– Привет труду! – сказал столяр.
– Ой, Иван пришел, – всплеснула руками одна из старух. – Иван! Да ты привинтил бы мне ручку-ти к двери, совсем отвалилась ручка-ти! Я вить заплачу тебе, ты не бойся…
Вторая старуха бросила стирку и, уперев мыльные руки в бока, закричала на первую неожиданно молодым, визгливым голосом:
– Што! Што ты пристала к человеку! К тебе, што ли, пришли? Ишь ты, барыня, разлетелась! Взяла сама да прибила, невелика птица!..
– Мил человек, да ты, поди, ко мне? Да? Вот обрадовал-то, дай те бог здоровья, – подскочила к столяру высокая, костлявая старуха Твердухина. – Подём-ко, подём, я те покажу, чево она мне наделала…
Она цепко схватила Мурашкина за рукав и вытащила в коридор.
– Нарожать? – донеслось до столяра с кухни. – Нарожать дело нехитрое, да ты поди их вынянчи, да вырасти, да на ноги поставь! Нарожать!..
– Подём, подём, мил человек, – приговаривала старуха, увлекая Ивана Сергеевича вперед по коридору. – Я тебя и угощу, у меня есть, я припрятала. Это у тех ростопырок нету никовда, а у меня всегда есть…
Подойдя к своей двери, она оглянулась и быстрым движением вынула откуда-то ключ. Войдя, тут же стала тыкать длинным острым пальцем в сторону окна:
– Вот вить, вот, ты смотри – это всё еенных рук дело. У меня окошко всегда запиралося, это всё она, бесстыжие глаза. Это она мне за правду мстит, они все за правду мою ненавистничают. Зачем, говорят, доказала на нас, што мы дерматин стащили. А я говорю: а рази не вы? А у ково же его под койкой-то нашли? У вас нашли-то, а не у меня вить! Воры вы, заворуи, а на вора и доказать не грех. И вы, говорю, меня не страшшайте, я вас не боюся…
Мурашкин огляделся. В комнате стояли две железные койки, крытые зелеными казенными одеялами, обшарпанный шифоньер; полопавшиеся обои на стенках обильно уклеены цветными картинками из журналов. Стекла в окне были выбиты – и сама рама наполовину высажена: было видно, что тут ковырялись топором.
– Мне Фаина говорит, мол, иди к экспорту, – рассказывала старуха Твердухина, – пусть он тебе напишет заключеньё, подавай экспорту. А чего я пойду к экспорту? Кабы она мне голову разрубила, тогда бы да, а синяки-то вить и у ней есть, ей Петька через день да кажный день подносит. На меня же евонные синяки и свалит, дознайся-ка тута. Я, мил человек, по судам ходить не люблю, а вот пусть-ка ее выгонят с общежития! Тогда она попляшет! Мне Фаина говорит: я тебя знаю, Твердухина, ты никовда нарушениев не допускала, а совестишь ты этих лахудр здря, их токо дрыном проймешь. Дак вить распустилися до последнева! Совестила, говорю, и совестить буду, пока живая!
– Это самое… – сказал столяр. – Лестницу бы надо… Где она у вас?
– Лестницу? Чичас, будет и лестница. Я всё знаю, где чево, покажу, где и лестница стоит. А я вить ей, Таньке-то, говорила, я вить ей, дуре, наставленьё делала, не будет, говорю, тебе в жизни счастья, а то и в тюрьму седешь. По-моему и пошло! Господи, воля твоя, што деется!.. девки вино лакают хуже мужиков, табак курят, блудят што твои кошки. Рази ж мы так-то жили? Да нас, бывалоча, тятя как нахвощет вицей, дак забывали, де и дорога ко парням-то, а они уж нынче совсем обасурманились…
Пока Мурашкин ходил за лестницей, очищал раму от битых стекол, пока вынимал ее и менял петли, старуха рассказала всю историю. Дело было обыкновенное. У одной из сорока с лишним девок, живущих в первом общежитии, украли зарплату. Кто-то по злобе науськал девку на Твердухину. Выпив для храбрости, девка полезла драться. Старуха заперлась у себя в комнате, но обидчица, взяв в котельной топор, залезла по доске к окошку и чуть не выставила раму. Старуха была вынуждена искать спасения у комендантши; девку забрали в милицию.
– А если бы она со мной вместе жила? – кричала Твердухина, тыча пальцем в темные подглазины на своем лице. – Вить тута уголовное дело могло вытти, раз она такая бешеная! Вить ее никакой силой не удержать. Этакую-то лошадь, парни-то по двое к ей ходят, вот вить што творится…
– Так она что у вас, прости господи, что ль? – спросил Иван Сергеевич, с силой вворачивая шуруп. Рама была уже почти в полном порядке.
– В самую точку! – старуха ткнула пальцем чуть-чуть не в глаз Мурашкину. – В самую точку, мил человек! Дак вить у нас не одна она, Танька, такая-то. Ешшо Светка есть, да Таисья, да Розка. К Розке, почитай, всё Заречье переходило. Вот што творят! Тепериче и дочек-то никто не хочет, все хотят парней, потому што девки-то хуже парней стали!..
– У них своя жизнь, – рассудительно заметил Иван Сергеевич. – Чего нам их осуждать… Всё равно по-своему повернут.
– Уж это так, – закивала Твердухина. – Всё норовят по-своему, слова супротив не скажи. Воли им дали стоко, што взяли две…
– Ну, всё! – сказал столяр. – Готова твоя рама. Сейчас вставлю, а завтра приду застеклю. Ты пока что одеялом окошко-то закрой, на ночь-то. Ладно еще, не зима на дворе.
– Ой, спасибо те, милой, дай бог здоровья, – запела старуха. – Вот я тебе чичас винца налью, спаси тя Христос. Чичас я тя угощу, погоди…
– Вообще-то, – Мурашкин почесал затылок, – я ведь на работе…
– Да уж ты не обижай старуху, выпей стопку! Я вить токо хорошее вино покупаю, у меня этой бормотухи не водилося никовда. Посиди, мил человек, посиди маненичко…
Она просила настойчиво. Столяр видел, что старуха говорит искренне, со всем уважением. Да и рабочий день уже давно перевалил на вторую половину.
– Ну, – согласился он, – разве что стопку…
Раму поставили на место, лестницу убрали. Столяр сел на краешек кровати. Твердухина куда-то сбегала, принесла бутылку портвейна, сама открыла. Она вроде бы даже помолодела – носилась, высокая и стройная, туда и обратно, суетилась. Через несколько минут поставила на тумбочку шипящую глазунью, два стакана, полбуханки хлеба. Заперла дверь, села на принесенную с собой табуретку.
– Ну, – сказал Мурашкин, – чтоб голова не болела!
– Мне – маненичко, мил человек, всё забываю, как величать-то тебя…
– Зови Ваней, – разрешил Иван Сергеевич.
– Ваня, милой, мне маненичко, я на вино слаба. Это, бывалоча, в молодые годы хлопнешь стокан да и пляшешь, што пыль столбом. А теперече уж чево…
– Сколько ж ты пенсии получаешь? – спросил столяр, жуя глазунью.
– Да што моя пенсия, коту под хвост, вот те моя пенсия. Сорок пять рублев получаю, вот и живи как хошь.
– Мало.
– Дак еще бы не мало, Ваня, милой. Вить и я тожа человек, не пугало какое огородное. Мне вить тожа охота еще пожить. Уж раз старуха, дак, мол, и всё…
Она вдруг тихонько заревела, заутиралась передником.
– Мало, маловасто, – рассудил столяр. – А дети что ж? Аль все неживые?
– Неживые, батюшко. Кабы живые были, рази бы я здеся жила? Было у меня два сына, один в войну погиб, другой уж после, от рака помер. Пил тожа…
– А жены ихние? Не вспоминают?
– А пошто жа я ей нужна, батюшко? – удивилась старуха. – Я ей не нужна. Одна у меня невестка-то, Павлик на фронт пошел, еще и жениться не успел. Одна она, Люська. Дак оне еще в педдесят восьмом годе разошлися, как Вовка пить начал. А пошто ж я ей нужна? В Костроме живет, квартеру хорошу имеет…
– Да, – сказал Иван Сергеевич, в очередной раз потянувшись за бутылкой. – У меня вот тоже сын, тоже Вовка. В техникуме учится, в механическом. Не скажу что плохой, нет. Не хулиганит. Но тоже…
Столяр замолчал, поглядел в окно. Там стояла пыльная рябина и желтела вдали стена другого общежития. Старуха смотрела на Мурашкина и ждала, что он скажет.
– Тоже вроде как стыдится батьки, – закончил Иван Сергеевич. – Виду-то не кажет, но я же вижу… Ну, – оборвал он сам себя, – ладно! Давай за сынов выпьем. Какие ни есть, а всё ж таки сыны…
Вино забулькало. В замочной скважине задергался ключ, дверь распахнулась – и на пороге появилась Фаина Евгеньевна, комендантша, здоровенная бабища лет пятидесяти. Из-за ее спины выглядывала какая-то деваха.
– Та-ак, Твердухина, – зловеще пропела комендантша. – Значит, других обвиняешь, а сама хлещешь? За правду, значит, горой стоишь, а сама тут бардак устраиваешь? На выселение, что ли, на тебя подать? А?
Старуха Твердухина глотала воздух, силясь что-то сказать, но у нее ничего не получалось. Заспинная деваха хихикала.
– А тебе, Иван Сергеич, – грозно промолвила комендантша, – стыдно должно быть. У нас тут не ресторан! У нас тут рабочее общежитие! И в бардак его переделывать я не дам! Распивать спиртные напитки у нас воспрещено!
Твердухина, наконец, обрела дар речи.
– Да Фаина Евгеньевна! – завыла она. – Да милая ты моя! Да мы ж ничего не допускали! Никаких нарушениев! Человек пришел, раму вставил, как жа не угостить! Да ты прости меня, дуру старую, неумную!..
– Она вином с наценкой торгует! – радостно крикнула девка из-за спины. – Притон устроила, стерва старая. А других стыдит. Ух ты, ханжа!
– Умолкни, Таисья, – бросила комендантша. – А ты, Твердухина, если будешь затевать скандалы да пьянствовать – вылетишь из общежития на легком катере! Думаешь, терпеть будем твои безобразия? Да ты не реви, не реви, Москва слезам не верит!
Мурашкин чувствовал себя крайне неловко. С одной стороны, он понимал, что не совершил никакого преступления, с другой – осознавал, что теперь неминуемо пойдут разные разговоры, пересуды… На каждый роток не накинешь платок. «Эк, – думал он, – дернул меня нечистый. А всё эта… дура старая, погоди да погоди, мил человек. Вот и погодил…».
Он лихорадочно соображал, как бы с честью выйти из этой ситуации, что бы такое сказать. И не мог сообразить. Переводил взгляд то на ревущую старуху, то на красную от гнева комендантшу, и молчал. Пауза затягивалась.
– Ну, – сказал он наконец, – ладно. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Раму я вам вставил…
– За раму спасибо, – оборвала его комендантша, – а вино пить здесь нечего. Не ожидала от тебя, Иван Сергеич!
– Всё, иду, – сказал Мурашкин. И выскочил в коридор.
Почти бегом он вылетел из общежития, по инерции просеменил десяток метров – и только тут заставил себя замедлить шаг. Ящик с инструментом был в руке – и его привычная невеликая тяжесть немного успокоила столяра. Он откашлялся, покрутил головой, сплюнул и попытался придать своему лицу привычное выражение деловитости и озабоченности. Оглянулся – вокруг вроде бы никого нет, только занавеска на близком окошке словно бы дернулась. А может, просто показалось?
Столяр достал из кармана часы и вгляделся в циферблат. До конца рабочего дня оставалось полчаса. Надо было идти на фабрику.
– Хоть стекол на завтра нарежу, – рассудил он вслух. – Жаль, размер не снял. Да, поди, стандартный…
И снова оглянулся – не слышит ли кто его? Вот, скажут, чудак: сам с собой на улице разговаривает.
1977
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись двадцать первая: «Пушица»
Сегодня она почти не спала, разбудили рано грустные мысли. Маленькая, глаза снеговой воды серо-синие, какие бывают у волжанок, в них – глядеть и глядеть, такие они прозрачные – до самой души, – и лицо доброе, круглое, с уютно мягким выражением, точно ты давно уже знал это лицо, эти глаза.
Шла она из Неверова: смотрела, где рожь вызревает быстрее – туда в первую очередь комбайны надо будет послать. Устала, срезала угол у перелеска, не по дороге, а клеверным полем скошенным, чтобы поскорее дойти. Перешла поле, да что-то и тяжело стало по жаре, по сушине такой, вспотела – весь день на ногах – и присела в тень у кустов, у ног одинокая пушица высокая, еще не растерявшая свою снежную вату. Ветерком пообдуло, а прикрыла глаза и – задремала. Задремала и будто сразу же проснулась и подумала: вот как, значит, сил-то у меня стало меньше… Пора, видать, из агрономов…
Тихо, благодать, луга вокруг в копнах сена млеют, точно сторожат её покой случайный. Глянула на пушицу и уже крепко заснула на полчаса, и в момент не яви, но еще и не сна ей мигнуло из грез, что она уже дома, сидит у окна зимой, и не одна, да с кем же?.. В окне поле в синих и белых солнечных пятнах, знакомое столько лет. Наверно, это от пушицы, её жаркого, июльского летнего снега…
Письмоносец прямо в том поле протянул ей извещение: «Муж ваш Алексей Семенович пропал без вести». Последнее письмо от него пришло из Витебска, он был зенитчиком. Едва ли и четыре года успела прожить она с ним до войны, осталась дочка Ирина. Сорок три раза наступала зима с того дня – и сорок три раза взрезал плуг весеннюю землю…
Долго хранила его трудовую книжку, но потом пришлось расстаться и с ней, потребовалась по какой-то причине в архив. С годами всё пропало, не сохранилось у неё ни того скорбного извещения, ни фотографии мужа. Не успели они перед войной обзавестись своим домом, а уж потом одной ей стало не под силу, так и жила на квартире. Да и должность такая – с сорок третьего года агрономом – дома некогда сидеть…
Прошлое глубенеет тенью холодной, как в овраге: пропал без вести. И вплотную подступает к дому – длинное поле с синей комковатой по снегу дорогой, световое его раздолье, синие и солнечно белые пятна, будто живые, по снежной глади… Тихо зимой, покойно, чисто в старом доме, цветные домотканые половички на полу, белые занавески на окнах… По полю бегут, бегут наперекрест по насту сугробов сверкающие по-райски тропки в сказочность снежной лепки на соснах, в живую, глаголющую уже мартовскую синеву за сосняком. Странные, узенькие, крепкие тропинки по насту, они растают, а в душе останутся, и всё ведут к той живой синеве, откуда будто идёт к ней кто-то. С верой и надеждой, и с радостью – так девственно сияет мир и тихо. И еще что-то непроявленно праздничное во всём, в этом покое: будто не извне, а изнутри ласковым своим обещанием глядит на неё снежное, мартовское поле….
Тихо, тепло, поле точно сторожит её сон, копны сена сами – как чьи-то сны нераскрытые – тоже, может, тех, что не вернулись с войны в здешние деревни, пропали без вести: ни крестика, ни косточки… О чем еще нагрезил ей знакомый с детства мир кратким сном у пушицы?.. Не пройдет и полвека, как старинное это поле задичает, зарастет мелкими сосенками, березками, перекидчивым осинничком, и дачники станут ходить сюда за грибами. И будут там рыться дикие кабаны. Местные жители, крестьяне, переведутся, а её, старушку девяноста четырех лет, дочь увезет в город умирать…
Пушица облетает, и одна пушинка села на лицо, зацепилась за висок, другая – под глазом – и разбудили. Вот она и смотрит на пушицу вопросительно, непонимающе, но занята внутренним. Там в ней всё видит еще, хочет ответить, понять, почему все вокруг чего-то ждет, и она чего-то с надеждой ждет, что оно придёт, отверзнется: где-то здесь уже рядом. Она забыла, к кому в своем коротком сне и зачем бежала она навстречу… Да и не вспомнить ей такое. А просто в этот краткий случайный сон, просвеченный солнцем, привиделась ей «вся жизнь, как один день», как сама она любила приговаривать.
Лицо и шею приятно пообдуло ветерком. Пора уже и идти, такое впервые с ней, что она не дошла до деревни, как ходила почти полвека, а села передохнуть… Пушинка опять задела, защекотала под глазом, и она смахнула её и поняла, что всеми мыслями этими грезит еще в тяжелом дневном полусне, и вот теперь проснулась уже окончательно. И с осмягшим от неудобной позы телом, в резиновых душных сапожках тяжело пошла к дороге. Дом, где живёт она, на краю деревни, на свороте шоссейки к мосту через Юхоть – на Рыбинск.
По этой самой дороге весь тот долгий летний день, весь день они всё шли и шли… Всё шли и шли они от волжской переправы деревней, по шоссейке, мощенной булыжником, еще одетые кое-как, во все своё, домашнее, кто доедал кусок на ходу, кто запевает, кто зажурился. Бабы смотрят, жалеют: «Молодняк на фронт гонят… Вот уж матери-то по вам наплачутся!» А к колодцу из избы выскочила старуха растревоженная и, всё хлопая себя ладошами по коленям черного подола, наговаривала: «Пейте, милые! Пейте прямо из ведра!» И весь день метался по дороге прах от беспокойного ветерка, и плутал по обочине пух одуванчиков. А они всё шли и шли, и где-то высоко-высоко, невидимый в зените, точил, сверлил небо жаворонок.
Наши встречи
Нина ЖИРКОВА. «Пушкин. Болдино. Карантин…»
Интервью
10 февраля Россия отмечает годовщину гибели Пушкина. Парадоксально само словосочетание: «отмечаем годовщину смерти» — словно день рождения. Но Пушкин сам сплошной парадокс; по его же выражению: «гений, парадоксов друг». Несмотря на страшную гибель Поэта, мы доселе воспринимаем его отнюдь не как покойника. Вот уж воистину, кто «живее всех живых» в России, так это Пушкин! Потому даже в годовщину смерти Александра Сергеевича несём к его многочисленным памятникам букеты, а не венки! Солнечный свет Пушкина и поныне рассеивает мглу, периодически надвигающуюся на нас. Вспоминаются слова Михаила Пришвина, сказанные в то время, когда немцы стояли под Москвой и рассматривали её в бинокли… Пришвин сказал, что даже если враг займет Москву, даже если дойдет до Урала и Сибири, то где-то в глухой деревушке, чудом оставшейся не оккупированной, люди откроют томик Пушкина – и с этого вновь начнётся великая Россия. Так давайте чаще читать Пушкина, удивительным образом находя в его творчестве ответы на наши самые насущные вопросы.
Давайте, ничуть не прощая убийц русского гения, тем не менее будем относиться к Пушкину как к живому человеку и нашему современнику. Впрочем, похоже, я стучусь в открытые двери, ведь большинство из нас так к Поэту и относится. Об этом порой говорят весьма забавные факты недавней истории. Мало кто знает, что эмигранты из СССР, приехавшие во время перестройки на ПМЖ во Францию, перво-наперво разыскали семейство Дантесов и так сердито и забавно угрожали им, потомкам убийцы Пушкина, что те, хоть ни в чём сами не виноваты, почли за благо продать фамильный замок и от греха подальше уехать из веками обжитого места…
Пушкинская тема неисчерпаема в принципе, ведь Пушкин – некий космос нашей России. Более пятисот памятников Пушкину стоят по всему миру.
Но!
Есть одно место, которое можно назвать особенно пушкинским. Именно там Поэт пережил самые счастливые творческие мгновения. Это нижегородское село Болдино, фамильное поместье Пушкиных, которое мы вправе называть столицей вдохновения. Оно и сегодня является местом паломничества читателей, писателей, туристов со всей России и всего мира. А встречают их радушно, каждый раз обновляя вечно живую пушкинскую тематику, сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» и, конечно, лично директор Нина Жиркова. Хочу от имени читателей выразить благодарность Нине Анатольевне за то, что несмотря на свою занятость она любезно согласилась ответить на мои вопросы накануне Дня памяти Пушкина. И хочу попутно заметить, что эта наша беседа будет продолжена в канун Всероссийского Пушкинского дня России.
Диана КАН
– Нина Анатольевна, к Болдину так применим термин «гений места», поскольку именно здесь наш Гений создал свои гениальные творения. И это не тавтология, это реальность! Великолепная природа Болдина, его удивительные люди, предки которых имели возможность непосредственно общаться с Пушкиным… Его богатая древняя история… Всё это делает его поистине сакральным местом в России.
– Да, музей-заповедник А.С. Пушкина имеет богатую историю, заслуживающую большого отдельного разговора. Первым из известных владельцев Болдина был воевода и окольничий Евстафий Михайлович Пушкин, отличившийся во времена Ивана Грозного на военном и дипломатическом поприщах. В 1585 году за ним уже значилось Болдино в качестве поместья – во временном владении, на срок «царевой службы». После его смерти Болдино получает Иван Федорович Пушкин. За участие в Нижегородском ополчении под знаменами К. Минина и Д. Пожарского имение переходит ему в вотчину, то есть потомственное владение. На протяжении трех столетий болдинские земли принадлежали Пушкиным. В преддверии 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина последний владелец болдинского имения Лев Анатольевич Пушкин (внучатый племянник поэта) начал хлопоты по продаже Болдина в государственную казну. В 1908 году была получена долгожданная резолюция министра просвещения: «Мысль о сохранении для русского общества местности, где Пушкин писал свои вдохновенные произведения, заслуживает внимания».
– Говорят, что к получению Болдином особого государственного статуса приложил руку Пётр Аркадьевич Столыпин…
– Это так. Именно приложил руку, ведь за подписью премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина 24 марта 1911 года было обнародовано решение Совета министров «О приобретении в собственность государства за 30 тысяч рублей принадлежащего дворянам Пушкиным родового имения при селе Болдино Лукояновского уезда Нижегородской губернии мерою около 48 десятин земли с усадьбою, домом, флигелем».
– К сожалению, революционные события в России вылились в то, что многие дворянские гнёзда, в том числе поместья писателей-дворян, оказались разорены восставшим народом…
– Болдинского поместья гнев восставшего народа не коснулся. Даже наоборот! В грозные годы Октябрьской революции именно болдинские крестьяне сберегли усадьбу от разорения. Результатом сельского схода в Болдине 11 апреля 1918 года стал «приговор», составленный болдинским жителем И.В. Киреевым и подписанный крестьянами. Документ гласил: «…И на месте сим желательно увековечить память великого поэта А.С. Пушкина (нашего помещика), а также равно день Великой нашей русской революции, по обсуждении чего единогласно постановили данную усадьбу, на ней постройки, сад и при ней полевую землю взять на предохранительный учет». Вскоре в доме Пушкиных надолго «поселилась» школа. А 29 марта 1918 года болдинцы постановили разместить в здании бывшей вотчинной конторы Пушкиных, где поэт останавливался, приехав в Болдино в последний раз в 1834 году, фельдшерский пункт.
В 1929 году парк болдинской усадьбы был объявлен заповедным. В этом же году Болдино из рядового села Лукояновского уезда стало центром Большеболдинского района.
– «Гений, парадоксов друг…» Ведь и новый этап в жизни болдинского заповедника начался тоже вовсе не в самые благополучные для страны времена, не так ли?
– Этот новый этап развития пришёлся на трудные годы Великой Отечественной войны. 11 ноября 1942 года Большеболдинский районный исполнительный комитет постановил выделить сад имени Пушкина в самостоятельную единицу при средней школе № 1, размещавшейся в доме Пушкиных. Вскоре директором сада был назначен бывший учитель Ф.Е. Краско. А 24 июля 1944 года бюро Горьковского обкома ВКП (б) приняло решение «Об организации музея А.С. Пушкина и реставрации парка в Большом Болдине». Решением предусматривалось считать в Болдине места, связанные с памятью А.С. Пушкина, государственным заповедником, создать в бывшей усадьбе Пушкиных исторический и краеведческий музей, благоустроить парк. Поскольку в доме Пушкиных размещалась средняя школа, музей было решено открыть во флигеле – вотчинной конторе. Это долгожданное событие произошло в Болдине 18 июня 1949 года.
С того времени минуло более 70 лет. Сегодня в Болдине полностью сохранена мемориальная пушкинская усадьба с парком и подлинным домом, построенным в начале XIX века. В усадьбе восстановлены ранее утраченные надворные постройки. К 200-летию со дня рождения поэта отреставрирована каменная церковь XVIII века, построенная его дедом. Кроме того, на месте, связанном с древней историей Болдина, где в начале XVII века далекими предками Пушкина была построена первая болдинская церковь, восстановлена памятная часовня Архангела Михаила.
– Мы с Вами говорим о Пушкине в весьма своеобразное время, когда слова «карантин» и «пандемия» стали едва ли не самыми употребительными в мире. А ведь Пушкин в один из своих приездов жил в Болдине и писал свои гениальные произведения тоже в условиях карантина. Не могу не процитировать в тему стихотворение поэта Евгения Семичева:
Над Россией, стеная в голос,
В небе мечется птичий клин.
Косит жатву Холера Морбус…
Пушкин.
Болдино.
Карантин.
Просыпается бодр и весел,
И здоров. Ай да сукин сын! –
Отправляет письмо невесте…
Пушкин.
Болдино.
Карантин.
В том письме свой поклон для тёщи
Шлёт, как истовый семьянин.
Облетает лучинник в роще…
Пушкин.
Болдино.
Карантин.
Он работает, как вельможа.
Презирая тоску и сплин.
Сочиняет и пишет лёжа…
Пушкин.
Болдино.
Карантин.
Что задумано между строчек,
Знает в мире лишь он один
Да крылатый искристый росчерк…
Пушкин.
Болдино.
Карантин.
Дописав свой шедевр до точки,
Сей сиятельный господин
С визгом плещется в банной бочке…
Пушкин.
Болдино.
Карантин.
На коне златогривом скачет
Вдоль родных золотых куртин
И восторга любви не прячет…
Пушкин.
Болдино.
Карантин.
Цитата закончена. Но поневоле задумаешься о том, что запертый карантином в Болдине Пушкин имел возможность полностью отдаться творчеству. И мы сегодня имеем такие жемчужины пушкинианы, как «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», девятая глава «Евгения Онегина», «Домик в Коломне», «Выстрел», «Метель», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы»… Надеюсь, что пандемия и продиктованный ею онлайн-формат литературных мероприятий всё-таки закончатся и, как и прежде, любящий Пушкина народ снова хлынет к своему любимому Поэту…
– Многие десятилетия Большое Болдино притягивает десятки тысяч туристов и гостей как место, где жил и творил великий русский поэт, где словосочетание «болдинская осень» стало нарицательным понятием, обозначающим небывалый взлет вдохновения. Ежегодно объекты музея-заповедника посещают более 100 тысяч человек. Многие десятилетия здесь бережно сохраняются духовно-нравственные и культурные традиции, а также древняя история живописного и загадочного села, которому в числе немногих российских сел уготована завидная участь – остаться в анналах мировой культуры. Здесь, на базе Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино», ежегодно проводятся:
– Всероссийский пушкинский праздник поэзии;
– Международная научная конференция «Болдинские чтения»;
– Международный творческий конкурс «Всемирный Пушкин»;
– Межрегиональный слёт молодых литераторов;
– Всероссийская конференция учащихся « Под знаком Пушкина»;
– Всероссийский конкурс юных чтецов «Наш современник Пушкин»;
– Всероссийские Болдинские пленэры с участием известных художников
и многие другие фестивали, конкурсы и праздники.
– Пушкин был человеком лёгким на подъем, открытым к ветрам странствий. Через него породнились многие регионы России, не так ли?
– Да, Пушкин много путешествовал по России. В 1833 году совершил поездку по Поволжью и Уралу, побывал в Москве, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Симбирске, Оренбурге, Мордовии и других губерниях, собирая материал по восстанию Пугачева, по жизни, быту и творчеству народов Поволжья. Александра Сергеевича гостеприимно принимало и население, и собратья по перу, и местные губернаторы…
– В Оренбурге, куда Пушкин приехал, собирая материалы по истории пугачёвского бунта, есть, помимо как минимум трёх памятников ему, немало городских легенд о нём. В частности, мне показывали красивый дуб, который помнит Пушкина. Потому что рядом стоял дворянский особняк. И говорят, когда Поэт пришёл в этот особняк в гости встречаться с коллегами-литераторами Оренбурга, две юные дворянские барышни были так заинтригованы личностью поэта, что, не будучи приглашены на этот вечер, ухитрились залезть на этот дуб, чтобы в окно посмотреть на Поэта… Я всегда смеюсь, представляя себе картину: две приличные барышни в длинных платьях лезут на дерево! Этот дуб жив. И рядом с ним стоит скульптура Учёного кота, которому все трут нос на счастье…
– О да, много свидетельств сохранилось в разных регионах о том, как тепло принимали Пушкина во время его путешествий. Однако, будучи желанным, званым гостем, он тем не менее после этой поездки возвращается именно в Болдино, плодотворно работая в родовой вотчине над собранными материалами как поэт, прозаик и публицист, формируя своими трудами величие русской культуры, ее языка. Уникальность Болдина в том, что оно стало для поэта местом вхождения в народную культуру, местом, где он творил, «забывая мир», вдохновенно и страстно, легко и свободно. Язык его болдинских произведений – это целая стихия и космос. Мир болдинских пушкинских повестей Белкина – это мир русской провинции, немыслимой без тихой поэзии дворянских гнезд. Во Львовке, в мемориальной усадьбе сына поэта Александра Александровича Пушкина, где в 2005 году был открыт литературный музей, в атмосфере скромной дворянской усадьбы живут и сегодня герои пушкинских повестей. Село Львовка расположено недалеко от Болдина. Сохранившееся там одноэтажное бревенчатое здание церковно-приходской школы было построено в 1904 году также на средства сына А.С. Пушкина. К 210-летию со дня рождения поэта, в мемориальном здании, состоялось торжественное открытие экспозиции церковно-приходской школы… Сегодня ожидает своей очереди для реставрации построенная здесь в 1910 году и сохранившаяся до сегодняшних дней деревянная церковь в честь благоверного князя Александра Невского.
– Собственно, Болдинский музей уникален ещё и тем, что это не законсервированная любовь к Пушкину, это постоянно развивающееся, обновляющееся и всегда современное и созвучное каждой новой эпохе явление…
– Пушкинское Болдино – это некий центр культурного и духовного притяжения. В 2009 году в состав музея-заповедника вошел нижегородский филиал, расположенный в бывшей гостинице нижегородского купца Деулина. В 2015 году в Болдине пущена в эксплуатацию третья очередь научно-культурного пушкинского центра. Это прекрасное, по-современному оснащенное здание позволяет нам сегодня достойно проводить мероприятия международного и всероссийского уровня.
– В продолжение разговора о мероприятиях, проходящих на болдинской земле. Ведь одно из них состоится буквально на днях?
– Да, и будет посвящено 184-й годовщине со дня смерти А.С. Пушкина.
– Как и что это будет?
– По традиции в этот день у памятника А.С. Пушкину на центральной усадьбе музея настоятель Успенской церкви отслужит литию. Прозвучит слово о Поэте. В 14.45, в то самое время, когда остановилось сердце великого русского поэта, будет объявлена минута молчания. К подножию памятника сотрудники музея, жители Болдина, гости села возложат цветы. В выставочном зале музея-заповедника состоится открытие тематической выставки и пройдёт литературно-музыкальная программа «Посвящение Пушкину…».
– Нина Анатольевна, так значит, Болдино, несмотря на карантин и пандемию, живёт своей полнокровной и насыщенной жизнью?
– Да! Живёт! Потому что жива в людских сердцах память о Великом Поэте.
На волне интереса: вопрос писателю
Василий КОСТЕРИН. Только так и стоит писать
Ответы на вопросы и комментарии читателей «Паруса»
Ольга Заславская:
– Из творчества Василия Костерина моё особое внимание обратило на себя хайку «Перебираю в пальцах песок». В нём затрагивается проблема ценности и скоротечности времени. Годы человеческой жизни здесь представляют собой песок, сыплющийся из ладони, что показывает нам строка «Перебираю в пальцах песок», символизируя собой песочные часы – символ того, что потерянного времени не вернуть, каждая минута прожитой жизни даётся человеку всего раз. Жизнь же здесь представлена мощным потоком «стремительной реки», устремляющимся вдаль и ни на миг не останавливающимся. Последняя строка «Как скоротечна жизнь» выражает мнение автора о том, что не стоит торопить время, нужно ценить жизнь и испытывать радость от причастности к чему-то важному, иначе время пролетит мимолетно и будет уже поздно жалеть об утраченных годах, мгновениях, эмоциях.
Василий Костерин:
– Спасибо за точный комментарий. Да, жизнь скоротечна, только не будем упускать из вида, что есть время разбрасывать камни и время собирать камни. Собирать камни – лучшее средство преодолеть скоротечность жизни.
Любовь Михайловна Руднева:
– Василий Костерин:
Весна – пора любви.
Сказал поэт.
Весна забылась,
А осень принесла
Последнюю любовь.
Многие поэтические строки В. Костерина – это бесконечное количество ассоциаций со стихами русских классиков, аллюзии на стихотворные строки, которые со школьной скамьи живут где-то в нашем подсознании. В «Весне…» – А.С. Пушкин и Ф.И. Тютчев («О, как на склоне наших лет…»). Это и приятная возможность вспомнить классику, и попытка афористично выразить свои собственные мысли. Интересно!
Василий Костерин:
– Да, современный термин «интертекст» подтвердил своё право на существование. Любой текст существует в «компании» с другими предшествующими текстами. Любой текст вызывает, как Вы сказали, ассоциации с другими стихами. Раньше говорили о влиянии и взаимосвязях между писателями, жанрами, конкретными произведениями. Ныне дело представляется так, что читатель плавает в океане интертекста, а конкретные тексты – это моря, заливы, реки. Терминология другая, но суть осталась: взаимные связи и взаимное влияние.
Ольга Сергеевна Самылина:
– Непривычно, оригинально, интересно видеть, как русская душа раскрывается в японских трёхстишиях и пятистишиях. Его танки и хайку завораживают своей непохожестью на стихи других русских поэтов. И это здорово, мне нравится.
Василий Костерин:
– Спасибо, Ольга Сергеевна. Вы подняли важную проблему. Жанры хайку и танка настолько своеобразны, что выразить через них «русскую душу», как Вы выразились, крайне трудно, даже невозможно. Эти жанры имеют мировоззренческую природу. Японская философия, японское мировидение легко ложатся в эти формы. Но попробуйте написать в жанре хайку что-нибудь типично русское. Руки опускаются. А подражания японским темам и мотивам складываются заметно легче, органичнее. Пытаясь выразить в хайку русские темы, мотивы, приметы природы или быта, мы как бы разрываем связь между формой и содержанием.
Мария Валентиновна Матвеева, с. Большое Болдино Нижегородской обл., сотрудник литературного музея-заповедника:
– У В. Костерина привлекло стихотворение «Вошла – затеплилась лампада…» Оно входит в цикл «Стихи запоздалые», который является самым совершенным циклом работ автора.
Василий Костерин:
– Спасибо. Неблагодарное занятие – толковать свои стихи. Но в данном случае я попробую. Мне хотелось выразить простую мысль: хорошо, когда над ним и над ней возвышается икона, которая освящает их отношения. И очень важно, чтобы это был не музейный образ, а семейная икона красного угла, перед которой теплится лампада. Кажется, толкование у меня не получилось. Стихотворение, конечно, богаче по смыслу, чем моё ненужное объяснение.
Андрей Владимирович Шурыгин, г. Йошкар-Ола, старший научный сотрудник Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева:
– Стихи В. Костерина неразрывно связаны с философией и идеями русской классической поэзии, хотя работает он в популярных жанрах японской поэзии (хайку и танка). Некоторые из стихотворений при прочтении не лишены налёта иронии и шутливости, а некоторые поражают серьёзностью и вдумчивостью при рассуждении о вечных темах (любовь и нелюбовь, добро и зло, жизнь и смерть и т. п.). Мне особенно понравились танка «Весна – пора любви…», «Я погружаюсь в книгу…», «Во многом знании – много печали…» и хайку «Перебираю в пальцах песок…», «Дом, полный слёз и скорби…», «Проснуться однажды…». В танка «Весна – пора любви…» поэт, казалось бы, вначале говорит о весне как времени любви, что является уже некой аксиомой в поэтическом мире, первой ассоциацией. Но дальше он довольно неожиданно поворачивает рассуждение в пользу осени как поре последней любви. Возможно, это отчасти автобиографичное стихотворение, но скорее всего поэт отождествляет последнюю любовь с осенью как увядающим временем года. В танка «Я погружаюсь в книгу…» поэт говорит об увлечённости процессом чтения, погружении в любимую книгу с головой, но при этом не в слова, а в понравившуюся «картинку на сто седьмой странице», которая настолько привлекла его внимание, что он уже не ищет пути назад. В танка «Во многом знании – много печали…» явственен иронический намёк на сожжение книг, находящихся на книжной полке, которая теперь располагается над огнём камина. Но, как известно, по Булгакову: «Рукописи не горят!». Хайку «Перебираю в пальцах песок…» выражает идею быстрого протекания, скоротечности нашей жизни, когда возникает классический образ человека, сидящего на берегу реки и перебирающего в пальцах песок. В хайку «Дом, полный слёз и скорби…» по-другому, более натуралистично и глубоко выражается идея скоротечности жизни («и ладаном пропахла панихида…»). Теперь дом, где ушёл из жизни человек, – это дом тишины и покоя. В хайку «Проснуться однажды…» словно замедляется время, на мгновение читатель может увидеть образ человека, просыпающегося утром вне времени и пространства, настолько всё обезличено! Вероятно, так поэт стремился передать образ вечного покоя, вечной жизни в мире не земном, а в другом, «небесном мире».
Василий Костерин:
– «Во многом знании – много печали…» – это, прежде всего, книга премудрого Соломона. Относительно крылатого выражения Булгакова скажу, что задолго до Булгакова Гоголь писал, что не горят демонические произведения. Вспомните его «Портрет». Художник, написавший злополучный портрет, сжигает исполненное демонической силы творение рук своих. С облегчением поворачивается в красный угол, чтобы перекреститься. И видит там тот самый портрет. Он не сгорел, а самовольно встал в красный угол, пытаясь вытеснить оттуда икону, заместить её. Такова, согласно Гоголю, сила демонического вдохновения, которая заставляет писателя вместо образа ангела создать образ нечистого демона. Поэтому дело тут не в рукописи, а в демоническом заряде произведения, а проза это, живопись или музыкальное произведение – значения не имеет. Не случайно в Древней Руси старые обветшавшие иконы не сжигали (они не могли гореть в силу своей сакральной природы), а пускали в проточную воду. У Николая Клюева есть прекрасный образ в поэме «Погорельщина»: большевики сжигают целую «скирду» икон, они горят, но души икон возносятся в Царство Небесное.
– Что сподвигло Вас работать в жанрах японской поэзии (хайку, танка)?
Василий Костерин:
– В студенческие годы и позже у меня был друг – художник Пётр Дик, оказавший на меня заметное влияние. Он принёс мне, например, книгу «Неизданный Достоевский» (она тогда – 1971 год – была нарасхват), у него я увидел альбомы икон и альбомы европейской живописи запретных западных художников, он впервые заговорил со мной об о. Павле Флоренском, он, наконец, читал мне танка и хайку, прежде всего, Басё. Если найдёте время, посмотрите работы Петра Дика в интернете. В своём творчестве он всегда стремился к простоте (всё гениальное – просто), он стремился при минимуме средств выразить глубинные идеи и чувства. Подспорьем ему служили икона, японское искусство, но ещё в большей мере – японская поэзия. Он всегда искренне удивлялся, как можно в двух словах создать картину природы, однако японским поэтам это удавалось. Тогда я увлёкся японцами, возил повсюду с собой сборники японской поэзии, однако стал писать в жанре танка и хайку лишь лет семь-восемь назад. Так долго шло «созревание».
Надежда Борисовна Ганиева, сотрудник Пензенской областной библиотеке для детей и юношества:
– Привычно, когда поэт в своём произведении размышляет, анализирует и представляет на суд читателя свой собственный ответ-размышление. В. Костерин как бы высвечивает стихотворным прожектором яркий образ, мысль и предлагает читателю самому раскрыть его суть.
Проснуться однажды
и с грустью понять, что времени нет,
и больше не будет.
Очень яркий философский образ, который побуждает подумать о смысле времени, открывает внутри себя ответы, которые, без заданного вопроса, может быть, никогда бы и не были осмыслены. Сразу же вспоминаются слова из песни: «…есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь…». Прошлого уже не существует, будущее ещё не настало… Жизнь есть только сейчас, в этом вневременьи, в этом кратком миге. Мы же почти всегда заняты или воспоминаниями о прошлом, сожалениями о невозможности его вернуть или прожить по-другому, или путешествуя воображением по неясному будущему – страшась его неизвестности или погружаясь в «розовые» мечты. Это стихотворение очень, как мне кажется, перекликается с другим:
Тихая ночь, мягкая мгла,
мысли то здесь, то там,
как светлячки блуждают.
И опять яркий образ, когда поэт пытается отделить себя настоящего – того, который истинный, вневременный – от светлячков-мыслей, как бы отделяя их от себя и просто наблюдая за ними. Я – это не мои мысли, я – это то, что всегда, здесь и сейчас, то, что неизменно и вечно. Мысли же временны и живут во времени, и можно их просто наблюдать…
Василий Костерин:
– О том, что времени больше не будет, писал святой Иоанн Богослов в Откровении (Откр. 10: 5–6). Воскресение – Страшный суд – Царство Небесное, в котором времени нет, ибо время поглощено вечностью, время растворяется в вечности. Этой проблемой мучились, если помните, князь Мышкин и Ипполит у Достоевского.
Относительно песни замечу, что цитата оборвана. Лучше её цитировать в таком виде: «…Есть только миг между прошлым и будущим, есть только миг, за него и держись». Здесь уже видно, что слова эти не так безобидны.
Во-первых, жизнь человека, действительно, лишь миг с точки зрения вечности. Однако мы знаем, что время имеет способность растягиваться, замедлять своё течение, словно хочет дать нам часы, месяцы, годы для того, чтобы мы успели что-нибудь сделать для вечности. Так что, с одной стороны, миг, с другой, – 70–80 лет полноценной духовной жизни. Откроем Псалтырь: в 89-м псалме царя Давида говорится: «Дней наших – 70 лет, а при большей крепости – 80 лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро…»
Во-вторых, автор слов призывает держаться за этот миг. А я бы сказал: если мы цепляемся за миг, то мы несчастнее всех человеков. Мы призваны не держаться за жизнь, а преображать её духовно – и свою жизнь, и жизнь окружающих. Держаться же надёжнее всего за Бога.
Ксения Юрьевна Лаптева, заместитель начальника отдела по организации мероприятий ГАУК Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»:
– Василий Костерин. Танка.
Весна – пора любви,
Сказал поэт,
Весна забылась,
А осень принесла
Последнюю любовь.
*
Небо в море,
И небо в реке,
И в луже те же небеса.
Три неба,
А мне хватило б одного.
Танка – как мало слов, как много смысла, простора для фантазии… Удивительный опыт «додумывания» образных картин Автора, когда Читатель будто получил особое предложение для сотворчества. И вот Поэт вроде остановился, а ты ещё продолжаешь…
«Весна – пора любви», пора молодости, рождение жизни, начало начал…Это удивительное и прекрасное время, исполненное надежд… И не успел ты набрать в грудь воздуха, как уже Осень… Время, которое неизбежно приведёт к Зиме… Осенью мы уже слышим первое холодное её дыхание…
Здесь Лета нет! Оно осталось незаметным, как это часто и бывает…
Второе произведение не менее философское. Они оба преисполнены красоты, возвышенности и одновременно грусти… Каждый раз финальным аккордом мы слышим что-то личное, что-то из прошлого… чего уже не вернуть…
Вопросы писателю:
1. Каким Вам видится «идеальный читатель»?
Василий Костерин:
– Мой идеальный читатель складывается из двух половинок. Первая половинка – Вы её уже назвали – читатель, который «додумывает» стихотворение, читатель-соавтор. Умение читать, конечно же, есть особый талант.
А вторая половинка – читатель-редактор, который может указать на неудачные слова, обороты, может подсказать другое решение. Он тоже в определённой мере соавтор, но в большей степени редактор. По опыту знаю, что хороший редактор всегда может помочь автору, так что казавшееся завершённым стихотворение приходится переписывать, переделывать.
2. Кого из поэтов прошлого Вы никогда бы не назвали своими учителями?
Василий Костерин:
– Таких поэтов у меня нет. Я учился даже у полузабытых и забытых поэтов, у поэтов начинающих, у поэтов-любителей. Учился даже у графоманов, например, тому, как не надо писать. Если мы с любовью подойдём к произведению, то даже у слабого поэта всегда можно найти удачные запоминающиеся строчки. Хотите верьте, хотите нет, но я учился даже у Демьяна Бедного – мужика вредного.
3. Имеют ли шанс танка и хайку прижиться в нашей стране? Быть понятыми нашим читателем?
Василий Костерин:
– Мне кажется, что оба жанра уже прижились в русской поэзии. Существует клуб любителей танка и хайку в интернете. Или возьмите прекрасные переводы Веры Марковой и Анны Ахматовой. Вера Николаевна, кстати, говорила, что самое трудное для переводчика – это отобрать те стихи, которые могут органично войти в другую культуру, в иную по характеру словесность, станут близки читателю (в данном случае – русскому).
Надежда Александровна Натальченко, г. Сергач Нижегородской обл., заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки им. С. И. Шуртакова:
– Что будет происходить с Россией дальше? Как вернуть молодежь, подростков к чтению русской литературы?
Василий Костерин:
– Очень хорошо, Надежда Александровна, что Вы поставили эти два вопроса рядом. Против России сейчас идёт война: финансовая, экономическая, политическая и мощнейшая (самая опасная, ибо направлена против души) духовная. Выстоит ли Россия? Думаю, никто не возьмётся делать прогнозы. Как говорит Версилов у Достоевского, а что будет дальше, – смотри в Апокалипсисе. Но Вы назвали духовное оружие, которое может помочь России выстоять: это чтение нашей классики, нашей глубоко духовной словесности. Да, сегодня наш народ не назовёшь самым читающим в мире. Разрушительные 90-е постарались и тут. Прилавки были буквально завалены низкопробной макулатурой. Это была диверсия, это был мощный удар по вкусам русского читателя. Читают, конечно, много и сейчас, но что именно? А рецепт здесь один: только родители и школьные учителя могут научить ребёнка читать и любить чтение. И читать не абы что, а нашу классику, величайшую словесность в истории человечества.
Оксана Евгеньевна Головизнина, г. Иваново, преподаватель:
– Все спрашивают, как Вы пришли в литературу, да и уже наверняка спрашивали. А задавались ли Вы вопросом, зачем Вы пришли в литературу?
Василий Костерин:
– Да, Оксана Евгеньевна, конечно, спрашивали. Мне кажется, подавляющее большинство писателей пришли в литературу потому, что не могли не писать. Человек чувствует призвание, пробует писать, у него получается, а дальше всё начинается всерьёз. Как у Пастернака: «…Не читки требует с актёра, а полной гибели всерьёз». Так же и с писателем, поэтом.
А вот на второй вопрос, хотя он и подобен первому, сложнее ответить. И всё же я попробую. Ответов будет несколько. Первый. Об этом я уже не раз говорил в интервью. Однажды дочь Марина сказала: папочка, у тебя около двадцати научных и научно-популярных книг об иконах, но их мало кто читает. Ты пиши то же самое, но в художественной форме, чтобы было для всех. Так появилась повесть «Не опали меня, Купина! 1812» об иконе Неопалимой Купины. Второй ответ. Когда я увидел в 90-х засилье в книгоиздательском деле ширпотреба (сейчас мы видим то же самое, только в более мягкой форме), мне подумалось, что не будет большим грехом опубликовать и мои повести, рассказы, стихи. Вдруг читатель наткнётся на мою книгу и оставит какой-нибудь духовно разрушительный современный опус. Третий. На своём сайте недавно я разместил свои рассказы 70-х годов, то есть они пролежали у меня в столе примерно сорок пять лет. Я писал их для себя. Мне показалось, что они не устарели, и я их обнародовал лишь сейчас. Четвёртый. Мне не нужна слава, не нужны премии, даже не нужны деньги. Мне хватает того, что есть. А пишу, потому что идеи, сюжеты повестей, рассказов, стихов рождаются сами собой, я же их записываю. Ответил ли я на Ваш вопрос?
Нина Александровна Кустова, Нижний Новгород, заведующая музеем книги Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки:
– Читаю короткие стихи Василия Костерина и восхищаюсь мастерством автора, который виртуозно владеет словом. Из всех предложенных выбрала «Весна – пора любви…» Не буду пока думать об осени, задержусь в весне.
Василий Костерин:
– Примите, уважаемая Нина Александровна, танка на заданную Вами тему.
Задержалась в весне,
Позабыла о лете,
Осень пришла,
Заглянула в глаза,
А я к ней совсем не готова.
Надия Сергеевна Митрофанова, г. Казань, главный библиотекарь информационно-библиографического отдела Национальной библиотеки Республики Татарстан:
– Для этого эссе я выбрала хайку Василия Костерина, опубликованные в журнале «Парус»: http://parus.ruspole.info/node/7387.
В частности, особенно мне запомнились следующие:
*
В душистый чай
Слеза упала. Я вспомнил:
Эту чашку подарила ты.
*
Надел перчатки
И всплакнул,
Их вместе покупали мы.
*
Заходящее солнце
Красит страницы,
Захлопываю роман.
Эти хайку, разумеется, никак не связаны между собой, но я вижу в них общий мотив: течение времени. В первом и втором в трёх строках передана целая история, видимо, прошедших отношений, в то время как в третьем хайку прошёл всего лишь день и наступил закат, а возможно, и целая жизнь (закат как метафора). Во всех трех хайку есть итог, финальная точка: воспоминание (1 и 2) и захлопывание книги (как мне представляется – это метафора окончания какого-либо дела). Эти строки впечатлили меня способом передачи ощущения времени как чего-то мимолетного, но крепко засевшего в памяти. Я очень благодарна автору за столь приятные впечатления от прочтения его произведений!
Василий Костерин:
– Спасибо за точный и краткий, как хокку, комментарий.
Наталья Сергеевна Бибикова, г. Кемерово:
– Вчитываясь в строки В. Костерина, понимаешь боль потерь, радость счастья, приближение к Богу, чувство одиночества среди людей.
Слова поэта наполнены болью за Россию, за будущие поколения, осознанием скоротечности жизни и времени. Особое впечатление производят высказанные почти шёпотом строки о любви.
Среди стихотворений В. Костерина особо запомнились:
*
Озера тёмное зеркало
Не отражает
Даже свет луны.
Так притягательно оно,
Как чёрная дыра Вселенной.
*
Только мысленно
Произнесу имя твоё в душе,
А на другом краю земли
Ветер на ушко тебе шепнёт его
Голосом сквозным.
*
Лишь одно письмо от тебя
За долгих четыре дня,
Я же в день отправляю четыре.
Рассудите нас, люди!
Где справедливость?
Также «Перебираю в пальцах песок…»
Вопрос: Творчество каких современных поэтов близко Вам по духу?
Василий Костерин:
– Современную поэзию я знаю плохо. Читаю урывками. Выделить никого не могу по причине плохого знания современной поэзии, по причине своей некомпетентности в этом вопросе. Когда передо мной возникает дилемма – почитать известного современного поэта или в сотый раз перечитать Пушкина или Лермонтова – я выбираю последнее. Могу назвать тех, кого постоянно перечитываю: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Баратынский, Клюев, Есенин, Ахматова, Цветаева, Пастернак. Получается, что современность для меня заканчивается на Пастернаке, точнее, на Ахматовой, которая умерла последней из этой когорты.
Оксана Геннадьевна Новикова, г. Иваново, преподаватель:
– Почему Вы выбрали именно танка и хайку для выражения своих мыслей?
Василий Костерин:
– Выше я уже отвечал на этот вопрос. Могу добавить, что трудные стихотворные формы всегда привлекали поэтов (например, венок сонетов). Думаю, это происходит потому, что вдохновение сочетается с борьбой против стихии языка, с одной стороны, и его норм, общепринятых правил, с другой. Преодоление трудностей, как и в любом другом случае, дарует радость, а мысль и чувство, отлитые в краткую форму, производят более сильное впечатление.
Елена Михайловна Селезнёва, г. Богородск Нижегородской обл., библиограф МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» (Центральная библиотека г. Богородска):
– Василий Костерин. «Попытки танка».
Слышу имя своё за спиной,
Оглядываюсь
На полузнакомый голос.
То я, семилетний,
Окликнул себя невзначай.
По словам Василия Костерина, истинная танка всегда символична. И только с помощью символов поэт может разбудить душу читателя, если она спит.
Эти строки разбудили мою душу. Поэтому, прочитав их, я вдруг внезапно вспомнила, что будучи ребёнком, я всегда хотела увидеть себя лет эдак через тридцать. Каким-то образом попасть в будущее и хоть одним глазком посмотреть на то, какой стану. Конечно же, себе 7–8-летней в сорок лет я представлялась глубокой старухой. Я хотела знать, сколько будет у меня детей, какая будет у меня профессия и т. д. Но парадокс в том, что сейчас я, 40-летняя женщина, также хочу попасть в своё детство, увидеть себя маленькую, поговорить с собой, предупредить о чём-то. Я часто представляю, как это произойдёт и что я скажу сама себе, от чего предостерегу. Странные мысли, но это так.
Детство – это целая жизнь, именно в эту пору закладывается наше мироощущение и случается познание самого себя, все наши детские радости и печали оставляют глубокий след. Жизнь воспринимается ярче – небо голубее, трава зеленее, люди добрее. И я знаю, что бы я 7-летняя сказала себе сейчас, окликнув внезапно: «Все мы родом из детства, помни об этом!»
Вопрос писателю: каким Вы видите будущее современной русской литературы?
Василий Костерин:
– Будущее русской словесности зависит от будущего России. Русофобия приобрела мировые масштабы. Идёт настоящая гибридная война против нашей страны. В этом противостоянии на стороне России принимает участие её великая литература. Призвание русской словесности – быть частью России, жить её проблемами, её болью, опираться на свои литературные традиции, на нашу классику. Напомню слова известного специалиста по Достоевскому В.Н. Захарова. Он говорит, что в России всегда была не столько литература в европейском понимании этого слова, сколько христианская словесность.
Словесность и литература. Эти два слова часто ставят рядом. С конца XVIII века они сосуществуют в русской филологии как близнецы-братья. Некоторые исследователи последовательно употребляют слово «литература», как будто термина «словесность» не существует, другие стремятся их согласовать и употребляют там, где это возможно, параллельно, третьи – по отношению к Руси-России склонны говорить только о словесности.
Что прежде всего бросается в глаза при сравнении двух терминов? Во-первых, слово «литература» – иностранное, восходящее к латыни, тогда как «словесность» – родное, отечественное. Во-вторых, «литература» происходит от латинского littera (буква), а «словесность» – от слова, письменного или устного. Именно особое понимание слова и особое отношение к нему делают различия между понятиями «литература» и «словесность» такими же масштабными, как различия между буквой и духом (согласно апостолу Павлу, «буква убивает, а дух животворит» – 2Кор. 3: 6), или между иконописью и живописью.
Два различия между терминами выявляются уже при поверхностном взгляде. Расхождение между ними заметно углубляется, если посмотреть на них с мировоззренческой точки зрения или в ракурсе русской и западной ментальности. Как справедливо отмечает А.В. Моторин, «противоборство (между двумя речениями: словесность и литература. – В.Л.) является частным, но существенным проявлением общего расхождения между русскими и западными духовными устремлениями». В двух терминах мы имеем принципиально разный взгляд на истоки и суть словесного творчества, на его призвание и предназначение.
Какой жанр наиболее популярен в древнерусской словесности? Без сомнения – Слово. Достаточно вспомнить «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона или «Слово о полку Игореве». Слово в древней словесности не только творческая сила и источник словесности, не только часть речи, но и жанр, причём жанр, возникающий вместе с самой словесностью. Тематика этих Слов может быть самой разной. Главное состоит в том, что их авторы пользуются словом как отблеском Божественного Логоса, древнерусские книжники всегда чувствуют пуповину, которая связывает слово человеческое со словом Божиим и пишут или говорят со страхом Божиим, боясь эту связь нарушить, оборвать. Тогда слово может превратиться в пустословие, суесловие, блудословие, заблуждение и принести вред слушающим или читающим. Вот это чувство взаимосвязи человеческого слова со Словом-Логосом пронизывает всю древнерусскую книжность. И хорошо было бы возродить это чувство и эту взаимосвязь. Итак, будущее современной литературы – всегда и во всём оставаться сердцем, совестью и любовью России и оставаться христианской словесностью, уходящей своими корнями в словесность древнерусскую. И вместе с ней восходить к Слову.
Неизвестный (-ая):
– Необычно, когда поэт выбирает краткость, ведь для выражения мыслей и эмоций, казалось бы, можно использовать горы бумаги. Но Василий Костерин берет за образец японскую поэзию, как он сам пишет: «она призывает читателя к сотворчеству. Так мало можно сказать в пяти строках. И вместе с тем – так много. Читатель приглашается к сотворчеству, впрочем, как во всякой истинной поэзии». Это интересная мысль, так как каждый читатель воспринимает и читает текст по-своему, танка подкупает кажущейся простотой стиха, она, как природа, безыскусна и каждый раз предстает перед нами по-новому. Глубина одиночества и неприкаянности:
Безмолвно течёт река,
Берег пустынный молчит,
Лишь человек
Обхватил одинокое древо,
Некого больше обнять.
Вдохновлённый Исикавой Такубоку, Костерин тем не менее не боится нарушить канон и пишет, что «кажущееся невладение формой или даже её неуклюжесть служат стремлению передать повседневную жизнь с её неоформленностью, неприглаженностью». Как выглядит человеческое горе, удерживается память о близких:
Мой друг меня не видит
И не слышит,
Не понимает,
Лишь улыбается рассеянно,
Совсем недавно овдовел.
Неожиданная встреча с чем-то непостижимым и прекрасным, а может, наоборот, тревожным и трагическим уводит читателя далеко:
Я погружаюсь в книгу.
Не в слова, – в картинку
На сто седьмой странице,
Безоглядно в неё углубляюсь
И не ищу пути назад.
Вопрос Василию Костерину: «Не было ли возможности прочитать танка Вашего сочинения в Японии»?
Василий Костерин:
– Не знаю, следят ли японские писатели и литературоведы за публикациями танка и хайку русских поэтов. Найти их легко в интернете, но для этого надо знать русский язык. Мне, конечно же, было бы интересно мнение японских поэтов не только о моих танка и хайку, но и о произведениях других русских авторов. Насколько знаю, каждый год проводится конкурс на лучшие танка и хайку и в России, и в Японии для иностранных авторов.
Елена Вадимовна Бусыгина, г. Омск, библиотекарь:
– Во мне откликнулось такое стихотворение Василия Костерина:
У каждой книги свои ароматы,
В одной – запах любви,
В другой – зла и смерти,
В моих – дух владельца.
А в типографии все пахнут одинаково.
Одна и та же книга может по-разному раскрываться в руках человека. Один увидит в ней историю любви, другой – грусти и печали. Наверное, во многом на восприятие книги влияют настроение и жизненные обстоятельства читателя. И когда мы будем перечитывать эту книгу спустя какое-то время, откроем совершенно новое произведение.
Читая художественную литературу, мы получаем бесценный жизненный опыт, учимся на чужих поступках и ошибках. Конечно, это не делает нашу жизнь идеальной, но мы начинаем лучше её понимать.
Василий Костерин:
– Да, книги надо перечитывать. И если вы берёте в руки уже прочитанную книгу и, читая, обнаруживаете в ней что-то новое, это свидетельствует о безусловной художественной ценности произведения. К тому же мы встречаемся в ней со старыми знакомыми и друзьями.
Любовь Сергеевна Григорьева, г. Екатеринбург, научный сотрудник Мемориального дома-музея П. П. Бажова:
– У В. Костерина хотелось бы отметить следующее хайку:
Ночное зеркало
Пустынного пруда,
И в нём лягушкой – жёлтая луна.
Оно перекликается с одним из самых известных японских хайку Басё:
Старый пруд!
Прыгнула лягушка.
Всплеск воды.
(пер. Т.И. Бреславец)
Костерин по-другому подсветил классическое трёхстишье, сохранив в нём ощущение тишины (которое в оригинале передаётся на контрасте прыжка лягушки в старый пруд), абсолютно по-японски предложив ненавязываемую многозначность: тишина как бы ничем не нарушается, только словом «лягушка», которое явно отсылает к прыжкам, всплеску, кругам.
На это стихотворение обратила внимание именно потому, что оно максимально приближено к японским хайку.
И вопрос к В. Костерину: в принципе, хайку и танка можно писать не только на японском языке, но есть ли какие-то кардинальные отличия между русской и японской поэзией? Если есть, то в чём, по мнению поэта, они выражаются?
Василий Костерин:
– Отличия, конечно же, есть, и очень заметные. Прежде всего, думаю, различия культурные. Насколько различаются русская и японская культуры, настолько неизбежно различаются и две литературы. В каждой культуре есть нечто подчас трудноуловимое, то, что ребёнок впитывает с молоком матери. Это некая культурная прапамять, поэтому одну и ту же мысль русский и японец выразят по-разному. И ещё одно: насколько отличаются друг от друга русский и японский языки, настолько отличается и поэзия. Конечно, различия со временем сглаживаются: европейская литература заметно повлияла на японскую, в японской прозе, например, заметно влияние Достоевского, и в свою очередь японская литература, особенно классическая, влияет на европейскую, вдохновляет на подражание. Однако на глубинном уровне остаются важнейшие различия, всосанные с молоком матери. Возьмите, к примеру, «Большую волну в Канагаве» Кацусико Хокусая и «Девятый вал» Айвазовского. Их разделяет всего 18 лет. Для меня это яркий пример различий между русским и японским искусством, между русским и японским мировидением, мировосприятием.
Наталья Александровна Зырянова, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ведущий методист Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина:
– Василий Костерин. Открытие. Четкость строк его поистине уникальна, ничего лишнего, только самая суть. Как канатоходец над бездной… Напевность и лиричность граничат с резкостью и четкостью.
Слышу имя своё за спиной,
Оглядываюсь
На полузнакомый голос.
То я, семилетний,
Окликнул себя невзначай.
Это, мне кажется, встреча со своим внутренним ребёнком. Возможно, нечаянная, незапланированная встреча, и от этого, не менее ценная. Все важные открытия, уже осязаемые, ещё впереди…
В соборе
Праздничное торжество,
А я грущу о сельском храме, —
Душистом острове
Моей молитвы полудетской.
Вновь возвращение к детству. В мыслях, в воспоминаниях он в прошлом, где помыслы и чаянья чисты…
А танка Ветер… вообще мне кажется мистической. После того, как ветер споткнулся, должно начаться самое интересное и непредсказуемое, но от этого не менее прекрасное и захватывающее!
Ветер вмиг преодолел поля,
Но в городе на перекрёстке
Споткнулся,
Не зная, где свернуть,
И, оробев, притих.
Вопрос Василию Костерину. Что предшествует рождению танка в душе поэта?
Василий Костерин:
– Танка и хайку рождаются сами. Бывает, приходит одна строка, реже – две. Приходят всегда неожиданно. Нередко в предсонном или послесонном состоянии, когда душа ещё не рассталась окончательно с тем миром, в котором пребывала. Тютчев назвал душу «жилицей двух миров». Когда душа переходит границу, она всегда что-нибудь захватывает с собой из одного мира в другой. Но бывает, что строки приходят во время чтения: и не только поэзии, но и прозы, даже хороших детективов. Иногда в поезде (никогда в самолёте). Вдруг по ассоциации «придираешься» к какому-нибудь слову, и рождается что-то своё – словосочетание, строка, чувство, мысль, идея.
Наталья Владимировна Матвиенко, г. Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, библиотекарь:
– Если говорить как обыватель: «Что для меня стихи, поэзия?» – это то, что откликается в душе. Если я иду по улице и на ум приходит «я люблю, когда шумят берёзы, когда листья падают с берёз» или «отговорила роща золотая» и проч., то это «моя» поэзия, если нет – увы.
В. Костерина пока не поняла, к сожалению. Надо вчитываться.
Василий Костерин:
– Поэзия, мне кажется, призвана к тому, чтобы её не столько понимали, сколько чувствовали. (Вспомним Пушкина: поэзия должна быть глуповата.) Понимание же следует за чувством красоты. Танка и хайку непривычны для русского слуха, для душевного устроения русского человека, для нашей ментальности. Может, сначала взять японских поэтов – мастеров танка?
Удачно слово «вчитываться». В отрочестве я не любил классическую музыку. Что делал мой учитель? Он предлагал мне послушать то, что не нравилось, второй и третий раз. Даже четвёртый. И так пришло время, когда я слушал только классическую музыку, что уберегло меня от увлечения популярной музыкой, популярными группами и певцами, уж тем более попсой. Я, конечно, знал их и слушал, но критически и без фанатства, с которым поклонялись в своё время, например, битлам. Мой учитель говорил: надо вслушиваться. И я вслушивался. Помню, особенно тяжело мне давался Берлиоз. Но зато потом, когда композитор находил отклик в душе, я радовался, как ребёнок.
Ирина Викторовна Мухамадеева, г. Тара Омской обл., руководитель литературно-драматургической части Омского государственного Северного драматического театра им. М.А. Ульянова:
– Если говорить о творчестве Василия Костерина, то для меня открытие – его танка. Среди прочего, песни вызвали у меня наибольшую эмоциональную реакцию. В них не просто философия. Философия нашего бытия здесь, сейчас, тогда, после. Философия чувств, звуков, любых, от звука голоса до музыки, ветра, звука неопределенного, знакомого лишь тому, кто читает танка. Текст уникален тем, я считаю, именно уникален, что его можно «переложить» на свои личные ощущения, события, ожидания… И пусть автор называет их лишь попытками, но не зачитаться нельзя. «Весна – пора любви… А осень принесла последнюю любовь». О чём? Кто-то кого-то полюбил осенью? Я вижу: была юность, зрелость, прошла большая часть жизни, но не хватило любви, не состоялось, не сложилось. Зрелость. Когда надеяться уже не смеем. Но с прекрасной осенью лет приходит ЛЮБОВЬ. Тебе печально. Но осень – прекрасная пора. И ты печально, тихо счастлив. Да, такое тоже может быть.
Во многом знании –
Много печали,
Я полку книжную
Сегодня перенёс,
Пристроив над огнём камина.
Усталость. Разочарование. Но не мудростью. А знанием. Знанием того, что не всем доступно. Не всем понятно. А ты не знаешь, как объяснить и нужно ли. И тяжело тебе. Книги. Огонь. Размышления. Лишь «пристроил» книжную полку «над огнём камина». Не совершил того, что невозможно. И не совершит… В танка Костерина покой, беспокойный покой, желание их продолжать мысленно, облекать в историю, прожитую историю, или намерение.
Я работаю в театре. Театр – не простой организм. Живой, изменяющийся противоречивый, многоликий. Было бы интересно узнать мнение В. Костерина о современном театре. Отношение к театру, с театром вообще. Что более по сердцу – классический репертуар, современное прочтение классики, современная драматургия?
Василий Костерин:
– Во время учёбы во Владимирском пединституте по вечерам я работал монтировщиком сцены, то есть мы ставили декорации, меняли их по ходу спектакля, а потом убирали. Это был бесценный опыт. Пришлось увидеть театр изнутри, поработать у него «на кухне». И я полюбил театр, у меня появилось много друзей среди актёров, главный художник стал одним из лучших друзей, а муж нашего декана, кстати, считался в то время самым заметным актёром театра. Как только он появлялся на сцене, его встречали аплодисментами, не дав ему раскрыть рта. Опыт, который я вынес оттуда: а) театр держится на классике, б) современная драматургия должна обязательно присутствовать, в) самый опасный компонент – современное прочтение классики. Режиссёр нередко становится не деликатным истолкователем драматурга, писателя, а его соперником, иногда даже убийцей. От классической драмы ничего не остаётся, зритель видит лишь режиссёра и его произвольную интерпретацию классического текста, сюжета, действия. При этом ссылаются на своё Я: я так вижу эту драму, я так чувствую, режиссёр – свободная творческая личность, я имею право на своё понимание классики, у меня своя точка (кочка?) зрения. Драматург же задвинут в угол, и у него нет никаких прав. От Чехова, Островского или Гоголя мало что остаётся, и ответить режиссёру они не могут. Я называю это не новым прочтением, а постмодернистским – эгоистическим и самовлюблённым – паразитированием на теле классики. Хочется кричать: уберите с афиши имя Чехова, замените его именем режиссёра. Но ведь тогда никто не пойдёт на спектакль. В таком режиссёрском подходе присутствует жажда популярности ценой скандала, ради которого на это идут бездарные самозваные режиссёры. Невольно вспоминается Пастернак: «Позорно, ничего не знача, / Быть притчей на устах у всех». Идеал же, конечно, в гармоничном сочетании трёх компонентов.
Анна Сергеевна Платунова, г. Пенза, библиотекарь Пензенской областной библиотеки для детей и юношества:
– Василий Костерин любит использовать формы японской поэзии для выражения чувств. Признаюсь честно, так как чтение таких стихов требует определённого душевного напряжения (ведь в каждом небольшом стихотворении, состоящем из трёх или пяти строк, спрятан сложный образ и глубокий смысл), я не могу читать их много, но мне всегда казалось, что японская поэзия и не рассчитана на то, чтобы читать её запоем, она, скорее, настраивает на медитацию. Поэтому, открыв стихотворения Василия Костерина, выбрала несколько из них, которые показались созвучными моей душе.
*
Творенье Божие так просто
И так сложно.
В руке моей – тысячелистник.
*
Я отставил клавиатуру
И пишу пером по бумаге,
Странная ностальгия.
*
Ты удаляешься, уходишь,
Но мне ты
Всё ближе, ближе.
Василий Костерин:
– Уж что невозможно читать запоем, так это поэзию. Вы правы, Анна Сергеевна. Поэтому раньше, когда не экономили бумагу, каждое стихотворение печатали на отдельной странице, даже если это было трёхстишие. Поэзия просит читателя, чтобы её читали медленно, перечитывали, возвращались к одному и тому же стихотворению. И, конечно, на странице оно должно быть одно, что настраивает читателя на особый лад: перед ним короткое, но вполне завершённое произведение. Хочешь или не хочешь, но запоем его не прочитаешь.
Юлия Сергеевна Большакова, г. Санкт-Петербург, заведующая сектором Отдела индивидуального обслуживания Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих:
– «Попытки танка» Василия Костерина. Поэт словно говорит с нами, проникает в наши мысли, душу. Читаешь и удивляешься, как верны слова, образы. Как в пять строк вместились такие разные чувства. С его стихами отдыхаешь. Сейчас мне хочется выделить эти три танка.
*
Во многом знании —
Много печали,
Я полку книжную
Сегодня перенёс,
Пристроив над огнём камина.
*
Мой друг меня не видит
И не слышит,
Не понимает,
Лишь улыбается рассеянно,
Совсем недавно овдовел.
*
Так хочется на волю,
Решётки нет,
Но всё ж – нельзя.
Так в школе на уроке
В окно смотрел я.
Василий Костерин:
Спасибо за слово «отдыхаешь», Юлия Сергеевна. Поэзия есть отдохновение души.
Ирина Геннадьевна Батракова, г.Братск Иркутской обл., библиотекарь:
– Трёхстишия Василия Костерина впечатляют своей философичностью. В них и любование природой, сожаление о быстротечности жизни. Это всегда сложно выразить – большое в малом, что присуще классической японской поэзии. Миниатюрные зарисовки этого автора скорее похожи на трёхстишия, чем на классические хокку. Даже если не привязываться к количеству слогов в хокку (5–7–5), в его миниатюрах есть некоторая избыточность. Например:
Вот опять разбили ту же вазу,
Вместе склеили осколки,
Но расставанье неизбежно…
Насколько лаконичнее было бы:
Разбили вазу,
Склеили осколки,
Но расставанье неизбежно.
Смысл не изменился. Всё понятно. Это и есть отличительная черта хокку.
– Вопрос: что Вас вдохновляет? Есть ли поэты, которые на Вас повлияли?
Василий Костерин:
– Браво! Ведь задавали уже вопрос: какие у меня представления об идеальном читателе? Вот перед нами идеальный читатель! К этому хочу добавить, что это Ваше, Ирина Геннадьевна, произведение, только Ваше. Я тут ни при чём.
В детстве дед мне читал Некрасова и Пушкина. Это первая встреча с истинной поэзией. Потом пришло подростковое увлечение ранним Маяковским, за ним юношеское преклонение перед Есениным. «Анну Снегину» учил наизусть, но не хватило терпения. В армии произошла случайная встреча с Пастернаком. Помню первый раз в жизни открыл Пастернака, такой маленький коричневый томик (это был примерно 1965 год), прочитал первое стихотворение – «Февраль… Достать чернил и плакать…» Я был в шоке: вот она настоящая современная поэзия! Это удивительное стихотворение мне запомнилось с первого прочтения и до последней строчки. С тех пор я не расставался с Пастернаком. После армии в институте (конец 60-х) кто-то подарил Цветаеву, тоже томик малого формата, кажется, издания 1961 года. Прочитал. Побежал к своему научному руководителю: смотрите, вот настоящая поэзия, а нас чем пичкают?! Почему их не издают массовыми тиражами? Риторический вопрос, как известно, не требует ответа. Не знаю, насколько это чувствуется в моих стихах, но знаю точно, что повлияли на меня Пушкин, Лермонтов (мама купила четырёхтомник поэта, кажется, приложение к газете «Правда», мне же было лет 14–15, и я его проглотил), Маяковский, Есенин, Цветаева, Пастернак. Позже пришли Тютчев, Баратынский, Ахматова, Клюев.
