Тайник абвера
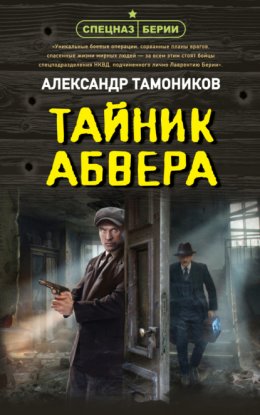
© Тамоников А. А., 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Глава 1
Два «Тигра» вывернули из-за леса и, разойдясь на несколько десятков метров друг от друга, взревели двигателями. Отсюда, с безымянной высоты 112,8, из передней линии окопов Шелестову было хорошо видно, как немецкие танки выбросили сзади себя клубы сизого дыма и поперли вперед, сминая редкие низкорослые деревца, вдавливая широкими гусеницами в черную осеннюю землю чахлый кустарник. Четыре трехтонных грузовика выползли один за другим и стали высаживать пехоту. Танки открыли огонь, и над лесочком стали гулко отдаваться эхом выстрелы танковых орудий.
Шелестов невольно пригнулся, услышав, как над головой прошелестели снаряды. Взрыв, второй! Снаряды упали далеко за окопами и блиндажами командного пункта батальона.
– Откуда они взялись? – подбежавший по ходу сообщения Буторин упал грудью на бруствер и приложил к глазам бинокль. – Смотри, еще грузовики. Они сюда роту пехоты бросили!
Где-то левее грохотал бой. Видимо, немцы под прикрытием атаки позиций батальона левее просочились сюда, к высоте, чтобы уничтожить командный пункт. А может, они и не знали, что здесь КП, не всевидящие же они, да и авиации в воздухе не видать. Просто решили высотку взять и отсюда накрыть наши позиции севернее Тырвы.
– Уходите отсюда скорее! – закричал какой-то майор с седыми висками и шрамом на щеке. – Не видите, немцы прорвались!
– Вы кто такой? – резко осадил офицера Шелестов.
– Заместитель начальника Управления СМЕРШ 196-й стрелковой дивизии майор Капитонов! – вскинул руку к полевой фуражке офицер и тут же стал просить снова: – Пожалуйста, уезжайте, здесь сейчас опасно. Охрана КП – всего один взвод автоматчиков!
– Вам два лишних автомата сейчас не помешают, – ответил Буторин, но майор перебил его и резко выбросил руку влево:
– Вы туда, туда посмотрите!
Левее высоты, из-за леса, один за другим выползали немецкие бронетранспортеры. Они сразу начали высаживать пехоту и открыли огонь из пулеметов по окопам. Несколько пуль протяжно пропели над ходом сообщения. Коротко свистнула еще одна и зарылась неподалеку в бруствер окопа.
– Занимайте оборону, майор, – строго приказал Шелестов и, пригнувшись, побежал по ходу сообщения на левый фланг.
Буторин правильно оценил ситуацию. Танки не спешили выходить на позиции автоматчиков и били из пушек на расстоянии. Пехота перебежками двигалась за танками в неспешной фронтальной атаке. Немцы явно что-то выжидали.
А вот на левом фланге они действовали открыто и напористо. Под прикрытием непрерывного пулеметного огня нескольких бронетранспортеров немецкая пехота в полный рост бросилась на русские окопы прикрытия командного пункта. Если им здесь удастся захватить часть позиций, то танки с пехотой сразу пойдут вперед, поддерживая эту фланговую атаку.
Пробегая мимо блиндажа командира батальона, Шелестов услышал, как комбат приказывает прислать санитара и заменить радиста. Еще один взрыв возле блиндажа заставил Шелестова нырнуть ниже бруствера. Посыпалась земля. Мимо проползли двое красноармейцев с ручным пулеметом и мешком с дисками. Спина Буторина мелькала уже возле самых окопов, когда рядом снова взорвался снаряд.
Откашлявшись и протерев глаза, Максим увидел, что один из бойцов лежит на спине с открытыми глазами и почти вся его голова в крови. Он бросился к раненому, прижал пальцы к шее, но уловить пульс так и не смог.
– Товарищ подполковник, – послышался рядом слабый, едва различимый в грохоте боя голос.
Шелестов повернул голову и увидел рядом в старой воронке сержанта. Штанина у бойца выше колена была в крови. Максим упал на живот и пополз к раненому, но тот покачал головой.
– Не надо, я сам. У меня есть индивидуальный пакет. Перетяну ногу и к санитару доползу, а Сашке уже не поможешь… Вы пулемет… возьмите. Ребятам там трудно без него будет.
Шелестов достал из кармана шинели упаковку с бинтом и разорвал ее. Вложив бинт в руку раненого, Максим чуть сжал ее, кивнул и пополз к пулемету. Пули густо свистели над головой – немцы вели шквальный огонь из пулеметов, и бронетранспортеры подходили уже к самым окопам охранения. Доползти до окопов и передать бойцам ручной пулемет Шелестов не успевал. Еще немного, и враг выскочит из-за бронетранспортеров и кинется в окопы.
Скатившись в ближайшую воронку, Шелестов установил на ее краю сошки пулемета, рядом под рукой положил мешок с полными дисками. Тут же фуражку с его головы сбило пулей, но Максим даже не пригнулся. Сейчас его переполнял не страх, а радость, что он успел, что правильно поступил, схватив пулемет. Еще десяток-другой метров немцы пробегут, а потом в окопы полетят их гранаты, а следом они сами бросятся туда. Немцев больше, и исход рукопашной предрешен. Советские автоматчики не отойдут, они будут до последнего прикрывать командный пункт батальона.
Шелестов нажал на спусковой крючок. Промахнуться с расстояния в сотню метров было сложно, Максим хорошо умел стрелять, и сейчас он с торжеством видел, как его длинные очереди косят ряды немецких солдат, как падают по два, по три человека, сраженные пулями, как фонтанчики земли всплескиваются под ногами врага.
Немцы не сразу поняли, откуда ведется огонь. Шелестов сменил опустевший диск на новый. Эта пауза спасла ему жизнь и дала возможность нашим в окопе собраться с силами, сменить позиции. А еще Шелестов увидел, как кто-то пробежал по ходу сообщения к переднему окопу и резким взмахом руки бросил гранату. Солдат упал на дно окопа, с его головы слетела фуражка, обнажив седой ежик волос. Буторин!
Из кузова, откуда немец поливал наши окопы из пулемета, полыхнуло пламя и вспучились клубы дыма. Машина сразу остановилась. Шелестов снова открыл огонь по пехоте, повел стволом и удачно срезал пулеметчика во втором бронетранспортере. Солдат исчез, а сам пулемет, закрепленный на турели, остался с задранным стволом в небо.
Наконец немцы поняли, откуда ведется губительный огонь: на воронку, из которой стрелял Шелестов, обрушился шквал свинца. Земля перед ним просто взорвалась рыхлой волной, поднятой пулями. Максим сполз на дно своего укрытия. Надо срочно менять позицию.
Над головой пронесся шелест летящих снарядов. Потом еще и еще. По ушам резко и больно ударило от близких разрывов. Кто-то на КП батальона вызвал на себя огонь артиллерии.
Сколько продолжался грохот, Шелестов не знал. Он лежал в воронке, закрывая голову руками, а земля под ним вздрагивала и стонала, как живая, терзаемая огнем и металлом. Максим вжимался в нее и, кажется, шептал: «Потерпи, родная, мы спасем тебя, потерпи…»
Буторин умывался, стараясь не намочить бинт на голове. Его чуть задело осколком, но крови на лице было почему-то много. Он вспомнил, как вчера совсем юная девушка-санинструктор, почти школьница, пока обтирала его лицо тампоном и бинтовала голову, все время шмыгала носом. Промакивая лицо полотенцем, Буторин рассматривал себя в зеркало. Хорош, ничего не скажешь.
В дверь вежливо постучали. Шелестов, стоявший у стола над картой, не поднимая головы, сказал:
– Войдите.
На пороге с виноватым видом появился майор Капитонов, держа в руке солдатский вещмешок.
– Ну, заходите, заходите, – Шелестов удивленно посмотрел на майора. – Что вы там замерли?
– Здравия желаю! – громко поздоровался майор, но потом его голос снова поник: – Эх, влетело мне вчера от начальника Управления. Не должен я был вас пускать на передовые позиции. Охрану должную не обеспечил.
– Это – да, – сразу отреагировал Буторин и повел носом: – А в мешке что?
– Да это зам по тылу велел передать. Он же вас на довольствие, так сказать, принял. Понятно дело, что в офицерской столовой вы бывать не сможете. Так вот, сухим пайком хоть…
– Виноватым вы себя не считайте, Олег Романович, – возразил Шелестов, бросая на стол карандаш. – Не ваша вина, что немцы прорвались на КП батальона. До этого там было безопасно. А вообще-то, о чем можно говорить, когда мы с вами на войне. Поэтому давайте без самобичевания. Рассказывайте, что это за подразделение и как оно себя ведет на передовой. Что необычного, кроме того, что немцы затыкают дыры в обороне тем, что подвернулось под руку.
Буторин посматривал на командира, на представителя Управления контрразведки дивизии и наливал в чайник воду. Комнату им выделили в поселке, здесь размещались инженерные службы тылов Красной Армии, и Буторин быстро договорился с армейскими специалистами. Уже к вечеру у них в комнате стоял приличный самодельный умывальник, два примуса, а под потолком горела лампочка, запитанная от военной дизель-электростанции. Ну а к солдатским кроватям оперативникам было не привыкать.
– Вот что нам удалось установить, товарищ подполковник, – начал Капитонов, повесив на гвоздь у двери фуражку и присаживаясь за стол. – Это сводный батальон из числа курсантов разведшколы «Абвергруппа-104». Данные мы получили от трех пленных, захваченных за последние две недели. Я тогда еще тоже очень удивился такому расточительству. Все-таки поиск подходящих кандидатур для обучения в разведшколе – дело не совсем простое. И убеждения, и здоровье, и умственные, простите, способности должны быть на приличном уровне. А тут из них пехоту сделали. Их ведь готовят по нескольку месяцев, а теперь все это добро – под наши пулеметы.
– Что, прямо вот так в атаки ходят? – Буторин замер у кухонного стола с пачкой чая в руке.
– Хороший вопрос, – кивнул задумчиво майор. – Я вот тоже считаю, что ведут они себя не так, как другие немецкие части. Своих оборонительных позиций у них нет. Бросают ротами и взводами на отдельных участках, где есть возможность прорыва, используют в качестве разведподразделений, участвуют малыми силами во время разведок боем для прощупывания наших позиций.
– Насчет этой абвергруппы что-то есть у вас? Поделитесь.
– Есть, конечно, – кивнул Капитонов. – «Абвергруппа 104» находится в подчинении «Штаба Валли». Это подразделение…
– …мы знаем, – перебил майора Буторин. – Специальный разведывательный орган абвера, созданный в июне 1941 года для организации и проведения разведывательной, контрразведывательной и диверсионной работы против Советского Союза. Подчинялся управлению «Абвер-заграница». В частности, отделу «Валли-2».
– Совершенно верно. С апреля 1944 группой руководит лейтенант Голли Гиндер, агентурный псевдоним «Рихард». Основная часть курсантов – бывшие советские военнопленные и украинские националисты. С 1944 года в «Абвергурппе-104» началось обучение агентов на специальных курсах под руководством бывшего майора РККА Озерова. В это же время была создана штурмовая команда, которая обучала разведчиков переднего края. Группа состояла из добровольцев из числа украинских легионеров и агентов, уже проверенных работой в советском тылу. Во время дислокации подразделения в Гросс-Рерсдорф было организовано обучение в двух группах: первая состояла из русских (10 человек), вторая – из западных украинцев (25 человек). Группы были изолированы друг от друга, при этом украинская группа имела более широкую программу. Группой руководил офицер штаба «АГ-104» некто Макс. Специальными курсами руководил бывший майор Красной Армии Озеров.
– Где базировалась абвергруппа до последнего времени?
– В Пскове, Максим Андреевич.
– В Пскове? – Шелестов с Буториным переглянулись. Оба помнили наставления Платова перед отъездом на передовую.
– Какие части еще стояли в Пскове за время оккупации? – спросил Шелестов.
Капитонов с шумом выдохнул, как будто собирался с силами или с мыслями. Он свел брови над переносицей и стал похож на школьного учителя. Заговорил, глядя на карту, расстеленную на столе, но показывать на ней было нечего.
– Тогда, в 41-м, к Ленинграду первыми вышли 16-я, 18-я немецкие армии и 4-я танковая группа. В Пскове, учитывая, что он всегда был серьезным транспортным узлом, немцы стали формировать свое тыловое хозяйство. Фактически всей группы армий «Север». Нам удалось установить, что в Пскове были расквартированы командование и хозяйственная инспекция группы армий «Север», командование 18-й армии, штаб оперативной команды 1-а (служба безопасности СД), военно-строительная организация Тодта, госпитали. Не обошлось и без разведшкол. В деревне Печки под Псковом разместилась разведывательно-диверсионная структура СД Предприятие «Цеппелин», а в самом городе эта самая «Абвергруппа-104» и разведывательно-диверсионный отдел армейской разведки абвер «Норд – 1-Ц». Примерно с мая 1943 года появились подразделения власовцев, эстонские комендатура и полиция, латышские добровольцы, испанские легионеры из «Голубой дивизии», штаб железнодорожных войск. Временами в городе было расквартировано до 70 тысяч солдат. Постоянный гарнизон имел численность около 20 тысяч.
– Змеиное гнездо какое-то, – усмехнулся Шелестов. – Что-то в городе осталось после ухода этих подразделений? Особенно нас интересуют разведшколы.
– Кто-то уходил в последний момент, паника тоже была, судя по тому, в каком состоянии мы застали помещения, в которых они работали. Но я бы сказал так, что разведшколы ушли первыми и без паники. Как будто нос по ветру держали и сразу поняли, что наступает конец. Ни бумажечки, ни обрывка документа. Все вывезли тщательно и старательно. Все свои архивы.
– Так что их может интересовать в освобожденном Пскове? – поинтересовался Буторин, подсаживаясь к майору.
– А вы полагаете, что их интересует именно Псков? – с сомнением спросил Капитонов.
– Или пригороды, – веско ответил Буторин и стал расставлять на столе кружки. – Будем завтракать и будем думать!
Коган и Сосновский смотрели на командира батальона спокойно и чуть насмешливо. Капитан Логачев никак не мог понять, зачем оперативникам НКВД, да еще прибывшим из Москвы, нужно лезть в пекло пехотной атаки.
– Так они что, из СМЕРШа? – спросил он полкового особиста, старшего лейтенанта Осмолова.
– Нет, – стал терпеливо отвечать Осмолов. – Они не по линии СМЕРШ, они из Москвы, из Главного управления НКВД.
– Я в ваших структурах запутался, – недовольно ответил комбат. – Вы мне, товарищи, русским языком объясните, какого рожна вам надо с моими солдатами на фашистские пулеметы идти? Язык нужен? Так мы вам наловим их, сколько надо. Хоть с десяток. Будут офицеры, и офицеров прихватим!
Коган оглянулся на дверь канцелярии и прикрыл ее плотно. Сосновский снял фуражку, пригладил волосы и посмотрел на комбата с сожалением.
– Послушайте, Логачев! Вы себе голову не забивайте. Ваше дело – воевать, гнать врага с нашей земли, а наша работа – вылавливать предателей, шпионов и диверсантов. Завтра нам нужно с вами вместе идти в атаку. Давайте договоримся вот о чем: вы свое дело делайте и на нас внимания не обращайте. Передайте своим ротным командирам, чтобы они солдат проинструктировали. Кое-кого придется брать живыми, и мы будем делать это сами. Вашим бойцам и так работы хватит. Главное, чтобы мы вам не мешали, а вы нам. Вот и Осмолов с нами пойдет. А уж его-то все в полку знают.
Особист утвердительно кивнул и развел руками. Мол, не мне и не вам тут решать. Комбат только махнул рукой. Коган сразу по выражению лица Логачева понял, что еще тревожит комбата.
– Ты, капитан, не получал от командования приказа обеспечить нашу безопасность? Не получал. Тебя просто комполка предупредил, что мы с твоим батальоном идем. Никакой ответственности за нас тебе нести не надо. Так что не переживай на этот счет.
Вчера вечером старший лейтенант Осмолов сообщил, что в полосе наступления полка обнаружено как раз то подразделение немцев, которое интересует московских оперативников. Во время разведки боем, которую ночью проводили немцы, осталось несколько убитых. У двоих на руке нашли русские наколки. Скорее всего, даже лагерные, как предположил Осмолов.
За час до рассвета в передовом окопе замелькали тени. Солдаты занимали свои места. Почти неслышно: без бряцанья оружием, без разговоров. Только дыхание и топот сапог.
Сосновский стоял в полный рост возле пулеметного дзота и смотрел не столько вперед, в темноту, сколько на солдат, с которыми ему предстояло идти сейчас в атаку. Коган, как всегда с равнодушным ко всему на свете видом, сидел на дне окопа на снарядном ящике, сдвинув фуражку на глаза, и, казалось, дремал, досматривая утренние сны. Каску, которую ему выдали в роте, он положил рядом с собой, и она холодно блестела в темноте.
Серый невнятный сумрак плыл над окопами, как дымка. Было в этой осязаемой картине что-то таинственное и зловещее. Почему зловещее, Сосновский хорошо понимал. Сколько людей поляжет в этой атаке, кому жить, а кому умереть, будет ясно через несколько минут, через час, если удастся выбить врага из окопов с первого раза. А если не удастся? Значит, отползать или лежать, окапываясь, и ждать новой команды, ждать в лучшем случае еще одной короткой артподготовки. А потом – снова рывок вперед, перешагивая через тела товарищей.
Ветер холодил лицо, пробирался под шинель, но солдаты стояли, прижавшись грудью к брустверу окопа, неподвижно, словно статуи. Они смотрели в темноту, туда, где чернели фашистские позиции: блиндажи, пулеметные точки, окопы. Там, в той стороне, где сгущался мрак, их ждал бой. О чем думали эти солдаты? Сосновский знал от комбата, что основная часть его бойцов воюет не первый год. Есть новобранцы, но и они прошли горнило войны за последний месяц. Многому научились. Вообще-то это были матерые бойцы: уверенные, умелые, беспощадные в бою и снисходительные в минуты затишья. Привыкшие ко многому, в том числе и к потере товарищей. Тех, с кем только что курил одну цигарку на двоих, с кем ужинал из одного котелка, с кем спал под одной шинелью, чтобы согреться.
О чем они думали, о предстоящем бое? Вряд ли. Там все доведено до автоматизма, там тело командует головой. Думать о предстоящем бое бесполезно, потому что ты и представления не имеешь, как все сложится, как там все будет. А вот о доме, наверное, сейчас думал каждый. Там, где осталась мать, где ждали, надеясь на весточку. Каждый видел перед собой взгляд матери или жены: тревожный, решительный и все же полный надежды.
Сосновский вслушивался в голоса, которые иногда слышались в темноте. Тихий шепот доносился из окопа, как шорох сухих листьев. Кажется, это сержанты поучали неопытных бойцов, давали советы. Никто не говорил о том, как сейчас все поднимутся в атаку, как смогут прорваться или не смогут с первого раза. Нет, таких пустых разговоров не было. Каждый надеялся на победу, надеялся вернуться домой живыми. Добить гада в его логове и вернуться к своим. Молодые бойцы, а ведь у кого и отец воюет, у кого-то старший брат. Кто-то давно не получал писем. Неизвестно, живы ли.
Нет, не чувствовал Сосновский в этих людях страха. Скорее решимость подняться в атаку, добежать до вражеских окопов и выбить оттуда врага.
И о немцах наверняка тоже думали. Сосновский это хорошо знал. И молодые солдаты думали, и опытные, закаленные бойцы тоже. Немцы, засевшие в своих окопах, точно так же, как и русские, готовились к схватке. Никто из них не хотел умирать – это он знал точно. Но в одном утверждении не сомневался каждый солдат: защита своей родной земли, своей семьи и Родины – это высшее предназначение. Надо выстоять, во чтобы то ни стало, надо победить. И никто – ни он, ни его товарищи – этого не забудет.
Ночной воздух становился холоднее, и солдаты крепче сжимали винтовку. Сейчас ударит артиллерия, полетят через голову снаряды, мины. А потом раздастся команда. Впереди был бой, впереди – битва за жизнь, за будущее.
Часовая стрелка медленно проползала свое заключительное деление. Началось! Утреннюю тишину в клочья разорвала канонада. Почти все бойцы невольно подняли глаза и стали смотреть в ночное небо, которое распарывали огненные стрелы реактивных снарядов «катюш». Вместе с «катюшами» с закрытых позиций била дивизионная артиллерия.
Немецкие позиции, которые до этого были невидимы в темноте, осветились вспышками, в свете огненных сполохов вспучивались черные фонтаны земли, расползались облака дыма. Картина нереальная, футуристическая. Она завораживала, сковывала ощущением восторга и надежды, что в этом аду невозможно выжить. И что пехота, пойдя в атаку, не встретит там никакого сопротивления.
Вот улетел вперед последний снаряд, еще полыхали и грохотали впереди разрывы, а здесь, над окопами стрелкового батальона, вдруг повисла густая осязаемая тишина. Почти все поняли, что последует за этим.
– Батальон! За Родину! В атаку, вперед!
Еще кричали командиры, дублируя команду для своих подчиненных, покрикивали ободряюще сержанты, а из окопов уже поднимались солдаты. Десятки, сотни – бежали по сухой траве, чуть пригнувшись, держа винтовки наперевес. Никаких звуков, никаких криков «ура». Рано еще кричать. Сейчас главное – максимально сблизиться с врагом, если он еще остался там, в развороченных окопах. Только топот сотен ног, только хриплое дыхание! И вот уже посветлел горизонт, вот-вот брызнут первые лучи солнца, лучи надежды.
В небо взвились осветительные ракеты, повисли, заливая мертвенно-бледным светом поле перед немецкими окопами. А потом по нашим цепям ударил пулемет… Защелкали выстрелы, над головами засвистели пули, и вот теперь по утреннему, пока еще темному полю разлилось мощное русское «ура». Неудержимое, торжествующее, мощное, как надвигающийся тайфун!
Сосновский и Коган бежали рядом, замечая огоньки встречных выстрелов. Еще не совсем рассвело, и враг еще плохо различал атакующих. Неподалеку залегли двое солдат, заработал ручной пулемет. Несколько очередей – и вражеский «косторез» заткнулся в окопе. Полетели первые гранаты, разрывы освещали на миг бруствер, фигуры немцев. Значит, первые бойцы уже достигли позиций, добежали на расстояние броска гранаты.
Где-то справа грохнул взрыв. Сосновский пригнулся и сразу же ощутил удар по стальной каске. Он продолжал бежать, прислушиваясь к ощущениям. Боли нет, по щеке ничего не течет, голова не кружится. Значит, осколок прошел вскользь.
– Миша, быстрее! – крикнул Коган, Сосновский каким-то чудом сумел его услышать.
Надо было торопиться, пока не началась рукопашная, пока первые смельчаки не начали освобождать окопы от немцев. Там пленных не берут. Некогда, не до этого…
Вот и первая линия окопов. Явно слышны возня, глухие удары, редкие выстрелы, крики. Первыми идут сержанты с автоматами. С ними проще развернуться в тесном пространстве. Следом пехотинцы добивают тех, кто остался, прикрывают командира. Штурм длится несколько минут. Если не успели, считай, тебя остановили, а значит, жди контратаки. В чужом окопе трудно обороняться.
Но до этого не дошло. В ходы сообщения полетели гранаты, автоматные очереди уже не слепили – рассвело.
Мелькнуло лицо комбата, послышался короткий приказ, и слева фланговым ударом одна из рот ворвалась на вторую линию. Здесь оказалось проще, наверное, большая часть снарядов обрушилась именно сюда, потому что сопротивляться здесь было практически некому. Окопы обсыпались, от блиндажей осталась лишь непонятная груда земли и торчащие бревна перекрытия. Изуродованное оружие, изувеченные тела, из-под груды земли торчат конечности, обрывки шинелей, каски. Все в крови, все облеплено землей по свежей крови. Месиво!
– У кого гранаты есть? – гаркнул широкоплечий сержант. – Мать его, лупит не останавливаясь!
Сосновский посмотрел в сторону блиндажа, откуда отстреливался немецкий пулеметчик.
– Подожди, я его возьму! – крикнул на ухо сержанту Сосновский и, подоткнув полы шинели под ремень, ринулся было к огневой точке.
– Да на хрен он сдался, – рявкнул сержант и, обернувшись, прикусил язык, увидев офицера. Улыбнулся по-простецки и пояснил: – Время теряем, товарищ майор. С каждым валандаться – никакого наступления не получится.
Поспорить не удалось. Подбежавший боец перекатился по крыше блиндажа, быстро подполз к входу и швырнул внутрь противотанковую гранату. Сержант снова выматерился и, обхватив голову руками, присел в боковой ход траншеи. Сосновский бросился за ним и упал, растянувшись на земле. Грохнуло так, что земля подскочила, а в воздухе резко запахло сгоревшей взрывчаткой. Отряхиваясь и кашляя, Сосновский посмотрел на блиндаж. Да, граната в замкнутом пространстве – страшное дело. Даже накат блиндажа в три ряда крепких бревен покосился и просел. Что там внутри осталось от немецкого пулеметчика, Сосновский примерно представлял – фрица буквально размазало по стенам.
– Сюда, Миша, сюда!
Сосновский вскочил на ноги и увидел Когана, который тащил за воротник испуганного немца. Подбежав к другу, Сосновский помог свалить пленного в траншею. Непонятно почему, но Михаил сразу узнал в раненом русского, хотя одет тот был в немецкую форму. Пуля угодила ему в грудь, и Коган, расстегнув куртку, пытался наложить тампон на рану. Из уголка рта пленного толчками вытекала струйка крови, и это был плохой признак.
– Ты кто? Назовись! – стащив с головы раненого немецкую каску, потребовал Сосновский. – Отвечай, и мы тебя к санитарам дотащим, спасем!
– Русский… – прохрипел солдат, – конец мне.
– Не дури, спасем! – уверенно заявил Сосновский, хотя и видел, как мутнеет взгляд пленного. – Как зовут, из какого подразделения? Говори скорее!
– Рогов я… абвергруппа… все на хорошую жизнь надеялся… жить хотелось…
– Терпи, Рогов, вытащим!
– Все, кончился… – Коган откинулся на стену окопа и с шумом выдохнул. Руки его были в крови. Сосновский смотрел на лицо пленного и понимал, что остатки жизни вытекли из него с остатками крови. Все, бесполезно. Но хоть узнали, что «Абвергруппа» оборонялась на этом участке. Коган остатками бинта стирал кровь с рук.
Сосновский поднялся и осмотрелся по сторонам. Кругом дымилась земля и – только бездыханные тела. Никто не ведет пленных, стрельба слышна где-то дальше. Значит, надо догонять пехоту, пока они всех не перебили.
К обеду в огромной воронке набралось пятеро пленных немцев. Знакомый плечистый сержант показал на них стволом ППШ и усмехнулся:
– Я же обещал, что пленные будут, товарищ майор. Тоже ведь люди, тоже жить хотят. Как поняли, что жареным запахло, так – лапы вверх.
Сосновский спрыгнул в воронку и стал рассматривать пленных. Коган и еще двое бойцов принялись обыскивать немцев. Оружия ни у кого не было, даже ножей. Документы складывали стопкой на камень, личные вещи смотрели и отдавали назад. Проверяли, нет ли чего отобранного у наших убитых солдат или местного населения. С мародерами разговор особый.
Сосновский брал документы и по очереди допрашивал пленных. Все были немцами. Про русских слыхали, но рядом их не было. Где-то в тылу – да. Странно, что один русский в полосе обороны все же нашелся. Тот самый, который умер на руках Когана.
Умываясь, Шелестов низко наклонялся, чтобы не замочить шинель. И именно стоя в такой позе, увидел две дырки от пуль в полах шинели. Отряхнув руки, он взял в руки полу и просунул в дырку палец.
– Это сплошь и рядом, – усмехнулся немолодой солдат с котелком в руках. – Даже поверие такое есть у пехоты, что шинелька, а особенно плащ-палатка, пули улавливает и от солдата отводит. Вот и норовят даже летом в плащ-палатках в атаку ходить. Иной раз до пяти дырок находишь, а у самого ни царапины.
– И вы, Акимов, тоже так делаете? – усмехнулся Шелестов.
– Я? – солдат явно смутился, но тут же перевел разговор на другую тему: – Вон, кажись, Осмолов катит. За вами, товарищ майор. Не иначе!
Разбрызгивая колесами грязь на грунтовой дороге, к дому подъехал открытый «виллис». Старший лейтенант затормозил так, что машину протащило юзом еще пару метров. Поблагодарив Акимова, Шелестов подошел к машине.
– Товарищ майор, – Осмолов встал в полный рост, придерживаясь за лобовое стекло с пулевой пробоиной в нижней части. – Едемте скорее. В санбат привезли русского. Он в форме немецкого офицера и без документов. Я не стал допрашивать, сразу за вами поехал.
– Допрашивать надо было сразу, Осмолов! – недовольно упрекнул особиста Шелестов. – А за мной можно было и посыльного отправить. Гоните!
– Да он все равно без сознания был, – ответил Осмолов, выворачивая руль.
Медсанбат – несколько брезентовых санитарных палаток с большими красными крестами – располагался на краю деревни. Над некоторыми скатами вился дымок – топили буржуйки. Все-таки осень.
Машина остановилась у крайней палатки. Осмолов пошел вперед, показывая дорогу. Откинув засаленный полог, они вошли внутрь. Из палатки сразу пахнуло теплом и специфическим больничным запахом: лекарства, дезинфекция. Из двадцати кроватей занято было всего несколько. Судя по всему, это была палатка для тяжелораненых, которых готовили к отправке в госпиталь в первую очередь. Несколько медсестер занимались привычным делом: кого-то перевязывали, кого-то поили с ложечки. В самом центре стояла железная печка. Пожилой солдат подкладывал в нее дрова.
– Здесь, – кивнул особист на кровать, рядом с которой сидел врач. Тут же медсестра набирала в шприц лекарство.
На кровати лежал боец лет сорока с туго перевязанной грудью. Через бинты обильно проступала кровь. Тонкие черты бледного лица заострились. Шелестову почему-то показалось, что этот человек уже не жилец.
Врач поднял глаза на незнакомого майора, сразу понял, кто это, и торопливо заговорил:
– В чувство я его привел, но говорить ему тяжело.
Врач явно хотел добавить, что раненому вообще противопоказано говорить и напрягаться. Он и так может в любую минуту умереть, но говорить это при самом раненом, пусть он и враг, было не совсем гуманно.
Шелестов кивнул головой:
– Я все понял. – Максим уселся возле кровати на стул, который освободил доктор.
После укола дыхание немца стало спокойнее, даже на щеках появился румянец. Он открыл глаза, поглядел вверх, на полог палатки, потом повернул голову к Шелестову.
– Кто вы такой? – стал спрашивать Шелестов. – Вы русский? Как вас зовут?
– Русский, – еле слышно ответил раненый, с трудом шевельнув губами. – Какой я русский. Не смог умереть… теперь все равно.
– Вы из «Абверкоманды-104»?
– Да… русские. Отбросы. Земля вот своя не приняла, – на висках у раненого напряглись жилы, чувствовалось, что он хочет сказать больше, но сил не хватает.
Шелестов начал спрашивать о цели, с которой этот человек пытался перейти линию фронта, но тот вдруг выгнулся и опал. Врач буквально оттолкнул Шелестова и стал искать пульс на руке и на шее лежащего. Медсестра снова схватилась за шприц, но врач только покачал головой.
– Бесполезно. И так чудо, что он пришел в себя и вообще что-то смог сказать.
– Хорошо, спасибо вам, – Шелестов кивнул и, надев фуражку, вышел из палатки.
Возле костра сидел молодой сержант и крепкий жилистый солдат с широкими крестьянскими ладонями. Они курили, о чем-то разговаривая и посмеиваясь. Увидев подполковника, сразу же вскочили на ноги, пряча папиросы в рукав. Наверняка папиросами их угостил Осмолов и велел подождать начальство. Старший лейтенант подтвердил эти предположения.
– Вот, товарищ подполковник, эти бойцы пленного взяли.
Сержант бросил окурок в костер и ловко вскинул руку к пилотке. Солдат последовал его примеру, но Шелестов махнул рукой, останавливая процедуру представления. Он улыбнулся, когда увидел, что боец на голову выше своего сержанта. Детина – так в деревнях называли здоровяков вроде этого.
– Вольно, садитесь, – предложил Шелестов, усаживаясь на свободный пенек у костра и доставая из кармана шинели пачку папирос. – Давайте еще по одной, что ли? Заодно и расскажете, как этого немецкого офицера взяли.
Солдаты закурили, стараясь держаться важно, со значением. Как же, подполковник из Москвы, из самого НКВД разговаривает с ними с уважением, как с равными. Правда, оба – опытные бойцы, воевавшие уже не первый год, сообразили, что нужно подполковнику и чего он от собеседников ждет. А ждал подполковник от них, судя по всему, нормального пленного, «языка», которого можно допросить и вытрясти из него важные сведения. А они притащили тяжелораненого, который, опять же, судя по всему, кончился в палатке и рассказать ничего не успел. Для опытных фронтовиков работа не очень хорошая, должны бы понимать. И ребята это явно понимали – не удержались, стали оправдываться, говоря о горячке боя, о том, что немец отстреливался как сумасшедший. Рука в последний момент дрогнула. А хотели ранить легко.
– Вы не о том мне рассказываете, – улыбнулся Шелестов. – Знаю, что орлы, знаю, что умеете воевать так, что дай бог каждому. Вы мне расскажите, как себя этот немец вел. Отступал, отстреливаясь, держал оборону или поднял солдат и повел в контратаку?
– Нет, один он был, – задумчиво ответил сержант и переглянулся с бойцом, который кивнул утвердительно. – Мы его не сразу и заметили. Мы шли вперед по окопам да через окопы, а он у нас за спиной оказался. А когда понял, что мы его засекли, стал стрелять и метаться.
– Он сидел, когда вы его заметили, или куда-то двигался?
– То-то и оно, товарищ подполковник, – пробасил боец. – Он вроде как в наш тыл пробирался. То ли выжить хотел, думал, наша атакующая волна пройдет, и он отсидится, а потом скроется, а может, и еще что удумал. Например, форму сбросить и за своего сойти. По-русски он ругнулся, когда мы его ранили и стали вытаскивать, чтобы сдать, значит.
– Смыться хотел, дезертировать, – согласно заявил сержант. – Точно!
Глава 2
Коган наворачивал жареную картошку прямо из сковородки, жадно откусывая от краюхи черного хлеба. Шелестов посмотрел на голодного товарища и усмехнулся:
– Пивка бы еще бидончик, а, Боря? Да редисочку в соль макнуть.
– Вам смешно, а я со вчерашнего вечера ничего не ел, – серьезно ответил Коган и вдруг замер, вздохнул, отставил в сторону сковороду и, откинувшись на спинку стула, блаженно улыбнулся: – Ну, вроде полон. Хорошо!
– Ты где Виктора оставил? – поинтересовался Сосновский, не отрывая взгляда от расстеленной на столе карты района. – Ночь скоро.
– Уж полночь близится, а Буторина все нет! – процитировал Шелестов известные строки из оперы «Пиковая дама» Чайковского. – Ладно, давайте подумаем вот над чем, ребята. Я отметил на карте места, где линию фронта пытались перейти русские, переодетые в немецкую форму. Не всегда была возможность установить точно, были это власовцы или бывшие курсанты «Абвергруппы-104». Но объединить это подразделение по национальному принципу мы можем. Главное, во всех случаях, – эти люди пытались отсидеться в окопе после нашего наступления, после чего просочиться в наш тыл. При попытке их задержать они оказывали активное сопротивление и, как правило, были убиты. Самое главное, что все это отмечено за последние полторы недели в полосе наступления 196-й стрелковой дивизии. То есть после оставления немцами Пскова.
– Тут есть еще один важный момент, – вставил Сосновский. – Из всех частей и подразделений противника на этом участке русское только одно – батальон, собранный из курсантов разведшколы. Только одной из всех, что квартировали в Пскове. И на участке почти в шесть километров в зоне обороны немцев линию фронта пытаются перейти русские. А батальон базировался все это время сначала в Столбцах, вот здесь, потом в Пришово. А разброс попыток перейти линию фронта на шесть километров. Сомневаюсь, что русские в немецкой форме свободно могут бродить по немецким тылам передовых частей. Это система, ребята, кем-то организованная!
– И нет гарантии, – поднял вверх указательный палец Коган, – что все попытки перехода были пресечены. Могли быть и удачные, о которых мы ничего не знаем. И контрразведка СМЕРШ дивизии не знает, и командование войск по охране тылов фронта не знает, и территориальные органы НКВД тоже. Сведений же нам никто не предоставил в ответ на запросы Платова.
– Может быть, – медленно произнес Шелестов. – Может, и не знаем. Но что может быть целью? Из всех направлений кратчайшее – как раз южнее Псковского озера, к самому Пскову. Не то время и не та обстановка, чтобы окружной дорогой петлять к цели. Сейчас главное – быстро и незаметно, кратчайшим путем пробиться к ней. Неужели Псков? Почему? И все зафиксированные случаи, если отбросить лирику, весьма похожи на попытку остаться в нашем тылу. Упорные, надо сказать, попытки. Под названием «любой ценой»! Не находите?
А Буторин в это время лежал продрогший в кустарнике на холме и смотрел вниз, на поле боя. Вчера вечером здесь творился ад: рвались снаряды, танки гусеницами месили землю, рвали проволочные заграждения и человеческие тела. На поле перед немецкими позициями, да и на них тоже, не осталось ни одного целого деревца. Пулями и осколками были сбиты и расщеплены практически все. Еще во время боя и сразу после него по полю прошли санитары, собирая раненых. А потом, пока не стемнело, «похоронщики» увезли тела убитых.
Буторин иногда очень не любил спорить. Нет, он прекрасно умел доказывать свою правоту, рассуждать очень аргументированно, но часто он просто чувствовал на уровне интуиции, что прав. И тогда не хотелось придумывать доводы, а хотелось просто проверить свою правоту и доказать ее поступком и результатами. И сейчас ему очень не хотелось спорить и доказывать. Он должен был сделать то, что задумал, веря, что не ошибается. И самым тяжелым была за эту ночь не попытка согреться, лежа на осенней земле, а не уснуть. Буторин понимал, что нельзя пытаться согреться, это только нагонит сонливости. А он должен наблюдать, должен оставаться чутким, как хищный зверь на ночной охоте.
И он не ошибся. Около пяти утра темная тень скользнула ниже него на земле и исчезла. Нет, не показалось, в том Буторин был уверен. Он ждал, замерев, стараясь даже дышать через раз. И темный силуэт появился снова, уже метрах в пятидесяти от него. Это был человек, он осторожно пробирался через кустарник правее бугорка, на котором лежал разведчик. Буторин еще с вечера хорошо изучил пространство перед собой. И сейчас даже в темноте понял, откуда появился незнакомец. Единственным хорошим укрытием был сгоревший несколько дней назад немецкий танк, сползший одним боком в большую воронку от авиабомбы. Там, между гусеницами, зарывшимися в рыхлую землю, он и прятался.
Двигаться совсем бесшумно незнакомец не умел. В каждом его движении, в том, как он через каждую минуту замирал, чувствовался страх и даже небольшая паника. Но двигаться бесшумно умел Буторин, и он через пятнадцать минут оказался точно на пути этого человека, за остатком кирпичной стены разрушенной трансформаторной подстанции. От строения только этот кусок стены и уцелел, и Буторин стоял за ним в полный рост, прислушиваясь к движению в темноте.
Он успел немного разглядеть незнакомца, пока тот приближался. Этот человек был одет в немецкую форму, но без шинели. На нем было старое пальто, которое он, видимо, давно припас. Мудро! Буторин оценил предусмотрительность этого человека. В тылу Красной Армии в немецкой форме его могли запросто застрелить без лишних разговоров. За три года войны появился такой условный рефлекс у советских солдат, переполненных ненавистью к врагу: нажимать на спусковой крючок при виде немецкой формы, при звуке немецкой речи. Каждый через свое сердце, через свою душу пропустил все то горе, которое принес немецкий солдат на нашу землю, что иного не стоило и ожидать. Что посеешь, то и пожнешь! Фашизм своими злодеяниями посеял в душах советских людей лютую ненависть к себе.
Хрустнул под ногой камешек, вдавленный в землю сапогом. Судя по звуку, незнакомец находился за стеной, в паре метров от Буторина. И он очень напряжен. Так что никаких криков «руки вверх, бросай оружие». Выстрелит в ответ мгновенно, с перепугу выстрелит. Только брать, голыми руками. Минуты стали длинными, как часы.
Снова хруст под ногой чужака. Буторин очень медленно присел, осторожно кладя автомат на траву, и так же осторожно выпрямился. Все, руки свободны.
Человек появился у края стены и замер, шаря взглядом в кромешной темноте вокруг. Он вытер левым рукавом лоб, продолжая держать в другой руке «шмайсер». Еще миг, и он сделал шаг за стену, чтобы укрыться от посторонних глаз, но тут же получил удар в кисть правой руки. От удара она согнулась к предплечью, пальцы механически разжались, выпуская автомат. Незнакомец не бросился назад, а заученным движением попытался ударить пальцами левой руки нападавшего в глаза, а затем коленом в пах. Но этот шаблонный прием Буторин знал прекрасно и был к нему готов. Он перехватил руку противника возле своего лица, бедром блокировал удар в пах, а затем резко вывернул руку немцу так, что тот вскрикнул и упал на одно колено.
Выворачивая противнику руку за спину, Буторин навалился на него всем телом, падая вместе с противником и прижимая его к земле. У немца еще оставался шанс воспользоваться правой рукой и дотянуться до оружия, которое могло находиться под одеждой или за голенищем сапога. Но Буторин прижал его локоть коленом, а потом перехватил руку и тоже завернул ее за спину.
Немец хрипел и ворочался, пытаясь сбросить с себя противника. Но Буторин хорошо владел приемами рукопашной борьбы и знал, какое нужно принять положение, чтобы противник не вырвался из-под тебя. Он вытянул из рукава заготовленную заранее бечевку, быстро обмотал одну кисть руки пленного, потом вторую, стянул их вместе с такой силой, что незнакомец разразился матерной руганью без характерного немецкого акцента.
– Ну вот и порядок, – удовлетворенно заявил Буторин и принялся проверять карманы пленника.
Тот снова сделал попытку вырваться и перевернуться на спину. Может быть, даже, если удастся, нанести удар ногами в грудь противника. Но Буторин влепил ему в затылок с такой силой, что тот ткнулся лицом в землю и затих.
– Без всякой экспертизы вижу, что ты русский, сука, – прорычал разведчик на ухо поверженного. – Лежи смирно, пока я тебе кое-что не отрезал, чтобы ты не плодил такую же падаль, как ты.
Кажется, до пленника дошло, что человек, так мастерски сваливший и связавший его, церемониться не будет. Сочувствия и жалости от него ждать не приходится. Оставалось затихнуть и ждать дальнейшего развития событий.
Расстелив старый женский платок, Буторин принялся в темноте выкладывать на него все, что находил в карманах пленника. Был там, конечно, и немецкий «парабеллум», и большой складной нож. Но по большей части попадались вещи, не относящиеся к оружию: спички, немецкие сигареты, два подозрительных узелка, сделанные из чистых тряпиц. В одном что-то хрустело, какие-то листки бумаги, скорее всего, деньги – немецкие или советские – в темноте разбираться некогда. Во втором оказались какие-то мелкие твердые штуки. Они навели Буторина на мысль о драгоценностях и украшениях.
Сдерживая негодование и злость, Буторин связал платок в большой узел, отложил в сторону. Задрав на пленнике пальто, он бесцеремонно вытянул брючный ремень и ножом располосовал штаны пленнику так, что он не смог бы идти, а тем более бежать, если не будет сзади связанными руками держать их. Приказав предателю молчать и не издавать ни звука, Буторин поднял его и повел вниз с холма к одному из блиндажей на позициях, с которых батальон начал вчера свою атаку на немецкие траншеи. Здесь все было готово, включая и трех бойцов, по очереди дежуривших всю ночь в ожидании Буторина.
Отправив одного из них в штаб полка, чтобы тот вызвал старшего лейтенанта Осмолова с машиной, Буторин зажег в блиндаже две «коптилки», сделанные из снарядных гильз, и рассмотрел лицо пленника. Мужчина лет тридцати пяти или сорока. Точнее сказать было нельзя, потому что после удара лицом в землю пленник выглядел несколько неопрятно. Широкое скуластое лицо, короткие, под машинку остриженные волосы. Плечи широкие, но это скорее говорило об особенностях фигуры, чем о развитой мускулатуре. Подбородок мягкий, безвольный. Глаза маленькие, бегающие. М-да, это не герой, готовый умереть за свои убеждения.
– Ну что, давай знакомиться, – поставив перед собой пленника, Буторин уселся на деревянные нары напротив. – Фамилия, имя, отчество, год и место рождения!
– Ich verstehe nicht[1], – пробормотал пленный на безобразном немецком и нервно облизал губы.
– Что ж ты вдруг перестал понимать? – удивился Буторин. – Матерился ты довольно хорошо и правильно, когда я тебя мордой об землю вмазал.
– Русский, что ли? – вытаращил глаза боец с автоматом, которого Буторин оставил в блиндаже. – Ух, сука!
– Русский, русский, – кивнул Буторин. – И вот что, русский! Ты учти, что валандаться мне с тобой тут некогда. Ты сам свой выбор делай. Или отвечаешь на все мои вопросы, а потом трибунал и лагеря, но жить останешься. Или продолжаешь ваньку валять и выдавать себя за немца, тогда я велю солдату тебя вывести в окопчик и пристрелить, как пса шелудивого.
– Ха, – оскалился боец и вскинул поудобнее автомат. – Это прям с нашим удовольствием за Родину нашу, за сожженные города и села. Иуда!
Пленник со страхом посмотрел на бойца, потом перевел взгляд на майора. Губы его мелко дрожали, на бедрах, видневшихся из-за спущенных штанов, проступили крупные мурашки.
Буторин недовольно поморщился, потом задрал рукав шинели и посмотрел на наручные часы. Вздохнув, медленно расстегнул кобуру, достал свой ТТ и взвел курок.
– Может, я? – деловито осведомился солдат. – А, товарищ майор? Для нас это дело привычное!
– Для нас тоже, – хмыкнул Буторин, но тут пленник торопливо заговорил:
– Нет, не надо, я буду говорить. Я все расскажу.
– Говори, – равнодушно отозвался Буторин и аккуратно положил перед собой пистолет, стволом в сторону пленника.
– Рябов я. Рябов Илья Васильевич, 1903 года рождения, из-под Рязани, деревня Дубравы. Бежать хотел, дезертировал я от немцев! Заставили меня, не хватило духу помереть, застрелиться или гранатой себя. Так и попал в плен. А теперь искупить хочу, добровольно…
– Ну да, добровольно, – кивнул Буторин. – Это я так сразу и понял по тому, как ты сопротивлялся. Дай тебе волю, прирезал бы меня там, в кустах, и дальше пошел. Ты на жалость-то не дави, Рябов, ты по делу рассказывай. Где у немцев служил после того, как в плен попал? Когда попал?
И начался сбивчивый рассказ человека, который пытается вымолить себе жизнь и хочет выгородить себя. Непонятно, на какую жалость он рассчитывал. Наверное, это был условный рефлекс, животная попытка спасти свою шкуру, хоть в ногах валяйся. Наверное, у немцев и валялся. В плен попал под Красным Бором в 1943-м. Не выдержали нервы, сил не хватило у бойца Рябова. Голодный, продрогший, уставший, он угодил в плен. А когда понял, что может выжить, надо только рассказать во всех красках, какая жуткая обстановка в блокадном Ленинграде, да и вообще в Советском Союзе, зачитать сведения по бумажке для военнопленных и мирного населения, согласился. Был такой момент у Рябова с мыслями, что все равно умирать.
Потом лагерь, где за дополнительную пайку надо было выдавать зачинщиков побегов, коммунистов и командиров. Правда, Рябов клялся и божился, что никого выдать не успел. Не верили ему военнопленные, скрывали от него, что могло навредить другим. А потом ему предложили пойти в разведшколу. Тут Рябов оговорился, что дал согласие пойти в разведшколу только с одной целью – чтобы перейти к своим, когда его забросят в советский тыл.
– Значит, ты сейчас выполнял приказ перейти в наш тыл? – поймал его на слове Буторин.
Рябов опустил голову, пожевал губами, но не ответил. Буторин ждал, пытаясь понять, почему пленный не ответил сразу. Хочет соврать и думает, как это половчее сделать, или пытается сказать правду и хочет, чтобы она выглядела убедительно. Солдат за его спиной шевельнулся, перехватив автомат поудобнее, это заставило пленного поторопиться. Он понимал, что приказ «расстрелять» может прозвучать в любой момент.
– Приказ был, но я перешел самостоятельно, без приказа, – наконец ответил он. – Самовольно.
– Загадками говоришь, – с угрозой произнес Буторин. – Ну-ка, поясни, что это за шарада такая.
– Я должен был перейти линию фронта в паре с другим человеком. Тоже бывший военнопленный. Усаченко его фамилия. Да только побоялся я с ним идти. Зверь он, не человек. Мне намекали кое-кто, мол, пойдешь с ним, поможешь ему перейти линию фронта, он тебя потом там же и кончит. Не нужен ты ему будешь дальше, балласт, мол, ты для него.
– И как же ты один сумел перейти? Наверное, командир пехотного подразделения на этом участке не получал приказа пропустить тебя, оставить при отходе?
– Получил, – тут же возразил Рябов. – При мне ему приказано было. Только день и время не указали. Просто предупредили. Ну, я и рискнул сам, мол, приказано сегодня. А там такая катавасия началась, что ему не до меня стало. Так и остался я.
– А это что? – Буторин стал разворачивать свертки, в которых действительно оказались деньги – советские и немецкие марки и еще несколько женских золотых украшений. – С кого снял?
– Не я, правда! – горячо заговорил пленный. – Христом богом клянусь, не я снимал! Украл я это у одного курсанта, когда готовился перебежать.
– Бога вспомнил! У-у, Иуда! – проворчал за спиной солдат с автоматом, и Рябов невольно втянул голову в плечи.
– Цель перехода? – потребовал Буторин. – Какое задание вы должны были выполнить?
– Правда, не знаю, – Рябов сложил руки на груди и с мольбой посмотрел на майора. – Усаченко старшим группы был, ему приказ давали. Я знаю, что должны мы были в Псков пробраться, встретиться с немецким агентом, который там осел. Что сделать надо, я не знаю. Знаю, что немцы, когда отступали, чего-то там не успели. Надо завершить.
– Взорвать?
– Может быть, – вздохнул Рябов. – Нас с Усаченко готовили в одной группе на минеров. Диверсии, минирование…
Снаружи послышался шум приближающегося автомобиля, и через несколько минут в блиндаж вошел особист Осмолов. Старший лейтенант обошел стоящего навытяжку диверсанта, осмотрел его с ног до головы и одобрительно улыбнулся.
– Ну вы даете, товарищ майор! Значит, оправдалась ваша догадка? В одиночку его тепленьким повязали!
Шелестов попросил задержаться своих оперативников, когда прибежал посыльный и доложил, что майор Буторин возвращается с новостями. Майор так и просил передать: «С новостями». Оперативники переглянулись, а Коган пошел ставить чайник, решив, что Буторин возвращается голодный, продрогший и уставший. Но тот вошел в дом бодрым шагом, по его лицу не было заметно, что он провел бессонную ночь в засаде на ветру. Правда, от кружки горячего крепкого чая он не отказался.
За столом, когда вся группа собралась вокруг него, Буторин обстоятельно рассказал о всех событиях этой ночи и, главное, утра. Оперативники опять переглянулись. Значит, интересует врага все же Псков, пусть и освобожденный.
– Диверсия? – задумчиво произнес Сосновский. – Готовились, но пришлось так быстро драпать, что не успели привести в исполнение свои планы?
– Значит, поэтому из курсантов «Абвергруппы-104» и сформировали батальон, – уверенно заявил Буторин, – именно поэтому он активно имитирует боевые действия, а сам, по сути, только пытается торчать в районе передовой, чтобы переправить своих агентов в Псков через линию фронта. Сложная какая-то схема, но теперь нам хоть что-то понятно.
Шелестов посмотрел на Сосновского, тот сидел и рисовал карандашом на листке разные рожицы. Коган перехватил взгляд командира и уставился на друга.
– Миша, ты что? – спросил он. – Есть идея?
– Да нет, я просто… – Сосновский вздохнул, бросил на стол карандаш и откинулся на спинку стула. – Подумалось. Понимаете, ребята… Судя по тому, как упрямо абвер пытался вернуть своих агентов в Псков, готовилось что-то очень опасное. Вы учтите, что после целого ряда провалов с февраля 1944 года абвер подчинили СД. Точнее, оставшиеся, не расформированные его структуры и школы. А ведь в Пскове было и подразделение СД, но занимается этой операцией все же разведшкола абвера. Он – как структура СД, но все же остается на службе интересов вермахта. И, судя по тому, что Псковом сейчас интересовался именно абвер, акция готовилась по линии армии против Красной Армии в ее тылах. СД диверсиями не занимается, если только это не политическое убийство и не покушение на лидера государства или кого-то из ведущих ученых. Значит, диверсия готовится против Красной Армии или же она касается ее тылов. Что-то, что может остановить, парализовать, затормозить наше наступление в Прибалтике.
– Согласен, Михаил, – кивнул Шелестов. – А оборвалась у них тут какая-то цепочка. Есть человек, который знает, где и как ее восстановить, но нет исполнителей в Пскове. У них тут есть агент, к которому рвутся диверсанты, чтобы получить карту, схему, узнать точку приложения. А сам агент в Пскове не может найти людей для выполнения задания.
В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел старший лейтенант Осмолов. Лицо у него было не то встревоженное, не то довольное. Учитывая, что и он провел бессонную ночь, сразу понять, с чем пришел особист, было невозможно.
– Что-то с Рябовым? – насторожился Буторин.
– Нет, товарищ майор, с ним работают. Тут другое. Позвонил майор Капитонов из СМЕРШ 196-й стрелковой дивизии, просил передать вам, товарищ подполковник, что в районе Руйиены перешли через линию фронта двое диверсантов и добровольно сдались нашим красноармейцам. Русские в немецкой форме.
– Двое? – удивился Шелестов. – А вот это уже интересно. Не первый раз они пытаются заслать к нам в тыл пару диверсантов, и мы то трупы получаем, то только второго, который ничего не знает. А тут сразу двое! Неужели, наконец, повезло?
– Или просто совпадение, – проворчал Коган.
Шелестов оставил Буторина работать с пленным Рябовым. Возможно, он все же знал больше, чем сказал. Пусть не о том, чего от них ждало командование в Пскове, а об обстановке в батальоне, а до этого – в разведшколе, пока она базировалась в Пскове. Это тоже помогло бы группе Шелестова разобраться, что здесь происходит.
Латаная и перелатаная «эмка», которую выделили группе в штабе дивизии, оказалась ухоженной машиной. Наверняка водитель, который ездил на ней, с сожалением отдавал ее в незнакомые руки. Шелестов хорошо знал, что опытные водители относятся к технике как к родной: очеловечивают, приписывая машине черты характера, знают ее норов. И были уверены, что в чужих руках машину обязательно ухайдокают, не будут чужие люди беречь ее так, как водитель.
Сосновский сел за руль, завел мотор, прислушиваясь к его работе, одобрительно кивнул. Ехать им было недалеко, но это по меркам мирного времени, по меркам обычного города, который не знал войны. А проехать километров тридцать по территории, где прошла война, не всегда просто, не всегда безопасно. И уж конечно, не быстро.
Шелестов, сидя на переднем сиденье, задумчиво смотрел через лобовое стекло. Коган на заднем сиденье то и дело крутил головой, рассматривая пейзажи. Машина уверенно бежала по извилистой грунтовой дороге. Дорога военной поры! Избитая осенними дождями, словно уставшая, вела их через поля, огибая холмы, изувеченные огнем и изрытые сталью. Шины скрипели по гравию, ветки деревьев, голые в преддверии зимы, стонали от ветра.
Неожиданно ниже по реке появилась деревушка. Такая же изувеченная, уставшая. То ли умершая, то ли заснувшая долгим больным сном. Картина, словно замершая во времени: обугленные остовы домов смотрели на дорогу пустыми глазницами окон; провалившиеся крыши – словно ребра сгнившего животного, обугленные стропильные балки. Невольно казалось, что призраки прежней жизни блуждали меж развороченных бревенчатых стен и валявшегося колотого кирпича.
– Горе-то какое, Максим, – прервал тишину Сосновский, рассматривая печальную панораму. Слова его, хотя и негромкие, звучали словно колокол в этой мертвой тишине. – А ведь здесь люди жили, радовались, женились, работали, детей рожали.
– Да, – кивнул Шелестов, не сводя глаз с берез, склонивших свои обломанные стволы, как в печальной молитве. – Война оставила здесь глубокие шрамы. И на земле, и в душах людей. Надо же как-то все это поправить, сколько нужно сил, чтобы вернуть сюда жизнь…
Шелестов вздохнул и замолчал, глядя, как мелкие капли сбегают по лобовому стеклу, капли, которые казались слезами самой природы, плакавшей вместе с людьми. «Сколько слез пролито, – продолжал думать он, – сколько жизней разбито. А все ради одного безумия».
– Как устроен этот мир, – неожиданно подал голос Коган с заднего сиденья. – Мы же все устроены одинаково. Голова, руки, ноги, кишечник. Нас должно волновать одно и то же, радовать, беспокоить, делать счастливыми или несчастными. И независимо от национальной принадлежности. Мы все люди под одним небом, а мы воюем.
Он замолчал и стал смотреть, как вдалеке по полю медленно шла одинокая женщина с корзиной в руках. Не по размеру кирзовые сапоги, ватник не по размеру и большой платок, укутывающий голову и плечи. Женщина шла медленно, устало, еле волоча ноги. И думалось, сколько же предстоит труда, чтобы восстановить все, чтобы закрыть эти кровоточащие раны.
И снова машина затряслась, подскакивая на вывороченных взрывами камнях. Сосновский переключил передачу, сбавил скорость и стал крутить рулем, объезжая неровности, большие камни и ямы, наполненные дождевой водой.
«Интересно, – подумал он, – еще не закончилась война, еще не всю страну освободили, еще до Берлина топать и топать, а вот, поди ж ты, задумались уже о восстановлении, о том, как оно будет после войны. А каким будет остальной мир после нее?»
Серый пасмурный день медленно и тоскливо перетекал в сумерки, когда Сосновский остановил «эмку» возле большого деревянного здания с новой крышей. На дощечке, закрепленной на стене у входа, химическим карандашом не очень ровно было написано: «Сельсовет». Двое автоматчиков, сидевшие на завалинке, при виде штабной машины мгновенно вскочили на ноги.
Шелестов достал из кармана гимнастерки удостоверение и спросил, где им найти майора Капитонова.
Внутри был коридор и несколько дверей. Возле одной из них стоял автоматчик, а самая последняя была раскрыта настежь. Капитонов поднялся навстречу московским оперативникам, пожал всем троим руки, кивнул на человека, который сидел на табурете и старательно пытался смотреть себе под ноги, хотя его явно подмывало взглянуть, кого еще принесло. Явно по его душу.
– Вот, Максим Андреевич, один из этих перебежчиков. Лыжин его фамилия, как он нам представился.
Шелестов сел за стол, Коган и Сосновский устало опустились на лавку у стены, разглядывая задержанного. Чтобы не смущать местное население, на перебежчика надели старую красноармейскую гимнастерку. Правда, штаны и сапоги на нем оставались немецкими, но это уже не так бросалось в глаза.
Капитонов велел задержанному еще раз пересказать прибывшему подполковнику историю побега.
– Когда немцы драпать решили, – уверенным голосом заговорил перебежчик, – я и подумал, как мне к своим податься. Я ведь контуженым в плен попал, без сознания был. А в разведшколу согласился, чтобы возможность была вернуться домой, как забросят. Мол, как забросят, так сразу и явлюсь. Вот и явился!
– Забросили, значит? – спросил Шелестов, изучая список вещей, изъятых у Лыжина во время ареста.
– Никак нет! – бойко заявил Лыжин. – Не стал дожидаться. С приятелем мы решили спрятаться, а потом тайком, как фронт пройдет, податься до органов, значит, до государственных, кому можно сдаться.
– Далеко вы забрались, – покачал головой Шелестов. – Куда шли, зачем? Почему сразу не сдались в полосе наступления первому же попавшемуся подразделению?
– Так шлепнули бы сразу. Дело такое! И еще причина была. Приятеля моего, Пашку Барсукова, ранило, когда мы от немцев ползли. Куда я с раненым? В деревушке остановились, а там женщина сердобольная нашлась. В аккурат на окраине живет. Она, может, и ухватом нас погнала бы со двора, а может, и за топор схватилась бы, когда форму немецкую увидела. Но мы ей сразу сказали, что разведчики мы из Красной Армии, к своим возвращаемся, из немецких тылов. Она и поверила. А когда полегчало Пашке, мы дальше двинули, а тут уж фронтом и не пахнет. Только мы не знали, хотели поскорее подальше уйти. Кто ж знал…
– …что Красная Армия так наступать быстро умеет? – продолжил Коган, доставая из планшета карту. – Пора бы привыкнуть. Покажи, в каком селе и на какой окраине дом, в котором вас сердобольная хозяйка лечила.
– Да я тут уже говорил до вас, – виновато произнес перебежчик, – не очень я понимаю, где мы останавливались. Названия там не было, а на карте ошибиться смогу. Как ранило Пашку, я перевязал ему ногу и поволок. Сутки волок на себе, а потом деревня, ну, в крайнюю хату и постучал.
– Дурака не валяй, Лыжин, – резко бросил Шелестов. – Ты прекрасно знаешь, на каких позициях стоял твой батальон. Ты готовился и знал, где вы переходили линию фронта. Давай, соображай!
– Да я только к тому, что ошибиться могу, – понизил голос почти до шепота Лыжин и, поднявшись с табурета, подошел к столу. – Во, Столбцы! Здесь, значит, стояли. А вот сюда роту нашу в окопы бросили. Стало быть, вот так мы шли лесочком, потом в овраге отлеживались, а потом Пашку в ногу ранило. Наверное, вот эта деревушка. Тут она как Малая Калиновка указана, но я не могу точно сказать. Похоже вроде. А дом на отшибе, и банька там еще ближе к реке старенькая, покосившаяся. И заборчик совсем упал. А хозяйку звали Мария Ивановна.
– Кто звал? – снова вставил Коган. – Вы слышали, что ее кто-то так называл?
– Ну, я к тому, что она нам так назвалась. А в деревне, можно сказать, и не было никого. Не слыхали мы голоса, никто не приходил к Марии Ивановне.
Сосновский молча встал, взял за рукав Капитонова и вывел в коридор, плотно прикрыв дверь в комнату.
– Ты в деревню никого не посылал?
– Да кого мне послать? Бойцов, что ли, с которыми приехал? Толку от них. Там нужно ехать человеку с оперативным опытом.
– Вот и молодец, что не посылал, Олег Романович! – одобрил Сосновский. – Мы сами этим займемся, а твоя задача сейчас – охрана этих типчиков мутных и связь. Понимаешь сам, сколько сейчас придется запросов делать через шифровальный отдел твоей дивизии. Там без тебя с места ничего не сдвинешь. Про второго что думаешь, про Барсукова? Кстати, он где? В санчасти?
– Нет, здесь, в соседней комнате сидит. Рана у него пустяковая. Так, в мякоть пуля попала. Даже постельный режим не посчитали обязательным. А сказать о нем пока мало чего могу, я же так, на скорую руку их допросил. Ясно одно – разные они, сильно разные. Если этот Лыжин болтун, не остановишь, то Барсуков – личность степенная, немногословная. Кстати, Барсуков признался, что бежать один хотел, а Лыжин к нему в напарники навя- зался.
– Он что, на каждом углу растрепал, что хочет дезертировать? – удивленно посмотрел на майора Сосновский. Что значит: этот решил, а тот навязался?
– Надо «потрошить» их глубже, – согласился Капитонов. – Мне тоже это место в их рассказе не понравилось. Но я заострять внимание пока не стал, чтобы не спугнуть. Пусть успокоятся, пусть считают, что мы им верим и все это обычная проверка. Кстати, скоро связисты приедут, привезут полевой телефон и кабель протянут к штабу дивизии. Здесь удобнее работать. Мало населения, на глаза никому наши гости не попадутся, да и охранять их легче, и вам помещение есть. Задержанных есть возможность держать в разных комнатах.
Когда Лыжина увели, двое автоматчиков под руки завели в комнату второго перебежчика и усадили его на табурет напротив стола. По сравнению со щуплым, остроносым Лыжиным Барсуков выглядел солидно. Плечистый, с сильной шеей и широкими скулами, он сидел и смотрел в пол перед собой. Отвечал, чуть склонив голову к правому плечу, глаза почти не поднимал – быстро взглянув в лицо Шелестову, тут же поспешно опускал глаза. Оставалось только гадать, что ему мешает смотреть в глаза людям – стыд предателя или попытка скрыть свои мысли?
– Как вы готовились к побегу, Барсуков? – спросил Шелестов.
– Да никакой особой подготовки и не было. Просто ждал удобного случая, подходящей обстановки. А как подвернулся случай, как только почувствовал, что за мной не следят, так сразу и двинул.
– Лыжин как к вам в попутчики попал? Вы же не с ним вместе планировали побег?
– Да он как-то подсел ко мне в окопе, когда нашу роту бросили на передовую. Наверное, по взгляду моему понял, по тому, как смотрю на поле перед позициями. Подсел, значит, и шепотом так говорит: «Ты не лыжи ли навострил, Пашка?» Я, конечно, испугался, но вида не подал. Стукачей у нас в школе хватало. Все пайку лишнюю пытались заслужить. А он мне и говорит, не робей, говорит, вдвоем сподручнее. Места он эти знает, и сам уже давно думает, как бы сбежать. И даже продукты стал запасать.
– А день побега выбрали вы?
– Нет, само получилось. Неожиданно. Ночью Сергей ко мне подошел, когда я в карауле стоял, и говорит, что надо, мол, прямо сейчас. Начальство уехало, мужики пьют, и надзора никакого. Мол, такого случая больше может не представиться. Прямо из окопа и уползли. А потом то ли шальной пулей, то ли кто понял, что мы сбежали, стрелять нам вслед начали. Зацепило меня малость, да Мария Ивановна в селе пригрела, подлечила. Ну а потом сдались, значит.
– Что за село?
– Не знаю, как называется. Лыжин говорил, что каждую кочку тут знает, он к селу и вывел. А потом в одном окне на краю увидели огонек, он пополз и договорился. А потом за мной вернулся. Он ей вроде наплел, что мы советские разведчики и возвращаемся из немецкого тыла, поэтому и в немецкой форме. Поверила.
– С Лыжиным вы в разведшколе дружили?
– Нет, я его даже плохо помню. В батальоне только и познакомились. Он в другой группе обучался.
– В украинской? – сразу спросил Коган.
– Так точно. Вместе мы проходили только саперное да взрывное дело.
– Кто вел у вас занятия по специальной подготовке?
– Озеров. Был такой. Вроде бывший майор Красной Армии. Так мужики про него говорили.
Опять – взрывное дело, опять – люди, обученные закладывать взрывчатку. Значит, готовилась диверсия со взрывом. Это понимал каждый из группы, но трудно было определить, что же немцы хотели взорвать в Пскове, но не успели. И куда они пытаются раз за разом засылать своих диверсантов, чтобы совершить задуманное. Нечего взрывать в Пскове, там и так процентов девяносто зданий разрушено, нет там таких уж ценных для мировой архитектуры зданий, соборов, объектов культурного наследия мирового значения. И все же? Большого склада боеприпасов нет. Бензохранилище, нефтяное хранилище? Ничего такого, что нанесло бы серьезный ущерб тылам армии. Заводы уже разрушены. Но ведь что-то же есть, какая-то цель существует?
– Борис, – Шелестов повернулся к Когану. – Эту загадку надо разгадать. Ты у нас самый опытный следователь, умеешь проводить допросы. Любой ценой надо выудить у этих мерзавцев, что интересует фашистов в Пскове. Они могут и не знать, но по каким-то намекам, обрывкам фраз, деталям разговоров, пусть подслушанных даже, по какой-то особенной подготовке надо попытаться это понять.
Группа уехала в Малую Калиновку на поиски женщины, которая лечила Барсукова после перехода диверсантами линии фронта.
Коган вернулся в комнату, разложил перед собой листы с показаниями перебежчиков и стал их изучать. Это сейчас они перебежчики, люди, возможно, добровольно решившие порвать с фашистами. Но когда-то они так же добровольно пошли к ним на службу. И не факт, что сейчас они честны на допросах. А если честны? Что стоит за каждым из них, что послужило толчком сейчас и тогда, когда они попали в плен, когда пошли в разведшколу? А ведь они разные, очень разные, эти Лыжин и Барсуков.
На улице темнело. Коган сидел за столом и думал о том, сколько уже прошло перед ним предателей, врагов народа, засланных диверсантов из числа тех, кто ненавидит Советскую власть. За годы работы следователем Особого отдела НКВД перед Коганом прошло много судеб. Он вспоминал лица…
Так же вот Борис сидел за столом, покрытым зеленым сукном, так же мерцала тусклая лампа, освещавшая суровые своды комнаты для допросов. Сидел и наблюдал за арестованным, седоволосым, с лицом, испещренным морщинами, в которых читалась вся глубина его прошлого. Годы службы Родине обернулись для него теперь муками предательства. Что же заставило его, потомка людей, что поднимались на баррикады революций, перейти на сторону врага?
Сколько раз в подобной угрюмой, наполненной тяжелыми мыслями тишине Коган задумывался о самом человеческом существе. Неужели страх, всепоглощающее чудовище, грозящее своим жутким оскалом в каждый момент неудач и потерь, затмевает все иные чувства? Или, быть может, голод, когда в животе урчит, а запах хлеба становится величайшим соблазном, способен затянуть человека в трясину измены? Но как же тогда быть с честью советского солдата, офицера, с присягой, данной однажды перед лицом красного знамени, разве можно все это перечеркнуть ради куска хлеба или возможности выжить?
Все понятно с врагами, которые осознанно шли на советскую землю вредить, жечь и убивать. С военнопленными сложнее. Коган прекрасно понимал, что пытки и бессонные ночи в камере, проглоченные слезы и унижения могут стереть грань между правдой и ложью в сознании пленного. Быть может, ложь врагов, их сладкие обещания о новой жизни, манящие псевдосвободой, становятся как спасительный круг для тонущего? А ведь предательство – это еще и акт одиночества. Когда от сознания откалывается каждый знакомый человек, когда родная земля становится чужой, а товарищи – обвинителями, возможно, тогда толчок к переходу становится неуловимым. В этом состоянии растерянности, стоя на разломе собственной личности, человек становится уязвим для влияния того, кто обещает протянуть руку помощи.
Коган снова начал допросы Лыжина и Барсукова. Он пристально смотрел на бывших пленных, пытаясь понять, что скрыто за этой напряженной маской – раскаяние или скрытая гордость за собственный, по их мнению, смелый шаг? Ответ останется неясным, как и природа самой человеческой слабости, нередко вытекающей из невидимых трещин в собственной душе. И все же остается самая мрачная загадка – примирение собственной совести с фактом измены. Что же в конечном итоге успокаивает в душе такого человека: оправдание собственной слабости или надежда, что однажды история заменит их действия чем-то благородным и высоко ценимым? Ответа на этот вопрос нет и, быть может, не будет никогда.
Пожалуй, суть Лыжина понятнее, она укладывается в голове. А Барсуков? Что он за человек? Так же, как и его товарищ, попал в плен в беспомощном состоянии, но что у него было внутри в тот момент и что сейчас? Напротив сидит человек, прежде солдат Красной Армии, ныне – пленный. Он излучает смесь отчаяния и горькой решимости, словно зная, что ему больше нечего терять. Что же заставляет людей, воспитанных в духе преданности Родине, внезапно отвернуться от нее? Первое, что приходит на ум, – страх. Под гнетом ожидания смерти, угрозой расправы над близкими наивно ожидать от человека героизма. Не всякому дано жить с мыслью о самопожертвовании. Иногда мимолетная надежда на спасение, минутная слабость могут затмить все, чему человек был когда-либо научен.
Но есть и другая, более трудная для понимания категория – те, кто добровольно меняет сторону. Реальное ли недовольство системой, столкновение с несовершенствами или просто желание избежать тяжелейших испытаний военного времени? Эти люди, возможно, оказываются перед лицом собственных идеологических нестыковок или личных обид, что подтачивает их веру изнутри. Есть внутри Барсукова такие нестыковки? Только слабость или обида присутствуют в его душе? Вот что важно понять, вот в чем следует разобраться прежде всего. Возможно, соблазн сытой жизни, уверения новой власти в скором триумфе, даже временное забвение играют свою решающую роль. Но разве не оказывается это зачастую лестью? Заблуждения, питавшие высокие ожидания, разбиваются о суровую реальность предательства.
Однако невозможно считать всех перебежчиков однотипными: каждый случай индивидуален и требует понимания. Внутренние свет и тьма, переплетающиеся в человеке, могут по-разному реагировать на давление обстоятельств. И потому самые мучительные решения рождаются не в моменте предательства, а намного раньше – в исканиях, оставляющих отпечаток на челе предателя…
Было уже далеко за полночь, когда Коган, отложив перо, поднял взгляд на Барсукова. В его глазах, несмотря на ситуацию, следователь вновь увидел человека, ставшего заложником своей слабости или иллюзий. Внутренняя борьба, проигранная или продолжающаяся, все же делает его достойным понимания – но не оправдания. И все же: легенда или правда? Кто из них остался врагом, а кто вернулся на Родину и готов искупить вину? Барсуков ранен при переходе, но неопасно. А если это уловка, умышленное ранение, чтобы получить доверие советской контрразведки?
И еще один важный вывод. Из всех перебежчиков на этом участке фронта, русских, бывших курсантов разведшколы абвера, выделяется только Барсуков. Что это значит? Остальные – случайность, результат наступления и паники, а этот – настоящий, умный, уверенный в себе диверсант. Или наоборот? Единственный, кому можно верить из всех перебежчиков, – Барсуков? Лыжин сказал, что знает эти места, но не смог найти на карте деревню, в которой они остановились…
Эта ночь загадала еще больше загадок, задала больше вопросов, чем дала ответов. Но Когана это не смутило и не испугало. Он хорошо знал по своему опыту, что порой новые вопросы как раз и являются ответами или как минимум подсказками. Вопросы порой несут в себе гораздо больше сведений, чем кажется.
Глава 3
– Надо было просто взять с собой наших гавриков, чтобы они пальцем показали улицу и дом, – Буторин снял фуражку и пригладил седой ежик волос. – Теряем время. И как бы еще нам узнать, сколько этого времени осталось в запасе. Ситуация заставляет нервничать.
– Ты чего такой нервный стал? – Сосновский вышел из машины и стал рядом с товарищем. – У врага ситуация еще хуже. Они там в абвере лопухнулись и приказ не выполнили. Ты же видишь, что они торопятся, совершают ошибку за ошибкой.
– Есть и другой момент, – Шелестов оторвал взгляд от расстеленной на капоте «эмки» карты и посмотрел на деревню. – А если те, кто прикрывает эту операцию с переходом линии фронта, решат, что женщина много знает и вздумают ее ликвидировать? А заодно и агентов, которые умудрились попасть в наши руки? Тогда они просто с нетерпением ждут, когда мы привезем сюда Лыжина и Барсукова, и тут же прикончат их любым доступным способом.
– Иронизируешь? – Буторин недовольно надел фуражку и посмотрел на ближайший лес. – Если бы я не убедился за эти годы совместной работы, что ты чаще всего оказываешься прав, то давно бы уже написал рапорт отправить меня на фронт. Хоть в пехоту.
– Не напишешь, – улыбнулся Шелестов. – Ты же прекрасно понимаешь, что здесь от тебя пользы больше. А врагу от тебя здесь вреда больше, чем на передовой. Ротных командиров там хватает, а вот опытных и умных оперативников здесь недостает. Смирись, Виктор!
Оставив машину на краю деревушки, оперативники двинулись по заросшей травой улице. Колея еще просматривалась, но было ясно, что здесь уже давно не проезжала ни крестьянская телега, ни тем более машина. Улицы выглядели как давно нехоженые тропы в поле, да и дома смотрелись заброшенными. Мало здесь осталось жителей, да и те, скорее всего, были немощными стариками, с которых немцам и взять-то было нечего, на работу в Германию таких не погонишь.
Дом, который описывали перебежчики, находился на краю деревни. Дальше – заброшенный, заросший травой огород, от которого осталась только разваленная ограда из жердей. Потом спуск и небольшой луг, идущий до самого леса.
Вот и сгнивший сруб колодца. Шелестов осматривался и думал о том, что Лыжин, который хвалился приятелю, что знает эти места, так и не сумел толком описать местность и дом. А ведь он закончил разведшколу. Таким вещам его учили. А вот Барсуков, которого он приволок сюда раненным, заприметил несколько ориентиров, которые теперь помогли оперативникам.
Крыша просела и развалилась над сенями и пристроенным сараем. Стекла в двух окнах были почти целы. Разбитое стекло в одном окне заткнули каким-то старым пальто на вате. В другом две трещины через весь оконный проем заклеили полосками газеты на картофельном крахмале.
Шелестов вошел во двор. Точнее, в ту часть, которая была двором до войны. Только остатки забора и разросшийся кустарник напоминали, где здесь когда-то проходила граница.
Дверь в дом была закрыта, но никакого замка не было. Часто в деревнях подпирают дверь толстой палкой, чтобы в отсутствие хозяина в дом не забрались животные. Палки тоже не было.
Буторин пошел обходить дом вокруг, а Сосновский, достав пистолет, присоединился к Шелестову. Входная дверь открывалась, конечно, со страшным скрипом. Все эти три года ее никто не смазывал. Шелестову подумалось, что ее никто и не открывал.
Входили оперативники осторожно, по очереди прикрывая друг друга от возможного нападения. Пусто, пыльно, правда, не видно паутины. Шелестов включил фонарик и стал осматриваться в сенях. Обломанные полки, никаких банок, никаких припасов или сохнущего лука, травяных сборов. Ничего не говорило о том, что дом жилой.
Сосновский включил свой фонарик и присел на корточки, рассматривая пол. В сенях его иногда подметали, но мусора с улицы и ошметков земли натащили все равно. Он взял комочек земли и размял его между пальцами. Земля была мягкая, не закаменевшая. Ей всего несколько дней.
Дверь в жилую часть дома была закрыта неплотно. Шелестов, потянув ее на себя, сразу понял, в чем дело. Дверь разбухла в открытом состоянии, и теперь ее плотно не закрыть.
Первое, что бросилось в глаза, – это попавшееся под луч фонарика белое пятно – разлитое молоко. Судя по осевшей на него пыли, его разлили несколько дней назад, и… след сапога. Кто-то в эту лужу сразу и наступил. Вон следы грязного сапога дальше, ведут к входной двери. Наступили, уходя из дома.
Из печки пахло гарью. Ее топили не так давно. Явно не в прошлом году и не прошлой зимой. Кровать с одеялом и подушкой, лежанка на печи и лавка. Кровать отделена от комнаты ситцевой занавеской, натянутой на бечевке. Занавеска старая, стиранная много раз и вылинявшая на солнце во время сушки. А вот бечевка новенькая.
– Посуда, из нее ели, – понюхав глиняную тарелку, заявил Буторин.
– А на постели спали, – поддакнул Шелестов. – Три спальных места.
Они еще несколько раз обошли весь дом, потом Шелестов вышел в сени и по скрипучей приставной лестнице поднялся на чердак. Сюда не ступала нога человека точно пару лет. Паутина висела плотными слоями по всему чердаку. Дохлые пауки, мыши и сгнившее сено. Ну, еще птичий помет. Когда Шелестов спустился вниз, он увидел Сосновского, сидевшего на корточках возле следа сапога на молочном пятне.
– Надо сфотографировать, Максим, – предложил Сосновский. – След немецкого солдатского сапога с ярко выраженными индивидуальными дефектами на подошве. Можем сравнить с обувью наших перебежчиков.
– Хорошо, сходи в машину за фотоаппаратом, а мы с Виктором постараемся опросить соседей, если тут хоть кто-то есть. Дыма я не видел, но запах горелого почувствовал. Наверняка печку топить нельзя, а кто-то готовил пищу на костре во дворе дома.
Шелестов и Буторин стали осторожно обходить соседние дома. Попалась небольшая собака, вся в репьях, но удивительно, что она не залаяла, а просто, поджав хвост, бросилась в кусты. В другом дворе из травы вышла курица, посмотрела на людей, наклонив голову, и исчезла. Мертвое царство. Неужели здесь никого нет?
Сосновский неожиданно поднял руку, привлекая внимание. Потом сунул пистолет в кобуру и призывно махнул Шелестову рукой.
Во дворе на старом бревне сидела женщина и перебирала сохнущую на последнем теплом осеннем солнце картошку. Лет ей было около сорока, насколько можно было судить по изможденному лицу, растрепанным волосам, которые она старательно прятала под платок. Одета женщина была соответственно: длинная юбка, штопаные чулки и не по размеру большие солдатские ботинки, на плечах ватник с выбившейся местами ватой. Видать, штопать истлевшую ткань было уже бесполезно. Она расползалась в руках.
– Здравствуйте! – громко и как можно приветливее поздоровался Сосновский, он вышел из-за старой сливы и остановился перед женщиной. – Хозяюшка, водицы не найдется попить? А то, я смотрю, тут совсем пусто, никого не осталось.
Женщина вскинула голову на незнакомца в форме офицера Красной Армии, глянула настороженно, но потом, видимо, многолетняя привычка бояться всех незнакомцев отпустила, и она чуть улыбнулась. Женщина на удивление легко поднялась на ноги и призывно махнула рукой:
– Да проходите, проходите. Напою я вас. Колодцы все у нас не чищенные да засыпанные, но я вас ключевой водой напою. Есть тут ключ неподалеку. Чистый, каменистый.
Голос у женщины был низкий, чуть с хрипотцой, видимо, от простуды. Сосновский не спеша двинулся следом, продолжая говорить доверительным тоном, что он с двумя товарищами здесь по делу, а вот никого из жителей деревни не встретили. Пугать женщину не хотелось, да и напугаешь ли ее чем-то после трех лет гитлеровской оккупации, после всех тех ужасов, которые принесла на Псковскую землю фашистская орда.
– Михаил, ты где? – раздался зычный голос Буторина.
– Михаил – это, стало быть, я, – улыбнулся Сосновский, принимая старую кружку с отбитой на донышке эмалью. – А вас как звать?
– Зовите меня Вероникой Матвеевной, – мягко, но со следами застарелой, почти смертельной усталости проговорила женщина. – Я когда-то учительницей здесь была. Наверное, в прошлой жизни.
– Ну что же вы так! – бодро возразил Сосновский, отпивая ледяной воды. – Теперь уже о будущей жизни говорить надо. Прошлое оставлять в прошлом, а будущее наше – это дети. И вам их снова учить. Наша работа солдатская скоро закончится, нам рукава засучить да строить-восстанавливать. А вот вам главная работенка – учить детишек, да так, чтобы в памяти у них все это осталось, чтобы запомнили крепко, что такое Родину любить и защищать. В следующий раз их черед придет.
– А вы думаете, Михаил, что на этом не закончится, что будут еще войны? – женщина посмотрела настороженно.
– А вы так не думаете? – Сосновский вздохнул и глянул на чистое небо. – Вы же учительница, вы историю нашей страны знаете, да и мировую историю тоже. Когда эта вражда прекращалась? Когда это одни правители не точили зуб на соседей? Тем более что у них в Европе ресурсов кот наплакал, а у нас кладовая природная ломится всем на зависть.
Буторин, наконец, по голосам нашел дорогу между разросшимися зарослями сливы. Он остановился возле кустов, посмотрел, как Сосновский пьет воду, и улыбнулся.
– А тут всем наливают? – спросил он, снимая фуражку и приглаживая волосы. – Хоть одна живая душа. Совсем у вас тут пусто, в Малой Калиновке.
– Да почти никого и не осталось, – женщина почему-то опустила голову, как будто стыдилась чего-то. – Кто-то сумел пережить все это, а кто-то как ушел в 41-м, так и не возвращался больше. Живем как можем. Когда наши пришли, солдатики продуктами помогли, а один старшина печку мне починил.
– Картошка хоть уродилась, уже хорошо, – улыбнулся Шелестов.
– Не моя заслуга. На семена бы оставить чуток, так с голоду помрешь. Не я ее сажала, сама выросла на соседнем участке. Грех взяла на душу две недели назад – выкопала. Там же три года никого не было. Умерли, наверное, все за войну. Не осудите, не воровство это.
– Кто ж вас осудит, – кивнул Шелестов. – Вам в ноги кланяться надо, что выжили, а не судить.
Но от внимания Максима не укрылось, что женщина, когда говорила про соседский участок, на котором выкопала картошку, кивнула как раз на тот дом, который они искали. Но чего же стыдилась эта женщина? Надо как-то хитро ее расспросить про этот дом, выудить сведения. Но сейчас, глядя на эту учительницу, Шелестов понял, что с ней не стоит темнить и хитрить. Честно и откровенно, доверительно – как с советским человеком. Она поймет, учитель – это же государственный человек, ей доверила страна учить и воспитывать подрастающее поколение. Уж она-то поймет, несмотря ни на что.
