Кружилиха. Евдокия
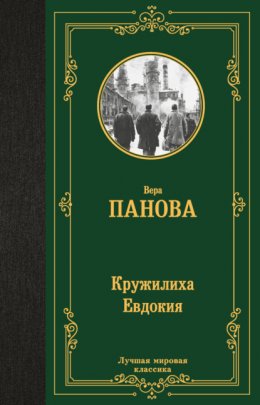
© В. Панова, наследники, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Кружилиха
В прозрачном золоте, в воздушно-алом сиянье над широкой рекой поднимается солнце. Вместе с солнцем поднимается в небо медленный, торжественный гудок. Он заглушает грохот паровозов, шум машин, человеческие голоса – и беззвучно проходят паровозы по заводскому двору, беззвучно сбрасывают свой груз подъемные краны, беззвучно шевелят губами люди… Могучий гудок долго плывет по реке, его слышат в городе, который стоит в девяти километрах от Кружилихи.
По гудку к проходным устремляются люди. Одни пришли пешком из поселка, другие приехали трамваем, большинство – поездами. Длинные поезда подвозят и подвозят людей к полустанку – из города, из пригородов. Только остановится поезд, народ высыпает из вагонов и спешит к заводу – и приливает, приливает, приливает толпами к проходным. Тулупы, ватники, кожанки, шинели, штатские пальто, меховые шубки. Платки, ушанки, шлемы-буденовки, вязаные шапки. Мужчины и женщины, брюнеты и блондины, высокие и малорослые, веселые и печальные, озорные и скромные – десять тысяч людей добрых всякого роду-племени сошлось на завод на дневную смену.
Гудок утихает медленно, он словно спускается с высот – ниже, ниже, припадает к земле, распластывается по ней, замирает где-то в недрах глухой басовой нотой. Протекли, разлились по цехам людские потоки. Только охрана осталась в проходных… Смена началась.
Глава первая
Листопад
В морозный январский вечер генерал Листопад, директор Кружилихи, отвез жену в больницу.
Больница была хорошая, лучшая в городе. Мирзоеву, шоферу, приказано ехать с особой осторожностью.
– Чтобы как по воздуху! – сказал Листопад.
И Мирзоев, который во время беременности Клавдии был отмечен как самый внимательный из шоферов, превзошел самого себя: не ехали – плыли.
– Мы тебя, Клаша, словно на руках перенесли, – сказал Листопад, помогая жене выйти из машины.
Стояли у чугунных решетчатых ворот. За воротами был двор с большими белыми деревьями, и в глубине двора – родильный корпус. Над входом в корпус неярко горел фонарь. От ворот к крыльцу, между высокими, в рост человека, сугробами, была расчищена дорожка-ущелье. По этому ущелью Листопад довел Клавдию до крыльца. Она шла быстро, возбужденная; Листопад слышал ее дыхание. Он сжал ее локоть и сказал:
– Не волнуйся, все будет хорошо.
– Я вовсе не волнуюсь, с чего ты взял? – сказала Клавдия.
В вестибюль вошли вместе, а дальше Листопада не пустили. Пожилая женщина в белом халате и очках завладела Клавдией, а ему велела уходить и взять с собой Клавдину шубку. Шубка новая, котиковая, предмет забот и восторгов Клавдии.
– В самом деле, – сказала Клавдия, – возьми ее домой, а будешь нас забирать – привези, не забудь.
Она радостно засмеялась, и Листопад улыбнулся, представив себе, как повезет отсюда Клашу с ребенком… Он записал номер телефона дежурного врача. Клавдия крепко поцеловала его в губы и пошла вверх по лестнице, сопровождаемая женщиной в очках. Листопад вернулся в машину.
– Вот, – сказал он с притворной досадой, садясь рядом с Мирзоевым, а шубу кладя на заднее сиденье, – вечно наградят какой-нибудь чепухой на постном масле. Никогда не женись, Ахмет, канитель с ними. Придется в театр тащиться с шубой.
В театре происходило в этот вечер совещание городского партактива.
Листопад опоздал. Идя через фойе, он видел в приоткрытую дверь тесные ряды голов в партере и слышал голос Макарова, первого секретаря горкома партии. Судя по долетавшим фразам, Макаров начал доклад уже давно. Через кулисы Листопад прошел на сцену, в президиум. Люди за длинным красным столом потеснились и дали ему место посредине. Сейчас же Зотов, директор авиазавода, прислал ему записку: «Ты что опаздываешь?» Листопад на том же листке написал ответ: «Жену отвозил в родильный». И видел, как записка пошла по рукам и как все читавшие сочувственно улыбались… Зотов перегнулся за спиной соседа к Листопаду и сказал громким шепотом:
– Причина уважительная. Поздравляю.
– Рано! – так же шепотом ответил Листопад, но про себя подумал, что это может произойти каждую минуту.
Надо будет позвонить в больницу из театра после конца заседания…
Он ждал прений. Доклад интересовал его мало: все, что говорил Макаров, предварительно обсуждалось на бюро горкома, и некоторые цифры для доклада Листопад посылал Макарову сегодня утром. Листопад руководил заводом с сорок второго года и был в городе свой человек.
Листопад всматривался в зал. Где там его люди – коммунисты Кружилихи? Рябухина, парторга, здесь нет: он в госпитале, на той неделе ему оперировали флегмону, вызванную засевшим в голени осколком. Вчера Листопад говорил по телефону с профессоршей. Профессорша сказала, что Рябухин еще не раз вернется на операционный стол, потому что возни с осколками, застрявшими в его голени, хватит лет на двадцать… Заехать завтра проведать Рябухина. А приятель Уздечкин где? Вон он, приятель Уздечкин, сидит крайним в пятом ряду и хмуро смотрит в лицо докладчику, а сам думает о Листопаде и до смерти хочет посмотреть на него, но удерживается. И нарочно сел с краю, чтобы ловчее было выходить к трибуне, когда придет время выступать.
Ах, Уздечкин, Уздечкин, ведь сломаешь себе шею дурацким своим упрямством. Доведешь меня до крайности – что с тобой, Уздечкин, будет? Думаешь, тебе рабочие верят больше, чем мне? Не век тебе сидеть на выборной должности. Специальность у тебя пустяковая, да и забыл ты ее за эти годы. Вернуться на производство при твоей амбиции тебе будет ой нелегко!..
У Уздечкина на лице напряженная гримаса, он бледен, худ и некрасив, как все болезненные и плохо побритые люди. И Листопад, который любил все красивое, здоровое и веселое, посматривал на Уздечкина морщась…
Зато приятно смотреть на старика Веденеева: он пришел на актив в черной тройке превосходного сукна, хотя и старомодной. На нем белоснежный крахмальный воротничок и темный галстук, усы и седые виски аккуратно подстрижены. Вид именинника. Молодец, Никита Трофимыч! Знай наших. Вот какие у нас на Кружилихе рабочие-кадровики!
Никита Трофимыч сегодня и вправду именинник: он получил известие о старшем сыне Павле (младший убит в сорок третьем году). Павел вылечился, ему сделали протез, он прислал письмо отцу и в свою цеховую парторганизацию. Пишет, что скоро приедет. И старик Веденеев, забыв свою гордую сдержанность, сияет от счастья… Да, в такую годину хоть без ноги, но возвращается сын, – большое счастье…
Макаров закончил доклад и сошел с трибуны. Когда он садился на свое место в президиуме, его умный, чуть лукавый взгляд скользнул по лицу Листопада. Листопад понял: Макарову наперед известно все, что будет сейчас говорить Уздечкин. Поддержит он Уздечкина или не поддержит?
Выступали коммунисты – главным образом рабочие Кружилихи и авиазавода. Они говорили о вещах, которые в газетах называются производственными неполадками.
Листопад и сам знал, какие у него неполадки. Это были участки, куда он еще не добрался и где требовалось его вмешательство. Старик Веденеев рассказал о том, что новый пресс, о котором столько было разговоров, до сих пор не пущен.
– Мы через партийную организацию и технические совещания неоднократно обращали внимание директора, – сказал он, посмотрев в сторону Листопада.
Листопад кивнул головой: верно, обращали. На секунду ему стало досадно, что всплыла история с прессом. Два месяца назад Зотов чуть не оборвал у него телефонный провод – христом-богом молил: уступи мне пресс, я в следующем квартале получу, отдам. Листопад не уступил. Теперь Зотов обижен. Он пишет записку: «Ты что же как собака на сене: мне не дал и сам не пользуешься…»
Ладно. Пойдет пресс, не завтра – послезавтра пойдет.
После Веденеева выступила работница с авиазавода и рассказала, что многие жилища у них в очень плохом состоянии и дирекция не принимает мер. Зотов нахмурился, перестал писать, закачался на стуле… Листопад хотел было написать ему ядовитую записочку, но не успел: на трибуну взошел Уздечкин.
Знакомство Листопада с Уздечкиным произошло меньше года назад. Когда Листопад принял завод, председатель завкома Уздечкин был призван в армию. На фронте его тяжело контузило, он долго лечился, в действующую его обратно не пустили, а послали в Омск, на политработу. Он писал на завод отчаянные письма, прося его выручить и забрать домой. Рябухин занялся этим делом и выхлопотал Уздечкину разрешение вернуться на завод, где его вскоре снова выбрали председателем завкома.
Уздечкин осмотрелся и пришел к Листопаду с кучей претензий.
– Нет, в это вы не путайтесь, будьте любезны, – сказал ему Листопад. – Это предоставьте мне.
– Извините, товарищ директор, – сказал Уздечкин, – разве вы не знаете, что это прямая функция профсоюза?
– Не знаю, – сказал Листопад, которому Уздечкин сразу не понравился. – Это ваша забота – знать свои функции.
– А социалистическое соревнование вы с нас спросите? – осведомился Уздечкин.
– Не я спрошу, – ответил Листопад, – фронт спросит.
– Этот разговор, – сказал Уздечкин, – придется продолжить в другой обстановке.
– Не к чему, – сказал Листопад, – потому что ничего нового вы от меня не услышите.
С того дня, разгораясь и накаляясь, шла эта борьба. Листопада она иногда раздражала; Уздечкина сжигала, как чахотка.
Листопаду говорили, что у Уздечкина большое несчастье: жена его пошла на фронт санитаркой и погибла в самом начале войны; остались две маленькие девочки, подросток – брат жены и больная старуха – теща; Уздечкин в домашней жизни – мученик. Листопад был равнодушен к этим рассказам, потому что Уздечкин ему не нравился.
Что он делает, этот человек! Он вытаскивает из нагрудного кармана гимнастерки целую стопку листков. Кажется, он намерен делать доклад длиннее, чем у Макарова…
Худыми пальцами он пытается застегнуть пуговицу, пуговица отрывается, он роняет ее на пол. Кто-то в президиуме нагибается и подает ему пуговицу.
– Вопрос, товарищи, не в прессе, – говорит Уздечкин, – пресс – это, в общем, мелочь. Вопрос гораздо глубже и принципиальнее…
Фу-ты, как скучно начал. Ближе к делу. Говори прямо, как я тебя зажимаю…
– Что я обнаружил, вернувшись на завод? Обнаружил прежде всего, что дирекция не имеет контакта с завкомом и не стремится к этому контакту…
Врешь, прежде всего ты обнаружил, что завод перевыполняет программу из месяца в месяц. При старом директоре не вылезали из наркомата, плакались – скиньте процентов пятнадцать, не управляемся, мощности не хватает…
– Никакой согласованности у нас, по сути дела, нет, а есть только единоначалие, точнее сказать – единовластие, еще точнее – директорское самодержавие…
Смотри, какая точность…
– Никогда наш завком не занимал в жизни предприятия такое ничтожно малое место, как сейчас…
Кто ж тебе виноват, голубчик? Сумей занять большое место. Сумей…
– Прежний директор считался с нами, он умел поддерживать престиж профсоюза на заводе…
Да своего-то престижа не поддержал, вот беда. Сняли за непригодность…
– Товарищ Листопад пытается подменить собой профсоюзную организацию…
– Факты! Факты! – с легким нетерпением говорит Макаров.
– Пожалуйста. Товарищи, вот здесь записаны факты за один только последний год…
Он потрясает перед залом пачкой листков. Губы у него серые.
Зотов оставил свой блокнот и с приоткрытым ртом смотрит на Уздечкина. Прищурившись, зорко смотрит Макаров. Все смотрят. Такого выступления за годы войны не слышали на городском активе.
Уздечкин перечисляет невыполненные предложения технических конференций. Порядочно – штук двадцать. Есть очень дельные. Черт его знает, и в самом деле: почему они не выполнены? Одни – потому, что параллельные проекты разрабатываются у главного технолога, другие как-то забылись за более срочными делами…
– Вывод такой, что директор плохо прислушивается к голосу масс…
Печальный вывод.
– …зато каждое требование главного конструктора выполняется моментально, как будто это приказ наркомата…
Да, старичка берегу, что верно, то верно.
– У главного конструктора ревматизм или там подагра, так он перенес работу отдела к себе на квартиру. Инженеры ходят к нему заниматься. Товарищи, это же недопустимое явление: что за частная контора в условиях социалистического производства!
А уйдет главный конструктор на пенсию – лучше будет? Другого такого не скоро сыщешь.
– Или возьмем историю с начальником литейного цеха Грушевым. Завком против того, чтобы его премировали; а директор премирует, что называется, каждую пятницу. Лично я высказывался и против награждения его орденом.
– Почему? – спрашивает Макаров.
– Потому что у рабочих определенное мнение о нем. Потому что Грушевой думает только о своей выгоде, как бы выдвинуться… Но директор к нам не прислушался.
А мне некогда разбираться, о чем Грушевой думает. Цех Грушевого систематически перевыполняет программу по взрывателям, и я представляю Грушевого к награде, – просто и ясно.
– …Если требуются средства на наши культурно-массовые или бытовые мероприятия, то директор отпускает неохотно, и приходится долго просить и доказывать. И в то же время за победу над командой «Спартак» он дал каждому из наших футболистов по тысяче рублей, а вратарю две тысячи…
– Нет, правда? – Зотов живо поворачивается к Листопаду. – Ух, черт!.. – говорит он с восхищением.
– Невозможно определить, чем руководствуется директор в своих симпатиях и антипатиях. Между прочим, для него не существует различия между людьми, пролившими кровь за родину, и людьми, которые всю войну просидели в тылу…
– Демагогия! – крикнули в зале. Крикнул старик Веденеев, у которого младший сын убит на фронте, а старший возвращается без ноги…
У Зотова на лице нескрываемое удовольствие. Вот так пропесочивают директора Кружилихи! Ну и ну!
– …Таким образом получается, что завкому директор не оставляет на производстве ничего, кроме организации социалистического соревнования…
– Ну, это не мало… – замечает Макаров. – Это не мало. Дай вам бог справиться…
– …и тут мы бесправны. Когда доходит до оценки показателей, является директор и отстраняет нас. И работники, которых мы намечаем, остаются в тени, а на первое место выдвигаются люди, угодные директору…
– Потому что у меня другая мерка, чем у вас! – кричит Листопад, первый раз не сдержавшись. – Потому что я сужу человека по его труду, мне дела нет, в скольких там ваших комиссиях он состоит!..
– Вы слышали, товарищи! – кричит Уздечкин. – Директору дела нет до общественной работы!
– Демагогия! – опять кричат из зала.
– Тише! – кричат другие. – Дайте ему говорить! Не мешайте ему!
– Товарищ Листопад, – говорит Макаров, – вы получите слово – скажете.
Что тут говорить? Нечего говорить. Факты не выдуманные. Уздечкин еще не знает многого. Например: что начальник ОРСа держит в области агентов. Их обязанность – сообщать о ходе колхозных поставок государству. Как только колхоз выполнил все поставки и получил право продавать свои продукты – мы тут как тут: заключаем договоры, забираем картошку, овощи… Через несколько дней, получив официальные сведения от организаций, в колхоз являются снабженцы авиационного и других заводов. Ан уже поздно – Кружилиха все лучшее прибрала к рукам. Зато и вы, многоуважаемый председатель завкома, картошку кушаете и в ус не дуете…
Рассказывать об этом здесь не станешь. Лучше бы вообще смолчать. Все было, все. Зажимал, нарушал, подменял. Только не из желания самодержавно властвовать: от несчастной страсти непременно самому во все вмешаться, собственными руками поднять всякое дело, хоть большое, хоть маловажное. Может, оно и не очень разумно. Даже, наверно, совсем неразумно, да что поделаешь: такой характер.
Но с другой стороны: если бы он вел себя так антиобщественно и антипартийно, как излагает Уздечкин, – неужели тот же Рябухин, тот же Макаров не сказали бы ему об этом? Сказали бы.
Сейчас придется выйти на трибуну и что-то ответить. Насчет технических предложений, почему не выполнены. К слову: не выполнено двадцать, а выполнено за этот же год больше четырехсот… Пошутить насчет футболистов, чтобы в зале засмеялись… Насчет взаимоотношений с Уздечкиным: сослаться на Рябухина, что вот Рябухин работает же и не жалуется, что ему крылья связывают… В заключение чуть-чуть – мягко, сострадательно, деликатно – намекнуть, что у Уздечкина нервы не в порядке…
Он вышел на авансцену – большой, широкий, с набором разноцветных орденских колодочек на груди, в блистательной генеральской форме, которая стесняла его тело и которую он надевал только для официальных выходов, очень сильный и, несмотря на это, выражением глаз похожий на ребенка.
– Товарищи, – начал он доверительно.
Коммунисты, вожаки среди рабочих, люди, создающие на заводе общественное мнение, должны уйти с собрания, простив своему директору его прегрешения и веря в него по-прежнему!
– А все-таки ты собака на сене, – говорил после собрания Зотов, натягивая свою генеральскую шинель. – Прямо обидно, ей-богу. Нет, серьезно, когда пустишь пресс?
– Пущу.
– Чего ждешь?
– Человека.
– За человеком остановка?
– Тебе хорошо: кадрами себя обеспечил?
– Ну, где там, тоже, знаешь… Хочешь, я дам тебе человека на пресс? Ей-богу, дам. Он пойдет. Дать?
– Давай.
– Только уговор: ты мне за него уступи своего Грушевого. У тебя в литерном ведь уже налажено дело.
Листопад засмеялся:
– Он не пойдет.
– Нет, я серьезно. Ух, он злой на работу! Я ему знаешь какие создам условия… Давай!
– Я тоже серьезно. Не выйдет, ваше превосходительство. Мне самому нужен Грушевой.
Листопаду хотелось знать, что думает Макаров о выступлении Уздечкина. В своем заключительном слове Макаров пространно говорил о роли профсоюзов в социалистическом соревновании и даже не обмолвился о происшедшем инциденте… Макаров прошел через вестибюль, разговаривая с двумя рабочими авиазавода. Он поймал взгляд Листопада, но не остановился.
Из комнаты театрального администратора Листопад позвонил по телефону в больницу. Ему сказали:
– Ваша жена помещена в четырнадцатой палате, второй этаж. Она чувствует себя хорошо. Нет, еще не родила. Даже схваток нет. Вы ее рано привезли. Она вам велела кланяться. Позвоните утром.
Вот тебе раз, оказывается, рано, а Клавдия торопила. Что-то ей показалось, она – сразу в больницу. Паника от неопытности. Следующего придется рожать – будет уже смыслить кое-что…
Среди ночи он проснулся один на широкой постели и, еще не открывая глаз, подумал: вдруг Клаша уже родила? Которое сегодня число? Одиннадцатое января пошло с полуночи. Это будет день рождения сына: одиннадцатое января… Ему захотелось позвонить в больницу, но он сдержал себя и позвонил только утром, как ему велели.
Женский голос спросил, кто говорит. Он назвал себя и спросил, как обстоят дела у его жены – Листопад, Клавдия Васильевна, четырнадцатая палата. Женский голос повторил торопливо: «Листопад? Подождите минуточку, я сейчас», – и трубка замолчала. Листопад ждал. Прошло много времени. Какие-то голоса переговаривались около аппарата, а трубка все молчала. Наконец ее взяли, и мужской, густой ровный голос сказал:
– Товарищ Листопад? Я прошу вас сейчас же приехать в больницу.
– Что случилось? – спросил Листопад. – Не рожает?
Голос повторил нарочито ровно:
– Приезжайте в больницу.
Таким голосом не зовут на радость.
– Несчастье? – спросил Листопад.
– Да. Несчастье.
На секунду у него помутилось в глазах.
– Может быть, надо что-нибудь… достать? привезти?
– Ничего не надо. Приезжайте.
Трубку повесили.
С вечера она была очень весела и смеялась над собой, что поторопилась. Схваток не было. Два раза она чувствовала небольшую боль… Она поужинала и уснула. Утром стали ее будить – она была мертва. И неродившийся ребенок был уже мертв.
Главный врач рассказал об этом очень подробно. Он употреблял слова: «гипертония», «сосудистая система», «сердечная периферия». Взяв лист бумаги, он нарисовал много разветвляющихся линий, чтобы объяснить, отчего умерла Клавдия. Листопад следил за проворным кончиком его карандаша и ничего не понимал. Произошла ужасная, подлая, оскорбительная бессмыслица…
– Она когда-нибудь болела дистрофией? – спросил главный врач.
– Должно быть, – сказал Листопад. – Она перенесла ленинградскую блокаду… Да, конечно, болела.
– А на приливы крови к голове она не жаловалась? – спросил главный врач.
– Ни на что она не жаловалась, – сказал Листопад и пошел от врача, глядя себе под ноги.
Тело Клавдии привезли на Кружилиху и положили в Доме культуры. Все устраивал завком. Из института, где училась Клавдия, прибежали озябшие, заплаканные девушки – ее подруги. Они принесли венки и институтское знамя, убрали Клавдию… Листопад ни во что не вмешивался.
На гражданскую панихиду явилась Маргарита Валерьяновна, жена главного конструктора. Перекрестившись и пошептав, она поцеловала Клавдию в губы и в руку, потом подошла к Листопаду и обняла его.
– Ужасно, – сказала она, – когда такое юное существо… – и заплакала.
Он не отвечал и продолжал смотреть на Клавдию.
Веки Клавдии были окружены глубокими впадинами и казались очень большими, и вся она была не такая, как в жизни. В жизни у нее всегда были немного раскрыты губы, а теперь они сомкнуты плотно и строго, потому что челюсть подвязана: навечно подвязана, никогда уже не раскрыться милым губам… В жизни Клавдия ходила растрепанная, волосы у нее были пушистые, светлые, каждый волосок блестел на солнце, а сейчас она причесана гладко, с аккуратным пробором посредине, и приглаженные волосы кажутся более темными и делают лицо более взрослым, и гордым, и умным…
Листопад смотрел на это прекрасное новое лицо и все тяжелее чувствовал ужасную, несправедливую обиду, неизвестно кем причиненную.
Он не привык к таким обидам: жизнь его до сих пор баловала. От сознания вопиющей нелепости и непоправимости того, что произошло, у него чернело в глазах и спирало дыхание. Хоть бы все поскорее уж кончилось!.. А предстоял еще путь на кладбище, погребение – эти девушки, ее подруги, вздумают еще, чего доброго, говорить речи на могиле…
Ему вспомнилось: месяца два назад, не больше, Клавдия, растрепанная, с приоткрытым красивым ртом, сидит на диване и шьет что-то маленькое, а он рассказывает ей о своей матери.
– Ты любишь свою маму, – сказала Клавдия, слушавшая внимательно, как слушают дети.
– Люблю, – сказал Листопад задумчиво.
– И, наверно, не пишешь ей. Все сыновья такие – ленятся писать. Покойный брат редко-редко маме писал.
– Нет, я пишу, – сказал Листопад. – Как что важное у меня случится, я ей пишу. Вот – написал же, когда женился; сразу написал и послал твою карточку… Но, конечно, я оторвался от них. Мать умрет – телеграммы дать не догадаются. Письмом сообщат: такого-то числа умерла, такого-то числа похоронили, чтобы я поминал. И все.
И Клавдия слушала с участием, и в добрых, живых глазах ее блеснули слезы, – и вот прошло два месяца. Клавдия лежит в гробу, и придется писать матери о ее смерти…
Последний раз все подошли к Клавдии, гроб закрыли крышкой и понесли из комнаты. Маргарита Валерьяновна пробормотала испуганно: «Ногами, ногами!..» Гроб поставили на грузовик, убранный венками и гирляндами из сосновых веток. На другом грузовике ехал заводской оркестр с желтыми трубами. Похоронный марш они играли в медленном, торжественном ритме, а грузовики мчались полным ходом, и это было как бред…
После похорон Маргарита Валерьяновна уговаривала Листопада ехать к ним. Листопад отказался и поехал домой.
Квартиру прежнего директора он отдал главному конструктору, а сам жил с Клавдией в двух комнатах в старом заводском доме.
Широкая мраморная лестница с пологими ступенями вела наверх, на просторную площадку. Площадка была вымощена серыми и белыми плитками. Стены белые, очень высокие; свет из громадного окна, отражаясь от них, резал глаза. Шаги по каменным плиткам звучали звонко, резко, пустынно. В обе стороны от светлой площадки расходился длинный сумрачный коридор. По левую сторону он был похож на туннель; далеко-далеко, в конце этого темного туннеля, светлело овальное окно. Стены туннеля были симметрично прорезаны высокими дверными нишами… С правой стороны коридор, разбежавшись, упирался в дверь, обитую черной клеенкой: там находилась директорская квартира. Листопад вошел, отперев дверь английским ключом.
(С одиннадцатого числа он здесь не был. Как ушел тогда утром в больницу, так и не заходил сюда, пропадал на заводе.)
Комнаты очень большие, холодные – топили плохо.
В одной был кабинет Листопада, а в другой – Клашино царство: какие-то коробочки – не поймешь для чего, какие-то флакончики – бог знает с чем, и тетрадки со стенографическими записями, которых Листопад не умел прочитать, и книги, которые он прочитать не успевал… Старые туфли валялись под кроватью. На большом зеркале висел чулок; в зеркале отражалась недоштопанная дыра на пятке; тут же торчала игла.
Листопад не любил больших, высоких комнат – он вырос в деревенской хате с белеными стенами и вымытыми фикусами. И Клавдия любила уют и часто рассказывала подругам, как она все тут великолепно устроит к рождению маленького. Она с увлечением рассказывала, какие гардины у секретарши Анны Ивановны, и как она непременно сделает себе такие же гардины, и что если кабинет разгородить книжной полкой надвое, то будет не так похоже на сарай. Но она никак не могла собраться купить материи на гардины или заказать столяру полку, и так все оставалось как есть. Один раз Листопад пришел домой в плохом настроении и накричал на Клавдию: он кричал, что ему осточертело жить по-цыгански, и, вызвав рабочих, велел отгородить часть спальни и устроить кухню и ванную. Клавдия, видя его усердие, побежала и раздобыла где-то фаянсовую ванну. Ванну притащили, перегородки сделали, но колонку для воды поставить все не удавалось: водопроводчиков на заводе было мало, а дела у них много. Так и стояла ванна без употребления, а мыться Листопад ходил в баню. Обед супругам приносили из заводской столовой. Уборщица заводоуправления убирала им квартиру и ходила за покупками…
Листопад постоял в спальне, постоял в кабинете, опять пошел в спальню… Казалось, кликнуть: «Клаша!» – и ответит голос: «Я-а!» На вешалке шубка, та самая… Синяя тетрадка, в ней крючки и закорючки. На обложке написано: «Сопротивление материалов». Это она стенографически записывала лекции… Убрать все с глаз долой.
Но убирать он не стал. Снял китель и сапоги и лег в кабинете на диване, укрывшись шинелью.
Зимние сумерки стояли в окнах. Было тихо. Не звонил телефон.
«Клаша!» – позвал он одним беззвучным движением губ. «Я-а!» – не прозвучал, а только припомнился голос… Была Клаша, и нет Клаши. Как сон прошла…
Он заснул: трое суток он почти не смыкал глаз. Когда проснулся, солнце било в окна с востока. Он проспал остаток дня и всю ночь!
Звонили. Он босиком пошел отворять, выглянул, не снимая цепочки: за дверью стоял Рябухин в синем байковом халате, без шапки.
– Ты откуда? – спросил Листопад, впустив его.
– Из госпиталя, как видишь.
– Ты мне снишься или нет? – спросил Листопад.
Рябухин улыбнулся.
– Нет, не снюсь.
Листопад сел на измятый диван. Почесывая открытую волосатую грудь, жмурясь и позевывая, смотрел на Рябухина.
– Удрал, что ли?
– Удрал, – улыбался Рябухин. – Пришлось удрать: не выписывают и отпуска не дают.
– Чудак, – сказал Листопад. – В халате по морозу. Простудишься, садовая голова, сляжешь на месяц. Изловчился бы позвонить мне – я б тебе Мирзоева подослал с машиной и с дохой.
– Только у тебя сейчас и делов, – сказал Рябухин и отвел глаза. И от этого сочувствия, высказанного намеком, издалека, сильнее засосало у Листопада в сердце…
– Чаю хочу, – сказал Рябухин и, хромая, ушел в кухню. Листопад слышал, как он возился там с примусом и чиркал спичками. (Рябухин жалеет его. Удрал из госпиталя в халате и от всего сердца кипятит ему чай. И верит, что этот чай поможет Листопаду уврачевать душевную рану.)
Пока Листопад умывался, чистил зубы, надевал чистую рубашку, чайник вскипел. Рябухин, ничего не спрашивая, отыскал чашки, хлеб, жестянку консервов, постелил газету на письменном столе, и они сели завтракать.
– Я к ним больше не вернусь, ты им меня не выдавай, – сказал Рябухин. – У меня уже зажило, они меня держат для наблюдений, как подопытного кролика. Профессорша эта, самая главная, полковник медицинской службы, сумасшедшая старуха, так она прямо сказала: «Я вас, говорит, выписать не могу, у вас замечательное созвездие осколков». Созвездие, слышишь? Астрономы.
(И болтает тоже для врачевания душевной раны.)
– Надо будет вернуть им эту робу, а от них получить мой костюм и шинель.
– Ты возьми пока у меня, что тебе надо, – сказал Листопад, – а халат отошли, а то еще, гляди, обвинят в краже казенного барахла. Ну, я тебе скажу, наскочил на меня Уздечкин на активе, – продолжал он. – Пух и перья!
– Слыхал, – ответил Рябухин.
– Ах, тебе уже доложили!
– Народ приходил проведать – рассказывал.
– Ты вот что! – сказал Листопад, вдруг почувствовав ревнивое раздражение. – Ты, если солидарен с Уздечкиным, дай ему добрый совет: не тем путем действует, этак у него ни черта не получится, хоть три года бейся. В ЦК надо писать!
– Он напишет в ЦК, – сказал Рябухин, задумчиво разглядывая Листопада. – Он сказал, что дойдет до Сталина.
– Чего ж нейдет?
– Он, видишь ли, очень дисциплинированный и очень аккуратный в делах человек…
– Бездарность!
– …Как человек дисциплинированный, аккуратный и… скромный, он, естественно, обратился прежде всего в первичную партийную организацию.
– И пошел дальше по инстанциям.
– И пошел по инстанциям.
– Скучно мне с вами, черти зеленые, – сказал Листопад. – Даже склоку добрую не умеете заварить.
Он сказал так нарочно, чтобы раздразнить Рябухина и вывести его из равновесия. Но тот безмятежно смотрел ему в лицо голубыми глазами и хлебал чай.
– Ты двурушник, – сказал Листопад. – Ты вот пришел ко мне сегодня и ходишь за мной, а ведь ты меня не любишь. Ты Уздечкина любишь.
Позвонили. Рябухин пошел отворять. Это была Домна, уборщица.
– Домнушка! – закричал Рябухин. – Счастлив тебя видеть! Как живешь, дорогая?.. Послушай, ты мне выручишь из госпиталя мои вещи, на тебя вся надежда…
– Директор-то дома? – спросила Домна тонким для жалостливости голосом. – На службу не идет, сердечный? Тут чем свет пакет принесли, велели отдать…
– Вот тебе пакет, – сказал Рябухин, выпроводив Домну и возвращаясь в кабинет.
Листопад вскрыл конверт – там были фотографии Клавдии, снятой в гробу; за гробом смутно виднелся сам Листопад… Когда это успели сделать?.. Листопад спрятал конверт в стол, не показав Рябухину.
– Ты и Домну любишь, – сказал он, пренебрегая возней, которую подняли вокруг его несчастья. – Ты любишь, которые простенькие, которые ни черта не умеют, кроме как пол мести и протоколы писать.
– Люблю, люблю простеньких, – сказал Рябухин, прибирая на столе. – А ты сукин сын, эгоцентрист проклятый, но я и тебя люблю – черт тебя знает почему.
Перебил телефон. Звонила секретарша Анна Ивановна. Она спрашивала, доставить почту ему на квартиру или он сам придет, и между прочим сказала, что главный конструктор прибыл на завод и бушует в цехах.
Глава вторая
Главный конструктор
Маргарита Валерьяновна, жена главного конструктора, была первой дамой на заводе.
Десять лет назад Серго Орджоникидзе призвал жен командиров промышленности к участию в общественной жизни предприятий. Маргарита Валерьяновна попробовала, и ей понравилось.
Всю жизнь она была только женой своего мужа, домашней хозяйкой, и ничего толком в общественной жизни не понимала. А тут вдруг взяла и организовала на заводе образцовый детский сад и диетическую столовую.
Ее похвалили, и она стала уважать себя. А до этого она уважала только своего мужа Владимира Ипполитовича. Она существовала для того, чтобы ему в положенный час был подан обед и в положенный – ужин, чтобы ящичек штучного дерева, стоявший на его столе с левой руки, всегда был наполнен папиросами, а медная спичечница, стоявшая с правой руки, – спичками и чтобы в шесть часов утра был готов крепкий, как йод, по особому способу приготовленный чай.
Начав свою деятельность на южном заводе, где тогда служил Владимир Ипполитович, Маргарита Валерьяновна продолжала работать и на Кружилихе.
В годы войны работы было особенно много. Иногда Маргарита Валерьяновна просто изнемогала. Она состояла в активе завкома и имела дело с врачами, бухгалтерами, инвалидами, эвакуированными, беременными, управдомами, поварихами, санитарной инспекцией, отделом народного образования, отделом социального обеспечения, отделом рабочего снабжения и детьми ясельного возраста.
Весь завод знал эту худенькую озабоченную женщину с плоской грудью, с бледным до голубизны лицом в сеточке мелких морщин и смешными мелкими кудерьками, подвязанными смешным бантом – не по моде, не по возрасту, не к лицу.
О ней говорили: «Старуха сказала, что достанет дров», «Позвоните старухе, пусть попросит директора…» Если бы Маргарита Валерьяновна узнала, что ее называют старухой, она бы очень удивилась. Она считала себя молодой. Тридцать пять лет назад, когда она выходила замуж за своего Владимира Ипполитовича, он был уже мужчина в годах, а она была совсем юное существо. И все тридцать пять лет он сохранялся в ее сознании как мужчина в годах, а она сама – как юное существо. Летом она носила платьица с оборочками, носочки и туфли-босоножки, какие носят молоденькие девушки. При случае проявляла милую кокетливую резвость.
Вообще наружностью и манерами она была похожа на старую девицу, а не на замужнюю женщину почтенных лет.
Она никогда не была матерью, потому что Владимир Ипполитович не хотел детей. Он считал, что дети отнимают у родителей много времени и сил, которые могут быть использованы более продуктивно. Из детей еще неизвестно, что получится, а из него, Владимира Ипполитовича, уже получилось незаурядное явление, и этим явлением надо дорожить, и Маргарита Валерьяновна должна оберегать и лелеять его, Владимира Ипполитовича, выдающегося изобретателя, одного из крупнейших конструкторов в стране, а не каких-то там детей, из которых еще неизвестно, что получится.
Против общественной деятельности Маргариты Валерьяновны Владимир Ипполитович не возражал, но поставил условие: чтобы от этой деятельности никоим образом не страдали его интересы. Маргарита Валерьяновна, ужасаясь своей решимости, дала слово, что интересы не пострадают. И вот десять лет она держала свое обещание.
Владимир Ипполитович вставал по будильнику в половине шестого. В шесть он пил чай: очень крепкий, очень сладкий, не очень горячий, но и не чрезмерно остывший, ровно два стакана и без крошки хлеба. Потом он выкуривал папиросу. Пока он пил чай и курил, нельзя было разговаривать, нельзя было громко дышать: он в это время обдумывал свои занятия на предстоящий день. Несколько блокнотов лежало перед ним; он делал в них пометки. В шесть тридцать он забирал свои блокноты и уходил из столовой в кабинет, сказав «спасибо» и поцеловав у безмолвной Маргариты Валерьяновны ручку.
До девяти он работал один; потом приходили конструкторы. Они звонили робко, входили тихо: они боялись главного конструктора. То, что он сосредоточил основную работу отдела в своей квартире, было для них мучением.
Под эту работу он отвел в квартире три самые большие и светлые комнаты. В них было очень тепло: Владимир Ипполитович страдал ревматизмом. Удобные столы, отличные лампы, техническая библиотека на четырех языках, телефон, ковры под ногами… Любой конструктор с радостью променял бы этот комфорт на неуютное, плохо отопленное помещение отдела на заводе, где сидели теперь только копировщики, – лишь бы уйти от неусыпного, придирчивого надзора главного конструктора.
Они не могли не восхищаться им, потому что то, что он делал, было великолепно. Они понимали, что не каждому инженеру выпадает счастье иметь такого учителя. Но они не могли не ненавидеть его, потому что они были люди, усталые люди, со своими недомоганиями, детишками, бытовыми неурядицами, заботами, – а он не хотел считаться ни с чьей усталостью и ни с чьими недомоганиями и заботами. Если кто-нибудь не являлся на работу по болезни, он воспринимал это как личное оскорбление.
– Я же работаю! – говорил он.
Он мог уволить человека неожиданно и без объяснений – за малейшую небрежность, за пустяковый просчет и просто из каприза. Дальнейшее было делом дирекции и профсоюза; выгнанный волен был переводиться в цех или совсем уходить с завода, главного конструктора это не касалось.
С работниками, которыми он дорожил, он был корректнее, чем с другими; но ни с одним не был ласков.
Для него не существовал общезаводской распорядок дня; своих работников он подчинил своему режиму.
В половине второго он вставал и уходил из кабинета. Это был знак, что конструкторы могут расходиться на обеденный перерыв.
За приготовлением его обеда наблюдала сама Маргарита Валерьяновна. На домработницу опасно было положиться. Не дай бог что могло произойти, если бы еда оказалась не по вкусу Владимиру Ипполитовичу: он не стал бы есть! А Маргарита Валерьяновна захворала бы от раскаянья… Он ел всего два раза в день и помалу, но пища должна была ему нравиться. На сладкое он съедал маленький кусочек пирожного домашнего приготовления. И в самые трудные месяцы войны, когда город питался горохом и льняным маслом, Маргарита Валерьяновна героическими усилиями добывала белую муку, ваниль, шафран и пекла мужу пирожное, без которого, по ее убеждению, он не мог обойтись.
После обеда Владимир Ипполитович немного отдыхал, затем опять уходил в кабинет – до полуночи.
– Мало спите! – говорил пользовавший его доктор Иван Антоныч. – В наши с вами годы, уважаемый пациент, спать надо больше.
– Я сплю позорно много, – возражал Владимир Ипполитович. – Эдисон спал четыре часа в сутки.
Над его столом стоял на полочке радиорепродуктор. Он был включен лишь настолько, чтобы звуки из эфира доносились как тихий шепот, – этот шепот не мешал Владимиру Ипполитовичу. Когда из репродуктора еле слышно начинали доноситься позывные, всегда предшествовавшие приказу Сталина, Владимир Ипполитович включал репродуктор на полную слышимость и вызывал из соседних комнат своих конструкторов. Они входили, и он объявлял приподнято, с дрожью в руках:
– Сейчас будет приказ!
В первые месяцы войны, когда немцы захватили у нас большую территорию и подбирались к Москве, Владимир Ипполитович испытал мучительную горечь. У него не было сомнений в том, что захват этот временный, что победа останется за Советским Союзом; но горечь душила его. И теперь он брал реванш. Один летний вечер 1944 года, когда были переданы пять приказов, был для Владимира Ипполитовича одним из счастливейших вечеров в жизни. Январские победы Красной Армии в 1945 году возвращали ему молодость.
Иногда в нем проглядывало что-то похожее на сердечную доброту. Заметив, что у того или другого сотрудника глаза слипаются от утомления, он взглядывал на часы и говорил сухо и обиженно:
– Вы можете идти домой.
На часы взглядывал, чтобы намекнуть сотруднику: отпускаю-де тебя раньше положенного часа исключительно из сострадания к твоему жалкому положению.
Все-таки не каждый может трудиться так, как он. Да, не каждый.
Ему было семьдесят восемь лет.
В то утро, когда Рябухин сбежал из госпиталя, Владимир Ипполитович за утренним чаем вдруг заговорил.
– Опять больна! – сказал он с раздражением.
Маргарита Валерьяновна тонко, по-кошачьи чихнула в платочек и посмотрела на мужа покрасневшими глазами.
– Должно быть, – сказала она виновато, – я простудилась вчера на похоронах.
– Незачем было ходить на похороны, – сказал Владимир Ипполитович. – Ведь вот я не пошел же. Как будто горе Листопада стало меньше от того, что ты была на похоронах.
– Нет, конечно, но так, видишь ли, принято, – тихо оправдывалась Маргарита Валерьяновна. – Как же так: он бывает у нас, он с тобой работает – и вдруг никто из нас не пришел бы на похороны…
– Предрассудки, провинция, – сказал Владимир Ипполитович. – Мужчина в наши дни переживает все это совершенно иначе.
Медленно переставляя больные ноги в валенках, он прошел в кабинет, сел к столу и задумался.
Похороны, похороны. Который день он слышит это слово. Умерла молодая женщина. Все ахают: подумайте, такая молодая, жить бы да жить!.. Не понимают, что для желания жизни нет предела.
И праву на жизнь тоже нет предела. Неужели из-за того, что он прожил три четверти века, его право на жизнь меньше, чем право этой молодой женщины?
Он внимательно посмотрел на свои бледные сухие руки, изуродованные ревматизмом. Осторожно сжал и разжал пальцы…
Доктор Иван Антоныч говорит прямо: «Пора, пора поберечь себя, потом спохватитесь – поздно будет». Да, пора. Война близится к концу, и близится к концу его жизненная миссия. Для завода он подготовил конструкторов; не справятся – пришлют им кого-нибудь вместо него… А он – на отдых, на отдых. На пенсию. Много ли им с Маргаритой нужно…
На покое можно будет заняться вещами, до которых сейчас не добраться – нет времени. Например, ознакомиться со всем, что сделано в области атомной энергии. Самая грандиозная область науки на ближайшее столетие. Новая эра техники… У него есть несколько мыслей, но они нуждаются в проверке. На проверку нужны годы…
Ужасно: человек достигает вершин своей творческой зрелости, – вот когда, подлинно, жить да жить!.. – и тут, как в насмешку, сваливаются на него физические немощи…
Есть, в конце концов, кто-нибудь, кто отвечает за это свинство? Или действительно не с кого спрашивать?..
Он оставляет богатое наследство. Его автоматы совершеннее английских, американских, немецких. Его мотопилу знают все советские саперы.
На заводе нет ни одного станка, к которому он не приложил бы руку.
Время от времени, когда ему становилось легче, он отправлялся в цеха и, прохаживаясь, обозревал богатства, которые он оставляет наследникам.
Он положил руку на телефонный аппарат, подумал и снял трубку: «Транспортный отдел». – «Что на дворе?» – «Десять ниже нуля». Позвонил в гараж: машину к восьми часам…
Первой на работу пришла Нонна Сергеевна. В дверь кабинета заглянула ее белокурая голова.
– Доброе утро, Владимир Ипполитович.
– Доброе утро. Сейчас мы поедем на завод.
– Я вам обязательно там нужна?
– Да.
Она повернулась и пошла надевать пальто, которое только что сняла. У главного конструктора плохое настроение, вот он и едет на завод закатывать истерику. Будет таскаться из цеха в цех и ко всему придираться. Невозможный старик.
До завода было рукой подать.
Ныряя на выбоинах, объезжая кучи ржавого лома и колотого льда, замедляя ход на переездах через рельсы, машина ехала мимо складов. Главный конструктор сидел рядом с шофером и смотрел вперед холодными глазами.
Он повернулся к Нонне и сказал ей:
– Еще грязнее стало!
Она не ответила. Выражение лица у нее было такое же холодное, как у главного конструктора. Она все это видела каждый день. На ее глазах выросли эти горы хлама. Старику не вдолбишь, что некому их убирать…
Около деревообделочной главный конструктор вылез из машины и медленно пошел, опираясь на палку. Несмотря на малый рост и щуплость, он даже здесь, среди громадных штабелей леса, выглядел чрезвычайно внушительно. Котиковая шапка сидела у него на голове твердо и вызывающе.
Машина тихо двигалась за ним, а Нонна шла рядом, скучая и злясь, и думала: гулял бы без адъютантов; проклятое барство; ей и так по десять раз в день приходится бегать в лаборатории и цеха.
На стенах красной краской, потускневшей от влаги и копоти, были написаны лозунги: «Все силы на оборону страны!», «Смерть фашистским захватчикам!» – и другие того же содержания.
– Все то же самое! – сказал главный конструктор, указывая на надписи палкой. – Три года то же самое! Неужели трудно сделать новую надпись: «На Берлин!»
Пленные немцы убирали снег. Они отбивали лопатами слежавшийся лед и складывали его в вагонетки. Молоденький румяный русский боец, с винтовкой, караулил их. Главный конструктор приостановился: в эту войну он еще не видел ни одного немца. Немцы были поджарые, с испитыми лицами; одни почище, другие погрязнее, но в общем у всех вид не блестящий. Шинели словно корова их жевала; на ногах худые ботинки и обмотки… Работали они лениво, с безучастным выражением; и такое же выражение, что, мол, никакого проку от них не дождешься, и зря их сюда пригнали, и все это одна проформа, – такое же выражение было на лице молоденького бойца. Главный конструктор смотрел с ледяной любознательностью. Немцы посматривали на него… Он вдруг сказал по-немецки:
– Да, вы стреляли по Москве, а теперь вы делаете для нас эту черную работу.
– Война имеет свои гримасы, – не сразу ответил немец, который был почище других.
– Это очень злая гримаса, – сказал главный конструктор, – но это еще не худшая из гримас.
Он пошел дальше, опираясь на палку, закинув голову, медленно переставляя ноги в фетровых валенках; на валенки были надеты блестящие калоши. Немцы смотрели вслед ему и надменной молодой женщине, сопровождавшей его. Один из немцев спросил:
– Кто это?
– Конечно, владелец завода, – ответил тот немец, который был почище, – разве ты не видишь?
Оставшись дома одна, Маргарита Валерьяновна дала работнице хозяйственные инструкции, потом собственноручно вымыла и убрала в буфет стакан и подстаканник Владимира Ипполитовича, а потом позвонила доктору Ивану Антонычу и попросила его зайти к ней по дороге в поликлинику: что-то нездоровится, она боится расхвораться, а хворать ей никак нельзя.
Иван Антоныч был самый старый и самый известный врач на Кружилихе. До революции он был здесь единственным лекарем, если не считать знахарок и повитух; акционеры очень гордились тем, что они так прогрессивны – держат на заводе штатного врача. Теперь Иван Антоныч заведовал заводской поликлиникой, у него под началом был большой штат врачей, стационарных и так называемых «расхожих». Ему очень верили и старались именно его заполучить к больному, и он шел на зов, хотя это уже не входило в его обязанности.
Он говорил:
– Это было – в котором же году? В том году, когда мы построили малярийную станцию, вот когда!
– Петров? – спрашивал он. – Это кто же? Ах, это тот, с предрасположением к ангинам, вы так и скажите!
Он помнил людей по болезням, как другие помнят по фамилиям и лицам. Фамилии в отдельных случаях еще запоминал кое-как; но имени-отчества запомнить не мог и не считал нужным.
– Чего ради, – говорил он, – я буду упражнять мою стариковскую память на этом предмете?
И во избежание недоразумений всех мужчин называл «уважаемый пациент», а всех женщин – просто «мадам».
– Лежать, мадам, лежать и лежать! – сказал он, выписывая Маргарите Валерьяновне рецепт. – У вас чистейшей воды грипп, я ни за что не поручусь, если вы будете прыгать.
– Вы же знаете, доктор, – со скромной гордостью отвечала Маргарита Валерьяновна, – что я прыгаю не для собственного удовольствия. У меня столько нагрузок!
– Нагрузки в нормальных дозах, – сказал доктор, стараясь попасть в калошу и делая при этом такие движения ногой, какие делает полотер, – не вредны для здоровья, я в принципе не возражаю против нагрузок. Но при злоупотреблении, как все излишества… одним словом – лежать!
Он ушел, а Маргарита Валерьяновна надела перед зеркалом девичий капор с помпонами и пошла в собес: надо было поговорить насчет пенсии для одной старушки, матери фронтовика; а дозвониться в собес по телефону – Маргарита Валерьяновна знала по опыту – совершенно немыслимо…
Она вышла на улицу и увидела подъезжающий знакомый автомобиль – это возвращался с завода Владимир Ипполитович.
Она сама не знала, как это получилось, что она вдруг побежала со всех ног и юркнула за угол дома, хотя ей нужно было совсем в другую сторону. Стоя за углом, переводя дыхание, она прислушалась: вот машина остановилась, вот щелкнула дверцей, вот запела, разворачиваясь, – и уехала. Но Маргарита Валерьяновна не сразу вышла из своего убежища: Владимир Ипполитович обыкновенно очень долго взбирается на крыльцо.
Ей было немножко неловко, что она так улизнула. Господи, как маленькая.
«Он бы задержал меня, – оправдывалась она перед собой, – и я бы могла не застать заместителя председателя. А без заместителя председателя никто не возьмется решать мое дело. И потом, – подумала она, набравшись храбрости, – ну, хорошо, я ради него встаю в пять часов утра, и к половине второго я всегда обязательно должна быть дома, – но не могу же я постоянно быть прикованной к нему, ведь каждый человек имеет право брать от жизни что-то для себя!»
И она бодро заспешила своей деловитой походочкой в собес. По дороге зашла в аптеку и заказала себе лекарство от гриппа.
– Старик на заводе, – сказал Листопад Рябухину, выслушав сообщение Анны Ивановны. – Надо уважить, повидаться. Давай надевай, что найдешь подходящее, – едем.
– Я в партком, – сказал Рябухин, – у меня своих дел скопилось до черта. Передавай старику поклон.
Листопад оставил его примерять пиджаки и брюки, а сам пошел на завод. Встречные люди сказали, что главный конструктор в литейном. Но в литейном оказался только начальник цеха, взъерошенный и красный, как после бани.
– Был, – отвечал он на вопрос Листопада, – был, весь вышел. А бог его знает, где он сейчас. Ой, орал!.. – У начальника цеха была на лице широкая, восхищенная улыбка, как будто ему было очень приятно, что главный конструктор орал на него. – Так орал, я думал – из него душа вон…
Листопад бегло взглянул, что делается в цехе: второй конвейер опять стоял, заливку производили на полу. Износилась лента, время делать капитальный ремонт.
– А это что? – спросил Листопад.
В сторонке, где было меньше хлама, две женщины, запорошенные пылью, с черными подглазницами, формовали что-то большое и замысловатое. Они делали это особенно тщательно, любовно ровняли землю, отходили, чтобы взглянуть на свою работу со стороны…
– Решетку делаем, – сказал начальник цеха. – Заказ горисполкома. Решетка для городского сада. Первый заказ на благоустройство, Александр Игнатьевич…
Главного конструктора Листопад догнал около старых мартенов. Главный конструктор выходил из цеха, окруженный инженерами. Тут были и сталевары, и главный энергетик, и начальник отдела механизации Чекалдин, мальчик с образованием техника, которого Листопад недавно выдвинул на руководящую работу. В стороне от них всех молчаливо держалась Нонна. На лице у нее было написано: «Ах, ну на что мы время тратим!..»
– Владимир Ипполитович, – сказал Листопад, здороваясь, – рад видеть вас на заводе.
– Я уже домой, домой, – сказал главный конструктор и маленькой сухой рукой отмахнулся от разговоров и дел. – Все видел, все сказал, до свиданья, товарищи, до свиданья… А вам, молодой человек, – сказал он Чекалдину, – советую подумать хорошенько над вашим планом. Фантазия у вас горячая, а обосновать не умеете. Опыта мало, опыта. – Чекалдин смотрел ему в глаза, краснея, серьезно и смущенно. – Но фантазируете вы недурно, – продолжал главный конструктор, – недурно! Я подумаю о том, что вы мне сказали, – великодушно пообещал он, и взгляд Чекалдина оживился, молодое широкое лицо озарилось простодушной доверчивой радостью. – Подумаю. Дней через десять позвоните Нонне Сергеевне…
– Я с вами, – сказал Листопад.
Он сел с главным конструктором на заднее сиденье, а рядом с шофером, спиной к Листопаду, села эта женщина, которую он терпеть не мог за ее чванный вид, – до того не мог терпеть, что даже не поздоровался с нею.
– Что, – спросил Листопад, – Чекалдин говорил вам о реконструкции литейных цехов? Я еще не смотрел его план; говорят, это сделано с темпераментом.
– Вряд ли этот план стоит первым вопросом в повестке дня, – отрезал главный конструктор. – Прежде чем реконструировать, надо очистить помещения. Всюду скрап, цеха обросли скрапом. – Он помолчал. – Конвейер отремонтировать не можем, а мечтаем о реконструкции. – Помолчал еще, пожевывая тонкими губами. – При мне заливали вторую печь, я велел проверить шихту – кремний и хром. В количествах недопустимых. Неудивительно, что бывает брак.
«Ну, что еще? – весело подумал Листопад. – Старик не до конца выговорился на заводе. Выговаривайся, что с тобой сделаешь. Срывай сердце».
– Очень мы еще далеки от совершенства.
Экие Америки открывает.
– Впрочем, – сказал главный конструктор, – ко мне это уже почти не имеет отношения.
Известное дело: сейчас скажет, что время на покой. Каждую встречу эти разговоры: в них – и ревность старости к молодости, и то смирение, которое паче гордости.
– Хочу предупредить вас, Александр Игнатьевич, что моя работа на заводе кончается в тот день, когда будет закончена война.
Уже и срок назначил.
– Вы напрасно отмалчиваетесь, Александр Игнатьевич. Вам следует подумать, кем меня заменить.
Нет у нас незаменимых. Каждому можно найти замену – для работы, но не для сердца. Вот – лежит сердце именно к этому старику, капризному, властному, вечно сующему нос туда, где его не спрашивают. Блеск ли таланта привлекает, или обаяние сильной воли, или то и другое вместе?.. Просто взял бы и не отпускал от себя. А как не отпустишь?..
Подъезжали к дому.
– Поговорим, – сказал Листопад.
Они сидят в жарко натопленном кабинете. Конструктор, чертивший что-то на большом столе у окна, при появлении директора деликатно удалился. Они вдвоем.
– Владимир Ипполитович, прежде всего: бросьте вы так близко принимать к сердцу то, что делается на заводе. Не так это все страшно, как вам кажется. Как-никак, за войну три ордена завод получил. Зря расстраиваетесь. Предоставьте мне расстраиваться. Ведь вы непосредственно на производстве не работаете года с двадцать шестого?..
– Вы хорошо помните мою биографию.
– Да я ее наизусть знаю. Я о вас все знаю, я ж вас как брильянт берегу – неужели не видите?
Все, что угодно говорить, подхалимничать, стелиться травкой, лишь бы старик оставил эту идею – уходить с завода.
– Что то было за производство, где вы работали, по сравнению с этим!
– Ну, знаете, – сказал главный конструктор, обидясь, – был прекрасный государственный завод на три тысячи рабочих – не таких, как у нас сейчас, а рабочих высокой квалификации.
– Потому что тогда был нэп и безработица, и вы могли подбирать кадры. И прекрасным ваш завод выглядел в те времена, сейчас вы на него и смотреть бы не стали.
Главный конструктор со скучающим видом передвигал детали, лежащие на столе.
– Подумаешь – скрап!.. Я вот вспоминаю зарю нашей индустриализации, первую пятилетку. Дорогие машины портили, брак выпускали, всякие были и ошибки, и жертвы, все испытал лично. Но ведь создали же мы социалистическую индустрию, и в какие сроки! И куда бы шагнули, вы подумайте, если бы не помешали проклятые немцы! Владимир Ипполитович, вы социализм строили. Вы в борьбе с фашистами, себя не жалея, участвуете, как большой советский патриот. Неужели уйдете теперь?
– Я вам сказал, что уйду, когда война кончится.
– А в той жизни, которая начнется после войны, не хотите принять участие? К тому идет, что вот-вот предложат переходить на мирную продукцию.
– Гаданье на кофейной гуще.
– Почему ж на кофейной гуще? Я гадаю по сводкам Информбюро, по продвижению нашей армии, по заказам, которые к нам поступают. Вы не видали в литейном, как формуют решетку для городского сада?.. Кто понимает – ведь это ж до слез…
– То, что для вас месяцы, – сказал главный конструктор, откинувшись на спинку кресла, – для меня – десятилетия. Мое время измеряется другими мерами, чем ваше. Вы говорите – скоро. Что значит скоро? Сколько это, вы считаете? Месяц?
– Больше.
– Год?
– Возможно, меньше.
– Возможно?.. Возможно, Александр Игнатьевич, что я не проживу этот год. До победы я дотяну, но не больше. Должность скоро будет вакантной. – Он открыл ящичек штучного дерева. – Курите, пожалуйста.
Они закурили. В кабинет вошла Нонна, с независимым видом, ни на кого не взглянув, подошла к шкафу, достала чертежи, вышла.
Главный конструктор проводил ее глазами.
– Начинали мы, – сказал он, – продолжать – им. Надо полагать, – сказал он немного погодя, окутанный дымом, – что номенклатура нашей продукции станет гораздо обширнее по сравнению с довоенной.
– Безусловно, – отвечал Листопад. – Во-первых, за годы войны в стране возникли потребности, которые надо удовлетворить. Во-вторых, и оборудование наше сейчас мощнее довоенного, возможности расширились. Оставайтесь, Владимир Ипполитович. Будем думать вместе о будущем завода.
– Я думаю о других вещах, – сказал главный конструктор, – о вещах печальных и скучных. Нет, на меня не рассчитывайте, Александр Игнатьевич. Со мной кончено.
– Вот видишь, – сказал он за ужином Маргарите Валерьяновне, – я говорил, что в наше время люди иначе переживают несчастья. Вчера Листопад похоронил жену, а сегодня был здесь у меня, строил прогнозы на мирное время – и с большим увлечением, представь.
Трудно было понять – хвалит он Листопада или осуждает. Маргарита Валерьяновна приняла его слова как осуждение и, всплеснув руками, сказала: «Какой ужас!..» Она испытывала некоторые угрызения совести перед мужем, и ей еще больше, чем обычно, хотелось угодить ему. Но Владимир Ипполитович обдал ее вскользь недобрым взглядом, и она поняла: не то сказала. Она попыталась исправить ошибку:
– То есть, разумеется, не то ужас, что он строил прогнозы…
– А то, что с увлечением, понимаю, – договорил за нее Владимир Ипполитович и тем положил конец разговору. – Передай, пожалуйста, солонку, Маргарита.
Глава третья
Возвращение Лукашина
На заводском полустанке высадился сержант Семен Ефимович Лукашин.
Он был в шинели без погон, в кирзовых сапогах и нес на плече деревянный сундучок и мешок, скрепленные ремнем.
Время шло к вечеру. В крайнем окошке станционного домика, у кассира, уже горела лампочка, но на дворе было еще светло. Сразу за полустанком начиналась гора: крутая, белая – и по белой горе черными зигзагами поднимались деревянные лестницы для пешеходов.
Лестницами до поселка вдвое ближе, чем ездовой дорогой, и не так скользко. Лукашин встряхнулся, чтобы ноша удобнее легла на плече, и пошел вверх.
Так же, как четыре года назад, вереницами идут по лестницам люди с поезда. Так же стоят над заводом столбы дыма, растекаясь и сливаясь вершинами.
Лукашин поднялся на гору и вышел на безбрежно широкую улицу. Далеко-далеко друг против друга стояли высокие каменные дома. Необъятный закат разливался над этой улицей, где трамвай казался не больше спичечного коробка.
Улица была новая, ее начали строить в первую пятилетку, строили до самой войны и не достроили: заборов у домов не было; на местах, где должны быть сады, лежали пустыри.
Прошел трамвай, люди висели на подножках и на буфере. Куда тут с багажом влезешь. Лукашин продолжал путь пешком.
Конца-краю нет улице: дом – пустырь, два дома – опять пустырь на полкилометра.
Пожарный гараж с большим колоколом над воротами. Кирпичные корпуса индустриального техникума, расположенные буквой «П». Длинный-длинный дощатый забор – неведомо, что за ним. И столбы, столбы, столбы с натянутой черной проволокой.
Забор поворачивал полукружием, улица вдруг сузилась и покатилась вниз между двумя горками. По горкам разбросаны без порядка деревянные дома. Эти строились давно, многие еще в прошлом столетии. Кривые лесенки спускались вниз, к трамвайным путям. Дерево построек почерневшее, суровое: словно углем на белой бумаге нарисован старый поселок.
К домам разбегались дорожки-тропки. Дорожка к дому Веденеевых посыпана золой. И прежде она всегда была посыпана золой: это Мариамна посыпала, жена Веденеева. Медная бляшка дверного звонка блестит: это Мариамна начищает ее до блеска. Лукашин позвонил: прежним голосом залился звоночек за дверью. Послышались шаги, громыхнул болт. Отворила Мариамна. Она не узнала Лукашина и стояла, хмуря брови и загородив дверь широким плечом… Он улыбнулся:
– Не узнаете, Мариамна Федоровна?
– О господи, – сказала Мариамна мужским голосом и впустила его в дом.
В доме все было на прежнем месте. Любо посмотреть, как люди уберегли порядок своей жизни. Даже фарфоровая собачка с отбитой мордой стояла в стеклянном шкафчике на той же полке, между хрустальным яйцом и крымской раковиной.
Одно было новое – большой портрет Андрея, увитый красными и черными лентами. Лукашин увидел его сразу, как только Мариамна зажгла электричество: портрет висел прямо против двери и смотрел на входящих веселыми глазами.
– Садись, – сказала Мариамна. – Сейчас старик придет.
Она была пермячка, до тридцати лет жила в деревне и вместо «ч» говорила «ц»: сейцас.
Лукашин сел.
– Давно?.. – спросил он, глядя на портрет.
– Давно. В Сталинграде.
– А жиличка живет?
– Жиличка? Живет.
Она сказала «жилицка», презрительно и недружелюбно. Лукашин покивал головой: все, мол, понятно – и переменил разговор:
– А Павел что?
– А Павел едет, – другим тоном, оживленно и хвастливо, заговорила Мариамна. – Павел едет домой. Никитку не узнает, поди: отроком стал Никитка. А Катерина-то уехала – Павел сюда, она отсюда. На Украину ее услали, там немцы все пожгли, людей поугоняли, так ее туда назначили порядок наводить.
Катерина, жена Павла и мать Никитки, была партийный работник, вечно в разъездах и делах.
– Без ноги Павел, на протезе, а ты на своих ногах?
– Я на своих, – сказал Лукашин. – У меня только легкие прострелены и зубы чужие.
Глазами она сосчитала нашивки на его груди: семь нашивок – семь ранений. Гимнастерка на нем без погон. Мариамна спросила:
– Совсем уволен?
– Совсем.
Мариамна накрыла на стол, поставила четыре прибора. Когда-то много приборов ставилось на этом столе. Тогда был Андрей, были дома Павел и Катерина. Спускалась сверху жиличка Нонна Сергеевна, ее сажали рядом с Андреем. Прибегала Марийка, сестра Павла и Андрея, Мариамнина падчерица: болтала как сорока, ее дразнили соломенной вдовой, а она сердилась…
– Соломенная вдова в гору пошла, – сказала Мариамна. – В стахановцах ходит, на двух станках работает, орден ей дали, мои матушки…
Говоря с ним, она ни минуты не сидела без дела: затопила печку, где заранее были уложены дрова и лучина, прибрала шитье, укрыла швейную машину чехлом, принесла воды в чайнике и полила цветы.
Весь день она вот так ходила по дому своей тяжелой походкой либо сидела, согнувшись, над шитьем. Семья была большая, Мариамна шила на всех.
– А у тебя-то теперь собственный дом! – сказала она. – Старик сказывал – больше нашего, шесть комнат, будешь дачников пускать, разбогатеешь, Семен!
– Дом-то дом, – сказал Лукашин. – Возня с ним большая.
– Какая возня?
– Еще пока введут в наследство. И налог надо платить за два года.
– Ты на фронте был, с тебя налог не возьмут, – сказала Мариамна. Она всегда все знала по части собственных домов.
– Да не с меня. Отец два года не платил.
– Мать-то, поди, от горя померла, – сказала Мариамна. – Всего на полгода и пережила отца.
– Она от печени померла, – сказал Лукашин. – Рак печени признали у нее.
– Но а печень от чего болит? От горя.
Позвонили.
– Старик! – сказала Мариамна и проворно пошла отворять.
Когда Лукашин был мальчонкой, его боднула корова. Сколько ребят играло на улице, и никого она не боднула, только его боднула. И много лет спустя – уже у него усы росли – о нем говорили в деревне Рогачи:
– Лукашихин мальчонка, которого корова забодала.
Он мечтал о высшем образовании. На его глазах крестьянские сыновья уезжали в город учиться и возвращались учителями, врачами, агрономами. И он мечтал стать учителем, учить детей, и чтобы все уважали его, и чтобы матери приходили к нему и говорили:
– Дайте мне совет, Семен Ефимыч, что мне делать с моим Петькой, чтобы он слушался.
А он вызовет Петьку к себе и поведет с ним тихую, прочувствованную беседу, и Петька раскается и станет шелковый.
Но едва Лукашин окончил пять классов, как отец устроил его на краткие курсы счетоводства, а потом поместил счетоводом в заготконтору, где был заведующим.
Лукашин сидел в затхлой комнате, среди корзин с яйцами и мешков с пряжей, и страдал. Все люди как-то вместе, а он сидит один как сыч с утра до вечера…
Его мучило, что он подчинился отцу и погубил все свое будущее, и засел за эту работу, которую терпеть не может.
Ему казалось, что никогда у него не будет светлой и разумной жизни, о которой он мечтал, и он был грустен и молчалив даже на праздничных гуляньях и танцульках.
Люди говорили его матери:
– Это он у тебя потому такой, что его маленького корова забодала.
Мать пропускала это мимо ушей. У нее в жизни было только одно занятие, которому она предавалась с большой охотой: она лечилась. У нее всегда что-нибудь болело, она принимала порошки, микстуры, капли, ставила грелки, компрессы и горчичники, натиралась мазями, варила какие-то травы… Она зазывала к себе соседок и угощала их, чтобы поговорить с ними о своих болезнях. Чужие болезни интересовали ее гораздо меньше, она слушала о них ревниво и, не выдержав, перебивала:
– А вот у меня тоже…
Время от времени она уезжала в город – показаться городским докторам. Она столько рассказывала им о своих недомоганиях, что ее немедленно клали в больницу и начинали делать разные исследования. Через неделю-другую ее выпускали, сказав, что никакой болезни у нее нет. Она возвращалась домой разочарованная и говорила:
– Они ничего не понимают.
Позже, в старости, она действительно тяжело заболела. И когда ей сказали, что она должна серьезно лечиться, – она испугалась, опечалилась, лечилась без удовольствия и догорела быстро и грустно, в молчании, в недоумении – как же так: вот и жизнь прошла, а она и не заметила, только лечилась, и леченье-то оказалось ни к чему.
Лукашин просидел в заготконторе одиннадцать лет.
Когда отец уезжал по делам, он откладывал счеты и читал книги. Читая, плакал и смеялся, и бабы, входившие в контору, слышали из задней комнаты странные звуки – то сморканье, то клекот… В заднюю комнату бабы не входили: прилавок преграждал им путь. Они окликали: «Кто тут есть?» «Сейчас!» – отвечал Лукашин, вытирал слезы подолом рубахи и выходил к прилавку.
Иногда отец отпускал его к крестному. Крестный был Никита Трофимыч Веденеев. Он доводился Лукашиным дальним родственником, таким дальним, что это родство не имело названия. Лукашин любил ездить к Веденеевым. Там жили дружно, большой согласной семьей. «Хорошо они живут!» – думал Лукашин, наблюдая их жизнь.
Два раза его брали на кратковременную службу в армию. Ему там понравилось: он был среди людей и делал то же, что люди. Дело это имело смысл, насущный для всего народа. Красноармеец, боец окружен общим уважением… В ученьях и походах Лукашин отдыхал от заготконторы, от своего одиночества. Когда началась война, его призвали снова – для настоящих битв.
«Что хорошо в армии, – думал Лукашин, – это то, что каждую минуту знаешь, что надо делать. Тут ведь как: сегодня ты все исполнил хорошо, и тебя уважают. Завтра покажешь себя в плохом свете – вся твоя вчерашняя заслуга насмарку. Станешь оправдываться – тебя и слушать не будут. Но послезавтра у тебя есть возможность опять заработать уважение и даже, может быть, на тебя будут смотреть с восторгом».
Он служил старательно и скоро заслужил сержантское звание. Был не по годам солиден; любил читать наставления молодым бойцам, и они в шутку называли его «папаша». На коротких солдатских ночевках он засыпал с ясными мыслями и с сознанием исполненного долга.
Говорят: плох солдат, который не мечтает стать генералом. Лукашин понимал, что генералом ему не быть никогда – талантов нету; но солдат он был хороший.
Ему везло: в самых трудных операциях он отделывался легкими ранениями. (Поневоле будешь считать эти ранения легкими, когда кругом люди гибнут либо тяжко калечатся, а ты повалялся в прифронтовом госпитале – и опять в часть.)
Война шла, Лукашин служил. Кругом люди получали ордена и медали, он ничего не получал. Он думал, что, пожалуй, многих награждают за точно такие дела, какие и он совершил; значит, он такую же пользу приносит, как и они. И он научился уважать солдата-фронтовика независимо от того, есть у него награды или нет.
Войне завиднелся конец: наши войска гнали немцев к границе. Что же, скоро по домам? Он вернется, отец его спросит: «Ну, когда приступаешь к занятиям в конторе?» А он ответит не сразу. Он будет сидеть и курить, и отец поймет, что он ушел из-под родительской власти и что на него уже нельзя гаркнуть, нельзя трахнуть кулаком… «В контору – нет, – скажет затем Лукашин. – Я остаюсь в армии…»
И вдруг под Станиславом тяжелое ранение – в лицо и грудь.
И это в момент, когда Лукашин уже спокойно уверовал в свою счастливую звезду!
«Ну, ясно, – подумал он, очнувшись в медсанбате. – Это же я! Со мной обязательно что-нибудь должно было случиться в этом роде…»
Его возили из госпиталя в госпиталь. Под конец повезли в Москву, и там знаменитый хирург-стоматолог в несколько приемов сделал ему операцию лица. Возились три месяца, замучили, зато сделали чисто: шрамы были едва заметны.
– Со временем и совсем исчезнут, – сказал хирург, любуясь своей работой.
После этого Лукашину вставили новую челюсть с жемчужными зубами. Зубы ему очень понравились; они даже отчасти вознаградили его за страдания.
В московском госпитале он получил письмо от односельчан. Они сообщали, что его родители умерли, что ему в наследство остался дом и деньги на сберкнижке, и спрашивали, не будет ли насчет дома каких-нибудь распоряжений.
Лукашин ответил, что дома ему сейчас не нужно, пускай сельсовет им пока что распоряжается, – и несколько дней пролежал в растерянности и печали, со странным чувством, что что-то от него оторвалось. Вот – отец загубил его молодость, и мать он любил не так уж горячо… а все-таки оторвалось!
Когда с него сняли бинты, он пошел в коридор к большому зеркалу и посмотрелся.
Исхудавшее, желтое лицо с глубокими морщинами вдоль щек. Морщины на лбу. Шрамы на подбородке. Нос торчит. Борода растет неровно: там, где нашита новая кожа, ничего не растет… Хорош. Никто и не подумает, что тридцать лет человеку. Много старше на вид!
Только зубы хороши.
«А что я буду делать?» – подумал Лукашин, стоя перед зеркалом.
В армию вряд ли пустят.
Как-то надо решать свою жизнь.
Очень трудно решать самому! Вдруг ошибешься – и некому сказать: вот видишь, а ты советовал…
Учителем быть он уже не мечтал. Прошли его молодые годочки. Он все забыл, кроме солдатской науки.
К счетоводству не лежала душа. Проще всего вернуться в заготконтору… Нет, не хочу!
Поеду к Веденеевым на Кружилиху.
Все-таки он заехал сначала в Рогачи. Увидел пустой дом, неотопленный, страшно холодный – в доме холоднее, чем на улице… Сходил на кладбище, посмотрел на родительские могилы, крытые снегом… И, зайдя в сельсовет и в сберкассу, чтобы получить деньги, оставленные отцом, отправился на станцию.
Две старухи проводили его. Они расспрашивали, и рассказывали, и жалели его. Он слушал молча.
– В контору пойдешь работать или в колхоз? – спросили старухи.
Он ответил:
– Да нет. Поеду на Кружилиху, там посмотрю.
Старухи как будто разочаровались, но не стали его уговаривать. Одна сказала:
– Что ж. Поезжай, посмотри, может, лучше там покажется, чем у нас.
Они караулили его багаж, пока он покупал билет. Они помнили его младенцем, они хоронили его родителей – и вот теперь он уходил от них. Они не укоряли его. Он влез в вагон, а они пошли со станции в своих старых, заплатанных рабочих сапогах.
Никита Трофимыч пришел не один, с ним был его старый приятель Мартьянов, которого Лукашин знал.
– Здравствуйте! – сказал Мартьянов. – Еще одна живая душа прибыла! Я как знал – захватил пол-литра. Мариамна Федоровна! Разрешишь поставить на стол или подашь графинчик?
– Я те дам на стол, – сказала Мариамна. – Бутылка грязными руками захватана, а он на стол.
Старик Веденеев взял Лукашина за плечи, вгляделся ему в лицо.
– Да, брат, – сказал он, – не украсила нас война! А Андрея нет! – он отвернулся и ушел умываться, и за ним, на ходу стягивая промасленную спецовку, ушел Мартьянов.
– Он тебя любит, старик, – сказала Мариамна, ставя на стол пятый прибор. – Любит, вот и сказал про Андрея. Он никому про Андрея не говорит.
Прибежал с улицы Никитка, семилетний сын Павла и Катерины, названный в честь деда. Это был крупный красивый мальчик, румяный, с глазами зеленоватыми, как у всех Веденеевых.
– На отца похож? – спросила Мариамна. – Покажу тебе карточку Павла, когда тот был в Никиткиных годах: вылитый! – Гордость была в ее голосе; концом фартука она утерла Никитке лоб и щеки. – На морозе катался, а вспотел как в бане… Иди ручки мыть!
«Хорошо у них, – думал Лукашин, наблюдая эту милую семейную жизнь, которой он был лишен. – Ах, хорошо!»
Если бы позвали – навек бы тут остался жить…
Мужчины умылись и вышли к ужину. Все сели за стол. Мариамна подала горячую картошку и морковную кашу. Лукашин достал из своего мешка зачерствелый хлеб и консервы. Мартьянов разлил водку в рюмки.
– За вернувшихся и возвращающихся, – сказал он.
– Хорошая вещь, – сказал Лукашин, выпив рюмку.
– Напиток для молодых девиц, – сказал Мартьянов. – К старости я стал уважать чистый спирт. Действует без отказа, лишней воды в брюхо не льешь и великолепная дезинфекция для всего организма.
– Мартьянов, Мартьянов, ты этой отравой погубишь свое здоровье, – сказал Веденеев.
– Наоборот, – сказал Мартьянов. – Мне доктор Иван Антоныч поставил диагноз: вы, говорит, проспиртованы до такой степени, что можете смело болеть хоть холерой, она вас не скрутит… За твое здоровье, Сема. Дай тебе бог устроиться… Я через эту свою культурную привычку думаю прожить сто лет.
– Сто? – переспросил Веденеев, подмигнул Лукашину.
– Как минимум, – отвечал Мартьянов.
– И хочется тебе?
– А ясно.
– Ты же верующий.
– И что из этого следует?
– Почему же ты цепляешься за земную жизнь? Если полагаешь, что твоя душа бессмертна…
– Как тебе сказать? – сказал Мартьянов. – Люблю не столь душу свою, сколь тело. Скажешь – нечего тут любить? Абсолютно с тобой согласен. Ну, что тут любить, откровенно говоря?.. Но люблю. Дорожу, и оберегаю, и ублажаю, как могу. Душа-то у меня, Трофимыч, еще хуже, чем тело: самая ординарная душонка. А я ценю души – знаешь какие? понимаешь, Сема?.. души высокие, души большого огня!.. Какой кому прок от бессмертия моей души? Пускай уж лучше тело поживет подольше…
Мартьянов был с Кубани, в здешних краях жил с 1931 года. «Пострадал по кулацкой лавочке», – объяснял он. Приехал он с женой. Ему было тогда лет пятьдесят. Старуха не вынесла сурового климата, скоро умерла. Мартьянов сначала работал на баржах, потом его взяли на Кружилиху.
Он сразу понял, чего хочет от него Советская власть. С первых месяцев он стал в число ударников. Сила у него была большая. Всякую работу он соображал быстро. Он дорожил своим новым положением, аккуратно платил взносы в профсоюз, ходил на все собрания. Впрочем, он никогда не пересаливал: перед начальством не заискивал, допускал самокритику в приличной пропорции, а религиозностью своей даже кокетничал. Умный был мужик, непомерной живучести, хоть и пьяница.
За свою долгую жизнь он побывал во многих местах, перепробовал многие занятия, прочитал много книг. Умел красно говорить о чем угодно, и никогда нельзя было угадать – от души он говорит или с издевкой.
Павел Веденеев недолюбливал его, называл: «потенциальный мироед». Но старик Веденеев любил поговорить с Мартьяновым, который в рассказах и балагурстве был неиссякаем. Никита Трофимыч слушал его и изредка вставлял коротенькие нравоучительные фразы. При этом он был убежден, что воспитывает Мартьянова в коммунистическом духе и воспитывает приемами глубокими и тонкими, недоступными Павлу. С годами этот союз креп и превращался в обыкновенную стариковскую привязанность.
А покойный Андрей говорил, бывало, что на Мартьянове лежат напластования всех экономических реформ двадцатого века, начиная от столыпинской системы и кончая ликвидацией кулачества как класса.
В кухне с черного хода хлопнула дверь, застучали быстрые каблуки – в столовую вбежала Марийка, дочь Веденеева.
– Батюшки мои! – сказала она, остановившись и всплеснув руками. – Сема!
Лукашин встал и, конфузливо улыбаясь, одернул гимнастерку. В прежнее время он держался от Марийки подальше – она смущала его… Чем? Да хотя бы тем, что она была молодая и – ему казалось – очень красивая. Она часто смеялась, и он думал, что она смеется над ним. Она была такая подвижная и шумная, что с ее приходом вся комната словно начинала кружиться. Закружилась и теперь.
До войны она два раза выходила замуж, оба мужа оказались неудачными, и она с ними разошлась. Потому-то ее и дразнили соломенной вдовой; и это тоже смущало Лукашина.
Разведясь со своими мужьями, она не вернулась к отцу и Мариамне, а продолжала жить отдельно, в комнате, которую ей дали в новом доме.
– Я человек разочарованный, – говорила она, – что ж, сердце у меня разбитое, оставьте меня одну слезы лить.
Что-то никто не видел, чтобы она лила слезы, но она любила говорить о разбитом сердце и о том, что из-за негодяев мужчин женщине не может быть счастья…
– Сема, ох, Семочка, – твердила она растерянно и радостно, – ох, ну какое счастье, когда люди возвращаются… Возмужал, интересный стал, настоящий мужчина…
– А тогда он что же – женщиной был? – спросил Мартьянов.
– Он тогда был молодой человек, – отвечала Марийка.
– Ты садись, – сказал Веденеев, неодобрительно глядя на дочь. – Расскажи лучше, за что тебе выговор в приказе.
– Выговор! – вскричала Марийка. – Не говорите мне, я уже столько слез пролила!.. Уздечкинский Толька запорол деталь, а мне выговор как инструктору. Времечко, Сема: ты работаешь, а кругом детишки. Вот столько недосмотрел – не то приспособление возьмут, и все в брак… Когда уже настоящие работники к нам вернутся? – она пристально посмотрела на Лукашина зеленоватыми глазами, а он стал барабанить пальцами по столу.
– Ну? – спросил Веденеев, когда Марийка, отшумев, ушла домой и Мариамна увела Никитку спать, и в доме стало тихо. – Что делать будем?
Лукашин молчал. Не раз ему намекали в этот вечер, что прямая его дорога ведет на Кружилиху. Он и сам об этом подумывал… Но надо подумать еще. Выбрать – так уж выбрать накрепко, чтобы потом не раскаиваться и не метаться.
– Не трожь его! – сказал Мартьянов, подмигивая Лукашину. – Он теперь помещик, он с нами, пролетариями, может, и якшаться не захочет.
– Дом можно продать, – сказал Веденеев, – и купить другой здесь, в поселке. Но вперед всего надо стать на работу. Послушай меня, Семен, иди на завод. Каждый рабочий сейчас, пойми, – драгоценная вещь: ведь на фронт работаем…
– Не знаю, – сказал Лукашин, – посмотрю… У меня специальности нет, что я заработаю?..
– Получишь специальность. Мартьянов из тебя за два месяца сделает токаря – он мужик с головой… У нашего профсоюза неправильная тенденция, демобилизованным норовят дать работу полегче: табельщиком или в магазин продавцом… Чтобы не напрягался, отдыхал… Не понимают, что ему не отдыхать надо, а становиться на твердую дорогу жизни… Будешь токарем, Семен.
Веденеев сказал это так же уверенно, как отец Лукашина сказал когда-то: «Будешь счетоводом». Лукашин вздохнул.
– А живи покуда у нас, – сказал Веденеев, вставая из-за стола, – покуда устроишься… Иди – Мариамна тебе постлала на сундуке…
«Недолго тебе валяться бобылем по чужим углам, – думал Мартьянов, вспоминая, как Марийка хлопотала весь вечер вокруг Лукашина, – устроишься… Ты парень не ершистый, тебя которая зацепит, за той и пойдешь…»
Перед тем как лечь, Лукашин вышел во двор. Был небольшой мороз, тихо, звездно. Праведным сном спал старый поселок… Звоня, прошел по улице под горкой поздний трамвай, его не было видно со двора, только зеленая звезда с шипеньем вспыхнула на дуге и осветила провода… Во втором этаже веденеевского дома вдруг осветилось окно, в окне Лукашин увидел Нонну Сергеевну, жиличку. Она была в пальто и в шапочке, – видно, только что вернулась домой. Он вспомнил, что о ней весь вечер не было сказано ни слова, точно ее не существовало в доме. Она медленно подняла руки, сняла шапочку и задернула занавеску на окне…
Лукашин стоял, курил трубку и думал. Он думал, что не следует сразу поддаваться уговорам Веденеева, может, другие посоветуют что-нибудь лучшее – кто знает… Деньги у него есть, можно не спешить. И отдохнуть не мешает: вот так стоять и смотреть на белый свет – какой он, оказывается, бывает тихий, и ясный, и кроткий!.. Потом в его мысли вошла Марийка и произвела там шум и смятение. «Очень красивая женщина, – думал Лукашин с волнением, – замечательной красоты женщина!..» Он уже не думал, что она смеется над ним; он видел, что она обрадовалась ему от души… Он думал: каждому человеку нужно иметь около себя близкого товарища, родную душу. Ему представилось, как они с красивой и любящей женой сидят рядышком, рука в руке, и всем друг с другом делятся и советуются… «Что это я думаю, она, может, и в мыслях ничего не имеет… Напрасно я сказал Мариамне, что у меня зубы вставные: она уже, наверно, Марийке доложила…» Марийка, уходя, сказала между прочим, что придет завтра вечером, после смены. «Если придет завтра вечером, значит, хочет со мной увидеться; а не придет, значит – это все так, одно пустопорожнее кокетство…»
Марийка пришла на другой вечер, пришла и на третий. Через неделю они с Лукашиным объяснились. Еще через несколько дней Лукашин переехал со своим сундучком в Марийкину комнату.
В доме, где жила Марийка, было восемь подъездов, пять этажей. С каждой лестничной площадки вход в две квартиры. В каждой квартире – три комнаты и кухня.
Марийка жила по шестой лестнице, на пятом этаже.
В квартире напротив жил председатель завкома Уздечкин.
До войны ему принадлежала вся квартира, теперь только две комнаты; в третьей жила секретарша директора Анна Ивановна с долговязой дочкой Таней.
Анна Ивановна приехала в августе 1941 года. Уздечкин был тогда уже на фронте. Нюра, его жена, уехала с санитарным поездом. Дома с детьми оставалась Ольга Матвеевна, Нюрина мать. Ольгу Матвеевну вызвали в домоуправление и сказали, что она должна уступить одну комнату эвакуированной женщине. Ольга Матвеевна стала кричать, побежала в райсовет и в военкомат – не помогло, везде ее только стыдили. Пришлось смириться. Перед вечером прибыли Анна Ивановна с Таней. Ольга Матвеевна вдруг вошла к ним, не постучав, влезла на стул и стала снимать занавески с окон.
– Только полгода как куплены, – сказала она обиженно (хотя ее ни о чем не спрашивали). – Еще себе пригодятся.
Она унесла занавески и вернулась за зеркалом. Ей велено было отдать эвакуированным комнату с мебелью, но Ольга Матвеевна рассудила, что ни к чему им зеркало, обойдутся и так. За зеркалом обои были темные, невыгоревшие; из комочка паутины выбежал паук, побежал по стенке… Анна Ивановна, разбиравшая чемодан, встала с колен и сказала дочери:
– Ну-ка, Таня, помоги мне.
Они вдвоем вытащили в переднюю всю мебель, до последнего стула. С абажуром Анна Ивановна долго возилась, пока сняла, вся запылилась и раскраснелась, а сняв абажур, сказала Ольге Матвеевне:
– Лампочку не отдам. Без света сидеть не намерена. Куплю – тогда отдам.
Ольга Матвеевна была довольна, что все ее добро осталось при ней. Но было обидно, что приезжая гордячка так легко отказалась от даровой роскоши, ни о чем не просила, все вышвырнула.
– Спать-то на чем будете? – спросила Ольга Матвеевна.
– А это уж не ваша печаль, – ответила Анна Ивановна.
Ольга Матвеевна совсем обиделась. Ей сразу захотелось ссориться. Но придраться к Анне Ивановне было трудно: ее по целым дням не было дома, обедали они с Таней в столовой, в кухню почти не заходили. Поневоле Ольга Матвеевна довольствовалась тем, что всячески осуждала Анну Ивановну: за наряды («уж седая совсем, а все рядится, да еще губы мажет, как молодая!»); за гордость, за то, что с дочерью говорит не по-русски.
Анна Ивановна говорила с Таней по-французски и по-английски: четные дни у них были английские, а нечетные – французские. «Хау ду ю ду, ай эм глед ту си ю», – говорила Таня, приходя из школы. «Гуд бай», – говорила она, уходя. Но, лаская Таню, Анна Ивановна говорила ей по-русски: «Дурак мой маленький». И по-русски же кричала, выбегая за Таней на лестницу:
– Таня! Сейчас же вернись, надень платок, сумасшедшая, я кому говорю!
До войны Анна Ивановна жила в Ленинграде. У нее был муж архитектор. Таня была тогда небольшого роста и училась в балетном училище.
Началась война. Муж Анны Ивановны отправил жену и дочь в глубокий тыл, подальше от беды, а сам остался. Анна Ивановна привезла две пишущие машинки: одну с русским шрифтом, другую с латинским – и ни одного дня не сидела без работы. Сразу ее приняли на завод («оторвали с руками и с ногами» – говорила Марийка). Утром она шла в заводоуправление, а вечером в Дом культуры, на курсы, где она занималась с инженерами и техниками английским языком.
Выбросив Ольге Матвеевне за дверь все ее вещи, Анна Ивановна купила новую мебель: две кровати-раскладушки, два стула и два простых некрашеных стола; за одним столом занималась Таня, а на другом стояли под блестящими черными крышками обе машинки Анны Ивановны. Таня иногда говорила:
– Ох, до чего у нас в комнате некрасиво!
Стуча по клавишам машинки, Анна Ивановна отвечала:
– Девочка, потерпишь полтора-два года!
Прошел месяц, и Анна Ивановна получила от мужа письмо, что их квартира на Старо-Невском разрушена бомбой: от всего этажа ничего не осталось. Анна Ивановна плакала, получив это известие. Особенно жалко ей было маленького бюро, которое сделал ей в подарок покойный дядя, краснодеревщик. Работать за этим бюро было неудобно, оно стояло просто так, для украшения, и очень хлопотливо было вытирать пыль с его резьбы. Анна Ивановна сердилась на дурацкую резьбу – а теперь вспоминала и резьбу, и фарфоровые медальоны с цветами, вделанные в стенки бюро, и, громко сморкаясь, спрашивала у Тани по-русски:
– Таня, а медальончики помнишь?
Таня молчала и думала: странная мама, плачет о бюро, а ведь там люди погибли, папа пишет – почти сорок человек… Пусть все пропадет, и мебель, и платья, и рояли, только бы остались живы люди.
Прошли еще какие-то страшные месяцы, в продолжение которых из Ленинграда почти не было известий. И вот однажды Анне Ивановне сообщили из третьих рук, через знакомых ленинградцев, что ее муж, с которым она дружно и согласно прожила девятнадцать лет, умер от истощения. Анна Ивановна пришла домой с виду спокойная и как-то вяло сказала Тане: «Знаешь, папа умер», – и легла на раскладушку, и велела обомлевшей Тане укрыть ее теплым одеялом: ее била дрожь…
– Ну что ж, Таня, – сказала она недели через две, – надо устраиваться нормально.
Она съездила в город, продала свои золотые часы и купила два кресла, диван и кровать.
– Мы разве не вернемся в Ленинград? – спросила Таня.
– Мне не хочется, – сказала Анна Ивановна. – А тебе плохо здесь?
– Нет, – сказала задумчиво Таня, – не плохо.
– Мне тоже, – сказала Анна Ивановна.
Они вдруг обнялись и горько заплакали, и плакали долго.
Может быть, Анна Ивановна и решилась бы вернуться на пепелище своего былого счастья, если бы это требовалось для Таниной балетной карьеры. Но Таня за этот год так пошла в рост, что было ясно – для балета она потеряна. «Ну, куда такую версту коломенскую на сцену!» – думала Анна Ивановна и без колебаний устраивалась в новой жизни.
Наспех купленные, временные, некрасивые вещи были удалены и вскоре заменены дорогими, красивыми: Анна Ивановна любила жить хорошо. Чтобы заработать побольше, она бралась перепечатывать рукописи, дипломные работы, бухгалтерские отчеты. Зарабатывала стенографией, уроками.
Она очень уставала. Ночью по большей части спала крепко, и Таня должна была ее будить, чтобы она не опоздала на работу. Но иногда приходили приступы бессонницы. Тогда она лежала и смотрела в окно, которое было против ее изголовья. Легче на душе, когда окно черное, подернутое серебром мороза. Совсем сносно, если по стеклу стучит дождь. Когда на дворе непогода, Анне Ивановне приятно, что она и ее ребенок, ее ненаглядная верста коломенская, находятся под прочной кровлей, что им тепло, что люди к ним относятся с приязнью… И мучительны летние белые ночи! В белую ночь хочется выйти из дома и идти, идти… неведомо куда. В пустынные улицы, под томящее небо, к тому, что было и чего никогда не будет больше…
Днем она была спокойна и приветлива. Они очень похожи были с Таней: обе круглолицые, белые и румяные, с черными глазами и темными усиками. Только Анна Ивановна была полная и седая, а Таня худенькая, с длинными черными косами.
Рядом с Марийкой жил директорский шофер Мирзоев.
Он был красавец. От его улыбки, сладкой, нежной и белозубой, кружились женские головы. До войны он работал в совхозе комбайнером. Он считал, что его работа самая лучшая и почетная, и все его любили и хвалили. В армии он стал шофером; тоже очень хорошая работа! За храбрость его полюбил командир батальона, взял к себе. Ах, комбат, дорогой комбат, вечная память!.. На одном отчаянном перегоне их машина попала под огонь. Комбат был убит, а Мирзоев попал в госпиталь, а потом на завод. В госпитале ему пришлось удалить почку. Он беззаботно подшучивал над своим увечьем.
– Я нахожу, – говорил он, – что две почки – роскошь, я великолепно обхожусь с одной…
Но он берегся – соблюдал диету и не пил, а только делал вид в компании, что пьет.
Он мог быть отчаянно храбрым и мог быть очень осторожным – когда случалось, например, возить беременную жену директора. Машина слушалась его беспрекословно. Он широко эксплуатировал ее и жил припеваючи.
Лукашин присматривался к нему: он не мог понять, почему Марийка выбрала его, Лукашина, когда в одной квартире с нею живет такой красавец и франт. «Неужели, – думал он, – я ей показался лучше?..»
Медовый месяц Лукашина протекал счастливо. Лукашин не мог налюбоваться на Марийку. Ему доставляло большое удовольствие исполнять все ее прихоти.
– Чего бы я, Сема, съела, – говорила Марийка томно, – съела бы я, Сема, пирога с мясом, с яичками, такой высокий и корочка румяная, а ты бы съел?
И Лукашин шел на рынок и покупал белую муку, мясо, яички, и Марийка пекла пирог с румяной корочкой, а Лукашин смотрел на Марийку с сознанием своего могущества и богатства и говорил:
– Ешь еще.
– У Нонны Сергеевны туфельки есть, – рассказывала Марийка. – Аккурат перед войной сшила на заказ. Каблук вот такой, носочки вот такие, а шнуровочка на боку, и на завязках кисточки, с ума сойти.
И Лукашин шел и покупал для Марийки туфли – еще лучше, чем у Нонны Сергеевны, самые шикарные и самые дорогие, вот с таким каблуком и с кисточками.
Марийка всю жизнь рассчитывала зарплату от получки до получки. У отца жила – даже собственные деньги нельзя было истратить без спроса: «Папа, я в кино схожу; два пятьдесят стоит билет…» Первый муж пропивал ее вещи, которые она покупала на свой заработок. Второй – бог с ним! – вспоминать стыдно… Почем она знала, когда полюбила его, что он негодяй и обманщик, что у него в Калуге уже есть жена и что эта жена к нему приедет и ославит ее, Марийку, на весь завод… Три месяца прожила с человеком и ничего не видела, кроме убытков и неприятностей… А Сема швыряет на нее деньги не считая, только бы сделать ей приятное. У Марийки голова закружилась от такого раздолья. Она не спрашивала Лукашина, сколько у него денег: тратит свободно – значит, есть что тратить.
Они любили строить планы дальнейшего процветания.
– Этот дом я продам, – говорил Лукашин, неторопливо дымя своей трубкой, – а другой хорошо бы купить, хоть маленький. Все-таки это приятно – своя крыша над головой.
Марийка не соглашалась:
– Семочка, с ним хлопот не оберешься, со своим домом. Крышу крась, ремонтируй, забор починяй… Полжизни в него надо вложить, вот как папа и мама вложили.
– Зато можно завести кур, огород при доме. Козу купить: козье молоко самое полезное.
– А я бы, – энергично говорила Марийка, – все вложила в золотой заем. Все, все. И государству помощь, и можно выиграть двадцать пять тысяч.
Никита Трофимыч был очень недоволен дочерью и зятем. Мысленно он подсчитывал их расходы: чудовищно! За какую-то усовершенствованную электрическую кастрюлю Марийка заплатила триста пятьдесят рублей. Триста пятьдесят рублей за кастрюлю?!!
Положить бы все на книжку и тратить осторожно, на самое необходимое. В один прекрасный день спохватятся – нет ни гроша. Так всегда бывает.
Подробно о своих тратах Лукашин и Марийка не сообщали. Никита Трофимыч мог вести им только приблизительный учет; не тем была занята голова, не держались в памяти все эти кофточки, мясорубки, абажуры…
– Надо купить кровать, – сказала однажды Марийка при отце. – Моя плохая.
Никита Трофимыч вышел из себя:
– Ведь в Рогачах есть кровати! Полная обстановка, а они все покупают!.. Я тебе, Марья, запрещаю!.. Извольте вывезти мебель из Рогачей!
Старик бушевал. Марийка притихла, надувшись. Лукашин оробел. В субботу он сказал Марийке:
– Едем завтра в Рогачи за кроватью.
– Да что там за кровати, чтобы за тридевять земель их везти, – сказала Марийка. – Наверно, сгнили все.
– Нет, у матери кровать была хорошая, с никелевыми шарами, – сказал Лукашин.
– Ну, поедем, проедемся, – сказала Марийка. – Я уж сколько лет от города не отъезжала.
В воскресенье они поехали в Рогачи.
В километре от станции Марийка увидела двухэтажный деревянный дом с башенкой и флюгером. Кругом были сосны, снег и безлюдье. Вслед за мужем Марийка вошла в маленькие сени. На нее пахнуло холодом, плесенью, пустотой. Неприютно, голо. В одной из комнат стояла железная кровать, постель с нее была снята, рваная перина посерела от пыли.
– Вот кровать! – сказал Лукашин. – Вполне хорошая, только перина старая, мы ее брать не будем.
Он достал из кармана веревку и стал складывать кровать. Она не поддавалась – заржавела. Пока Лукашин возился с нею, Марийка по лесенке поднялась наверх. Там были светлые комнатки с большими окнами, предназначенные для летнего жилья. «Милые какие комнатки», – подумала Марийка, вздохнув. На подоконнике стоял большой фигурный самовар, весь позеленевший, без крышки и конфорки. Марийка попробовала кран самовара: повертывается или нет. Кран повертывался. Чудный вид был из окна – на озеро и лес… Марийка спустилась вниз. Лукашин уже сложил кровать и связывал ее веревкой.
– Возьми эти шары, – сказал он, сидя на корточках, с трубкой в зубах.
Марийка положила в карманы пальто три никелевых шара, которые Лукашин открутил от спинки кровати. Четвертый шар не откручивался – должно быть, нарезка сильно заржавела. Шары сохранились отлично: блестящие, словно только что из магазина.
– Я возьму круглый столик, – сказала Марийка. – Мы его поставим в уголку около окна. А на столик – ту чугунную вазу.
– Вазу не бери, она тяжелая, – сказал Лукашин. – Ты женщина, тебе нельзя таскать тяжести. Я ее, может быть, потом отдельно привезу.
Он вынес кровать из дома и бодро взвалил ее себе на спину.
– Ну, пошли, – сказал он.
Марийка шла своей обычной быстрой походкой, положив легкий столик на плечо, и думала, какая это грустная вещь – брошенный дом, и как хорошо бы летом пожить в тех верхних комнатках и покупаться в озере.
– Знаешь?.. – начала она, поворачиваясь к Лукашину, и вдруг увидела, что его нет рядом. Она оглянулась – Лукашин тащился позади, согнувшись в три погибели под тяжестью кровати.
– Давай понесем вместе! – сказала она, страдая за него. – Возьмем с двух сторон и понесем!
– Не говори глупости, – сказал Лукашин, задыхаясь. – Ты вот лучше не лети как сумасшедшая, а иди рядом, а то мне скучно без тебя.
Марийка не любила и не привыкла ходить медленно, она шла сердясь и доказывала Лукашину, что она гораздо сильнее его и уж во всяком случае вдвоем нести легче, а Лукашин не сдавался и наконец закричал, что его вся деревня осмеет, если увидят, что он несет кровать вместе с Марийкой; тоже мужчина – не может сам перенести такую пустяковину… Марийка перестала спорить. Шагов сто молчали. Остановились отдыхать. Лукашин положил кровать себе на голову.
– Так значительно легче, – сказал он.
И они пошли дальше. Но скоро Марийка заметила, что как она ни плетется, а Лукашин все равно отстает. У него иссякали силы. Она думала, как заставить его принять ее помощь, и ничего не могла придумать. Он, оказывается, бывает страшно упрямым!
До станции оставалось шагов триста.
– Нас, безусловно, оштрафуют в поезде, – сказал Лукашин еле слышным голосом.
– Почему? – спросила Марийка.
– Она не знает! – сказал Лукашин. – Потому что мебель в пассажирских вагонах возить нельзя.
Марийка нахмурилась: на штраф денег жалко.
– Знаешь? – сказала она деловито. – Если будут придираться, ты скажи, что кровать моя: уж я их как-нибудь уговорю… – И вдруг ее осенило: – Сема! Брось ее к черту!
Он сбросил кровать на землю сейчас же, как только она произнесла эти слова.
– Ну ее, – говорила Марийка, гладя его по спине и по голове, а он стоял, тяжело дыша, и дрожащими пальцами набивал трубку. – Неужели мы в городе не купим кровать! – Она достала платок и вытерла пот с лица Лукашина. – Как я раньше не сообразила! И как ты не сообразил!
– Я сообразил сразу, – отвечал Лукашин, – как только мы отошли от дома. Но не мог же я так прямо сразу взять и бросить ее!..
Подходил поезд.
– Бежим! – сказала Марийка. – А то опоздаем! – И, схватившись вдвоем за столик, счастливые и довольные, они побежали к платформе.
В вагоне было мало народу. Они сели в сторонке от всех, глядя друг другу в глаза. Лукашин взял Марийкину руку и пожал.
– Спасибо тебе, – сказал он.
– За что? – спросила Марийка, улыбаясь.
– За то, что ты хорошая, – сказал Лукашин.
Шары Марийка забыла выбросить из карманов – так и привезла их на Кружилиху.
Опасения Никиты Трофимыча оправдались очень скоро. Однажды утром выяснилось, что нет денег даже на обед.
– Надо что-нибудь продать из вещей, – сказал ошеломленный Лукашин. – Что-нибудь из старья, чтобы продержаться.
Марийка молчала со скучным лицом. Лукашин вздохнул и сказал:
– У меня есть как раз одна такая вещь.
– Какая вещь? – спросила Марийка.
– Кожаная куртка.
– А тебе она что – не пригодится?
– Она совсем старая. Ее носить уже нельзя.
– Тебе нельзя, а другим можно? – спросила Марийка.
– Как ты сворачиваешь!.. – обиделся Лукашин. – Конечно, может кому-нибудь понадобиться. У нее подкладка совсем хорошая. Только ты продай.
– Почему я?
– Я мужчина, – сказал Лукашин, – мне неудобно.
– Ну, нет, знаешь, – сказала Марийка, – сроду не торговала и впредь не буду. Я стахановка, мне неприлично на базаре стоять с барахлом.
– Подумаешь! – возмутился Лукашин. – Какая графиня!
– Вот уж такая графиня, – отвечала Марийка и ушла на работу.
Пришлось Лукашину самому идти на рынок. Он встал в сторонке и, стесняясь, развернул свой товар. Сперва он держал куртку на руке. Потом взял ее обеими руками за воротник. Потом повернул к зрителям подкладкой… Один человек подошел, спросил:
– Сколько просите?
Лукашин хотел просить двести, но почему-то сказал сто.
– Двадцать пять дать? – спросил человек.
Лукашин замялся. Человек отдал ему куртку и равнодушно отошел.
«Надо просить пятьдесят, – подумал Лукашин, – так вернее будет».
Но ему не у кого было просить пятьдесят, потому что никто к нему больше не подошел. Лукашин постоял и пошел домой. У дверей квартиры он столкнулся с Мирзоевым. Мирзоев отправлялся на свадьбу к приятелю и заходил переодеться. Он был в толстом мохнатом пальто и шляпе, от него пахло одеколоном, черные усики его были идеально подстрижены.
– А, сосед, добрый день! – приветствовал он Лукашина. – Ну, как дела? Еще не работаете?
Лукашин пожаловался на свои затруднения.
– Что вы говорите! – сказал Мирзоев. – Один покупатель и двадцать пять рублей?.. А ну, покажите.
Он развернул куртку.
– Старовата. Лет пятнадцать, должно быть, носили… Потеряла цвет. Вот так у нас на сиденье вытираются штаны… Гм. Двадцать пять рублей?
«Если он предложит пятнадцать, – подумал Лукашин, – я отдам».
– Она совсем крепкая, – сказал он робко.
– Вы ее не продадите, – сказал Мирзоев. – Ну-ка, идемте.
Он помчался как ветер: он боялся опоздать на свадьбу… Лукашин – за ним. Примчались на рынок.
– Вы только, пожалуйста, ничего не говорите, – попросил Мирзоев. – Стойте рядом, и больше ничего.
Он небрежно накинул куртку на одно плечо, поверх своего мохнатого пальто. Шляпа его сидела набекрень, ботинки на толстой подошве сверкали. Лукашин не успел оглянуться, как их окружила толпа.
– Что стоит? – спрашивали Мирзоева.
– Двести рублей, – отвечал Мирзоев.
«Он с ума сошел», – подумал Лукашин.
– А сто? – спросил один из покупателей.
Лукашин толкнул Мирзоева.
– Я не спекулянт, – сказал Мирзоев с достоинством. – Вы разве не видите, какая кожа?
– Была, – поправил кто-то.
– Мало ли что! – холодно сказал Мирзоев. – В общем и целом вещь стоит двести.
Была короткая пауза, стоившая Лукашину сильных переживаний.
– Я даю двести! – сказал вдруг голос в задних рядах.
– Я же торгуюсь! – возмутился первый покупатель. – Может быть, я тоже хочу дать двести. Гражданин, получайте. Вещь не стоит того, но я из принципа.
– Люблю хорошие принципы, – весело и любезно сказал Мирзоев, принял деньги, взял Лукашина под руку и помчал его с торжища.
– Получайте ваши деньги, товарищ Лукашин. Вот как надо действовать в жизни.
– Черт его знает, – сказал Лукашин. – Как вы это умеете?..
Мирзоев кокетливо посмеялся.
– Я вам объясню, пожалуйста. Когда вы стоите с таким, я извиняюсь, лицом, как будто вы сию минуту броситесь под трамвай, и в этой старой шинели, и в этих сапогах – слушайте, вы их выбросьте: у вас же новые есть, – то люди думают: вон какой-то неудачник спускает последнее барахлишко. А когда продаю я, – Мирзоев легким движением передвинул шляпу, – люди думают: продается вещь, которую носил шикарный молодой человек; у такого плохих вещей не бывает. И вот вам весь секрет, пожалуйста.
С этого дня Мирзоев стал относиться с живым интересом ко всем делам Лукашина. Так уж Мирзоев был устроен: однажды оказав человеку помощь, он начинал ощущать этого человека как бы своим братом.
– Самое выгодное в наши дни, – сказал Мирзоев, – это иметь машину. Устроиться на курсы водителей, перебиться временно, а там – пожалуйста: диплом в руках – и вы получаете машину в учреждении. Начальника надо выбирать крупного, чтоб был занят без передышки, желательно холостого, машина, таким образом, в полном вашем распоряжении.
– Неприятности могут быть, – сказал Лукашин, которому не хотелось обижать Мирзоева.
– Какие неприятности! В этом же нет ничего общественно вредного… Что, я у кого-нибудь вымогаю деньги? Исключительно полюбовное соглашение… Очень большой спрос при общем состоянии транспорта, в этом наше преимущество.
Лукашин курил и слушал.
– Если хотите, – сказал Мирзоев, – я могу закинуть удочку насчет курсов, у меня там есть маленький блат.
– Да нет, – сказал Лукашин, – я все-таки думаю поступить на завод.
Он пошел к старику Веденееву и попросил устроить его подручным к Мартьянову.
Через три дня Лукашин шел на работу вместе с Марийкой.
Он назвал в проходной свой номер, вахтер выдал ему пропуск и сказал: «Проходи». Лукашин вышел на территорию завода. Слежавшийся лед под ногами был серебристо-черным от угольной пыли и металлических опилок. Маленький паровоз неторопливо прошел мимо по рельсам и обдал лицо Лукашина теплым паром.
– Тебе вон туда, – деловито сказала Марийка и показала на проход между двумя кирпичными корпусами. – Ну, в добрый час! – она улыбнулась ему по-матерински и побежала от него.
Десятки людей обгоняли Лукашина. Некоторые были в шинелях, как и он.
Словно из земли поднялся медленный, торжественный гул, разросся в устрашающий, оглушающий рев, – второй гудок; через четверть часа начнется смена.
«В добрый час», – торжественно и взволнованно повторил про себя Лукашин.
И, как в армии, почувствовал себя опять одним из многих, ратником огромной рати. И подумал: хорошо. Пусть всегда будет так. А Мирзоев сукин сын, и все врет.
Глава четвертая
Уздечкин и Толька
Уздечкин шел на работу. Дул резкий ветер с реки. Уздечкин чувствовал себя больным, невыспавшимся, усталым.
Как он рвался домой! Думал: в своем коллективе, в своей семье все раны залечатся. Что-то не залечиваются пока…
И чего она ввязалась в это дело, сумасшедшая Нюрка? Двое маленьких детей; никто бы с нее не спросил – почему не воевала. Подумаешь, санитарка, экая гроза для Гитлера, без нее не нашлось бы санитарок…
…Трудно с детьми. Никогда бы, со стороны глядя, не подумал, что столько с ними хлопот. Ольга Матвеевна, Нюрина мать, до войны была такая боевая – со всем хозяйством справлялась сама, во все вмешивалась, никому не давала жить спокойно. А когда пришло известие о Нюриной гибели, рассказывала жиличка Анна Ивановна, – Ольга Матвеевна день ходила с растерянным лицом, бессмысленно хватаясь то за одно дело, то за другое; на второй день слегла в постель и стала охать – и с тех пор у нее это вошло в привычку: каждый день, походив немного с утра, она ложилась и охала до позднего вечера. Она все забывала, теряла продовольственные карточки, разучилась стряпать.
Толька, брат Нюры, в отсутствие Уздечкина бросил школу, пошел на завод. Пожелал, видите ли, быть самостоятельным. Другие в самостоятельной жизни становятся серьезнее, а Толька – в дурную компанию попал, что ли, не слушается, учиться не хочет, мать жалуется – тащит вещи из дому, бригадир жалуется – на производстве от него мало пользы… Девочки, Валя и Оля, ходят замарашками. Заведующая детским садом пишет записки с замечаниями: почему дети приходят в незаштопанных чулках, почему лифчики без пуговиц… И Уздечкин, придя с работы, берется за иглу и пришивает пуговицы: благо привык к этому занятию в армии…
Вчера было партбюро, потом собрание, пришел домой поздно. Девочки не спали. Валя обожгла руку об электрическую плитку. Никого не было дома – ни Ольги Матвеевны, ни Тольки, ни Анны Ивановны с Таней. Так Валя и сидела, держа обожженную руку в другой руке, и ждала кого-нибудь, чтобы перевязали; и обе ревели – Валя от боли, Оля – чтобы выразить сочувствие Вале. Уздечкин перевязал руку, покормил их, уложил. Вымыл посуду, подмел в комнатах, сварил суп – на завтра… Хозяйничал и злился на Ольгу Матвеевну: наверно, опять панихиду ушла служить, старая дура, очень Нюре нужны ее панихиды, смотрела бы лучше за детьми. Решил, когда придет, устроить скандал по всей форме. Но когда она пришла, заплаканная, охающая, с бессмысленными глазами, – стало жалко, и только спросил угрюмо:
– Намолились? Чаю хотите? – и сам поставил чайник подогреть.
Мирзоев, который лезет во все чужие дела, говорит: «Вам нужно жениться, чтобы выйти из положения». В морду хочется дать за такой совет…
Ночью не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами, слушал ночные шумы. Изредка проходил по улице трамвай. Вышла мышь на промысел, осторожно возилась с коркой под шкафом; он на нее шикнет – она притихнет на минуту, а потом опять возится. Анна Ивановна и Таня вернулись очень поздно, должно быть, из театра; тихо прошли к себе… Толька, поганец, так и не явился, шляется где-то… Представил себе, как в церкви кадили и возглашали за упокой души рабы божьей Анны. Встал, достал ее карточку, посмотрел…
Обыкновенная женщина, с перманентом, курносенькая, бранилась с матерью, обожала подарки, шлепала девочек, когда не слушались…
Завком помещался на четвертом этаже. Туда вели шесть лестничных маршей, девяносто ступенек.
Уже к середине второго марша начались знакомые отвратительные явления: сердце прыгнуло вверх и соскочило вниз, помолчало, словно прислушиваясь, и опять прыгнуло вверх, и опять опустилось – большое, тяжелое… Уздечкину не хватило воздуха для дыхания; он приоткрыл рот и втянул воздух – ноги ослабели, колени подломились… Раньше Уздечкин и не замечал своего сердца, оно жило в нем, жило с ним, было частью его самого. А теперь оно существовало отдельно. У него появились свои привычки и желания. С утра оно приставало к Уздечкину, как сожитель со скверным характером: предъявляло требования, заставляло идти тихим шагом, отдыхать на каждой лестничной площадке. В течение дня сердце понемногу успокаивалось, а к вечеру Уздечкин ощущал прилив сил и нервный подъем.
В завкоме пахло только что вымытым полом, и в пепельницах не было окурков. Не снимая шинели, Уздечкин взял телефонную трубку и вызвал механический. Вчера Толька не был на работе, дома не ночевал – может быть, прошел прямо в цех?
– Веденееву позовите мне, – сказал Уздечкин.
Марийка подошла к телефону и сказала сердитым голосом, что Тольки и сегодня нет и что завком пускай принимает меры, а то она, Марийка, пошлет всех к черту и уйдет работать в сборочный, хватит с нее возиться с ребятами! Уздечкин сказал, что Тольки и дома не было. Марийка закричала: «Ну, в милицию звоните, я их не укараулю!» – и швырком повесила трубку. Уздечкин позвонил в милицию: не было ли несчастных случаев с подростками. Был несчастный случай: двое мальчишек баловались с патроном, патрон разорвался, мальчишку ранило в руку… Какого возраста мальчишка? Девять лет. Нет, не он…
Душа к высокому тянется. Хочется думать о громадных событиях, совершающихся на фронте, следить за приближением дня победы. Пока дошел до завкома, видел оживленные лица, слышал веселые разговоры: вчера сломлено сопротивление врага в Будапеште; выходит из войны Венгрия, немцы потеряли в Европе последнего союзника. Теперь скоро Берлин! Хочется подойти к карте, где в два ряда натыканы флажки. Подсчитать, на сколько же это мы продвинулись на запад с начала года… А вместо этого изволь разыскивать Тольку.
Сегодня в перерыв будут летучки по цехам. Обратиться бы к людям с хорошим словом, сильным, душевным. Но – не успел подготовиться: черт знает чем занимался до ночи – пришивал пуговицы, варил суп, будь он проклят. А выступаешь перед собранием без подготовки – получается казенно, сухо; совсем не те слова произносит язык, какие встают в воображении.
Во время телефонного разговора вошла Домна, уборщица заводоуправления.
– Тольку ищете? – спросила она. Она всех знала и со всеми была запанибрата. – Мотает где-нибудь… Что я хотела спросить, Федор Иваныч, насчет огородов ничего не слыхать? То говорили – в Озерной нам земля выделена, а теперь замолчали. Ведь покуда получим да разделим – смотришь, и апрель на дворе, и копать время.
– Будут огороды, – сказал Уздечкин.
– Меланья говорит, не дадут будто. Но я не верю: как это мыслимо? Мне лично, Федор Иваныч, шесть соток необходимо.
– Получите, получите ваши сотки! – сказал Уздечкин и зарылся в папки, чтобы избавиться от нее. И опять тяжело и больно повернулось сердце…
Об этих огородах он должен был сегодня говорить с директором.
Каждый год заводу предоставлялась земля, иногда в нескольких часах езды от города. И на этот раз землю отрезали довольно далеко – в Озерной. Говорили, что земля неважная, но начальник ОРСа, по приказанию Листопада, раздобыл химические удобрения, так что с этой стороны все обстояло благополучно. Вспахать землю обязалась тамошняя МТС. В начале февраля завод посылал на МТС своих слесарей – ремонтировать тракторы.
Вдруг директор объявил завкому, что большая часть земли в Озерной пойдет в подсобное хозяйство; а рабочим остались самые пустяки.
– Не для чего каждому участок, – сказал Листопад. – Дадите только многосемейным.
Это было неслыханно. Испокон веков рабочие Кружилихи разводили огороды. Каждый стремился иметь на зиму свою картошку. По воскресеньям специальные поезда снаряжались за город; ехали целыми семьями, с лопатами, тяпками, провизией – старые и малые. На платформах везли посадочный материал: картофель целый и в срезках, с заботливо проращенными ростками, увязанный в мешки, – на каждом мешке метка чернилами или краской: кому принадлежит мешок… Невозможно было так сразу взять и отменить все это.
Уздечкин побежал к Рябухину.
– Самое бы милое дело, – сказал Рябухин, задумчиво почесывая стриженую голову, – если бы ты лично договаривался с Листопадом о таких вещах. Для твоего же престижа было бы лучше.
– С Листопадом договариваться отказываюсь, – горячечно сказал Уздечкин. – Уволь.
– Говоришь не подумав, Федор Иваныч. Как это может быть, чтобы в советских условиях профсоюз отказывался договариваться с хозяйственником? Что тебе Листопад – частный предприниматель? Капиталист?
– Ладно, хватит меня воспитывать, – сказал Уздечкин. – Позвони-ка ему лучше.
Рябухин пожал плечами и позвонил Листопаду. Уговорились встретиться всем троим и потолковать об огородах.
Когда Уздечкин пришел к директору, Рябухин сидел уже там. «Поторопился прийти пораньше, – подумал Уздечкин. – Небось успели столковаться за моей спиной…»
– Этой Марье Веденеевой еще орден нужно дать, – говорил Листопад Рябухину. – Сама, понимаешь, работает на совесть и еще с пацанами возится – это подвиг, как ты хочешь.
– Безусловно, подвиг, – сказал Рябухин.
– Героиня, а? А ей самой – сколько ей? Года двадцать три?
– Больше, – сказал Рябухин. – Лет двадцать шесть, двадцать восемь. Кричит она на них. Я ей говорил.
– Ну, кричит. Кричит – это от темперамента и усердия к работе. Попробуй не кричать на ее месте. Когда они у нее разбегаются из-под рук… Здравствуйте, Федор Иваныч, – сказал Листопад, словно только что увидел Уздечкина. – Садитесь…
Уздечкин сел и развязал тесемки толстой папки.
– Тут весь материал, – сказал он. – Заявления от рабочих и служащих. И сводки по цехкомам. И общая сводка.
– Бумаги много, – сказал Листопад. – От всех рабочих собрали заявления?
– От всех.
– Не может быть, – сказал Листопад. – Цехкомы ввели вас в заблуждение. Нету в этой вашей божнице двадцати тысяч заявлений.
Уздечкин покраснел слабым сизым румянцем.
– Я имею в виду – от всех желающих.
– Дайте-ка общую сводку. – Взглянул, поднял брови, передал сводку Рябухину. – Ты видел? Восемьсот га. Восемьсот га под индивидуальные грядки. Сумасшедшие люди!
– Это минимум, который нужен, – сказал Уздечкин, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. – До войны мы в отдельные годы брали больше.
Листопад отбросил сводку.
– Честное слово, Федор Иваныч… как с вами говорить? Мы все объясняемся и объясняемся, как супруги, которые не сошлись характерами… А что объяснять, когда вы не хотите понять простую вещь?.. Рабочему в выходной день надо отдохнуть. А вы ему вместо отдыха суете лопату в руки: поезжай к черту на кулички, сажай картошку! А сколько обуви он на этом деле истреплет? Это я, деревенский мужик, привычен, я по любым колючкам пройду босый… А городской человек не может. Я прошлое лето ездил, смотрел: а, боже!.. Вот такусенькие грядки – и народу на них как муравьев… Возится баба на своей грядке и думает: соседке делянку лучше дали, у соседки картошка крупнее. И мешочки, мешочки, меточки – и баба думает: как бы по дороге из моего мешка не отсыпали… Чепуха на постном масле, кустарщина, пережиток, совсем не в духе нашего времени установление – от нужды за него держимся, а не от хорошей жизни! Ну, я понимаю – где нет других возможностей… так ведь я вам даю возможности!.. И все равно же не хватает рабочему на зиму этой картошки, вот в чем дело! Все равно свой огород кормит его только до декабря, ну – до января, а потом он к нам же бежит! В ОРС! И ругает нас на всех перекрестках, если у нас картошки нет, – и правильно делает, что ругает… Я вам предлагаю что: я на себя беру снабжение картошкой и овощами. Полностью. Но для этого мне земля нужна. И я ее получаю в Озерной за счет ваших индивидуальных огрызков. У меня там тысяча га – я вам даю двести, и распоряжайтесь ими, как хотите.
– Двести га – это капля в море, – сказал Уздечкин. – Этим никого не удовлетворишь. Только будут недовольство и жалобы – не расхлебаешь.
– А вы жалоб боитесь? Вы не можете людям объяснить толком?.. Если не можете, созовите собрание, я им объясню, что это в их же интересах.
– Тут, понимаешь, какое дело, – сказал Рябухин. – Для многих это, помимо прочего, привычное препровождение времени. В летний день он едет за город, с детишками, воздух, природа, он работает, работа на воздухе его бодрит…
– Брось, Рябухин, это твое интеллигентское измышление, это ты сейчас думал и придумал. Ты у рабочего спроси, как это его бодрит, когда он в выходной день наработается дотемна, домой возвращается без задних ног, а утром ему к станку становиться… А если кто для моциона хочет покопаться в земле – пожалуйста. Пожалуйста! Пусть в выходной едет в подсобное хозяйство, милости просим. Еще и денег дадим.
– А где, – спросил Уздечкин, – вы возьмете достаточное количество рук, чтобы осилить такое хозяйство?
– Пленные немцы мне посадят и уберут.
– Не дадут вам пленных.
– Ну, не дадут пленных – я машины достану, пропашники, картофелекопалки, – механизируем все работы… В общем, это уж пусть у меня болит голова, где я возьму руки. Короче говоря, вот так. Двести га. Давайте многосемейным, у которых помощников много.
Он встал. Но Уздечкин не уходил.
– Двести га, – пробормотал он. – Это невозможно. Это насмешка. В конце концов, в отношении индивидуальных огородов есть установка партии и правительства…
– Ну, – сказал Листопад беззаботно, – партия и правительство с нас не взыщут, если мы через подсобное хозяйство обеспечим рабочих картошкой.
Уздечкина затрясло от этого беззаботного тона.
– Это все дутые обещания! – закричал он. – Лишь бы сделать широкий жест и показать свою власть, да!.. А рабочие в результате останутся без картошки!
Он схватил папку и выбежал из кабинета, хлопнув дверью. Анна Ивановна, сидевшая в соседней комнате, вздрогнула и посмотрела ему вслед большими глазами.
– Слышал? – спросил Листопад Рябухина.
– Ты его раздразнил своим тоном, – сказал Рябухин. – Так нельзя. Он человек нервный…
– Он псих. Ты его, пожалуйста, ко мне не води. Он меня когда-нибудь укусит, ей-богу.
Накануне, уйдя утром из дому, Толька отправился к своему приятелю Сережке. Они уговорились ехать в деревню к Сережкиной тетке.
Сережка был годом моложе Тольки, но Толька уважал его за широкий, образованный ум. У Сережки был брат Генька, пяти лет. Отец их был в армии, мать работала на Кружилихе. Сережка жил вольным казаком. Иногда он ходил в школу, где числился учеником седьмого класса, но по большей части проводил время в чтении книг и в беседах с друзьями.
Толька подождал под лестницей, пока Сережкина мать не ушла на работу, и потом поднялся наверх, в Сережкину квартиру, где был тот приятный кавардак, какой могут устроить двое мальчишек с разнообразными умственными интересами. Сережка и Генька были уже готовы. Все втроем они съехали по перилам и степенно пошли к трамвайной остановке. Сережка вел Геньку за руку.
Подошел переполненный трамвай.
– Ты на колбасе, – сказал Сережка Тольке, – а мне с ним придется с передней площадки.
Неподалеку от станции был рынок. Там Толька продал пайковый лярд и две банки рыбных консервов (ему не нравились рыбные консервы) и купил пряников, колбасы, две пачки папирос и белую булку для Геньки. Потом они сели в пригородный поезд и поехали.
Ехать было очень интересно. Поезд шел сначала вдоль берега реки. Река лежала взбаламученная, набухшая, грозная: глядя на нее, Толька подумал, что так, должно быть, выглядят арктические торосистые ледяные поля… Полоскался на холодном ветру полинялый вымпел возле пустого здания речного вокзала. Летом здесь будут приставать пассажирские пароходы, будет людно, а сейчас никого нет… Бетонированная стена замелькала перед окнами, в вагоне стало темнеть и вовсе стемнело: поезд вошел в туннель. Генька сделал вид, что ему страшно, и начал кричать, но тут же разочаровался: поезд вышел из туннеля, опять открылась грязно-белесая, вспухшая, в ледяных морщинах и складках река. Это оказался не настоящий туннель, а так, какой-то туннелишка… Грохот колес усилился; громадные, стальные, одна как другая – понеслись мимо окон фермы бесконечного моста. С моста было видно, как река уходит вдаль и сливается там с таким же серо-белесым холодным небом, с которого вот-вот пойдет снег…
Сережка с Толькой завели интересный разговор: кем надо быть, чтобы зарабатывать много денег. Сережка хорошо разбирался в этом вопросе. Он точно знал, сколько получают конструкторы самолетов, академики, чемпионы спорта и артисты, которые снимаются в кинофильмах. Но в Сережкиных сведениях не было ничего утешительного: для всего этого надо было учиться много лет, а Тольке лень было проучиться еще хотя бы год, чтобы закончить семилетку.
– Не понимаю, – сказал Толька, – для чего, например, чемпиону бокса алгебра и геометрия?
Сережка пожал плечом:
– Я тоже не понимаю, но – факт остается фактом.
А Генька стоял ногами на скамейке и большими глазами смотрел, не отрываясь, в окно, за которым плыли высокие зеленые сосны.
– Лось! – закричал чей-то голос. – Смотрите – лось!..
Лес оборвался, открылась широкая прогалина – и на прогалине стоял живой лось! «Где? Где? Где?» – кричал в отчаянии Генька, который не сразу увидел лося. «Да вон же, вон!» – вскочив, в таком же отчаянии кричали Сережка и Толька. Лось стоял неподвижно, он был удивлен видом поезда; он медленно поворачивал вслед поезду голову с ветвистыми рогами.
– Молоденький, – сказал большой краснолицый старик. – Молоденький, потому и не боится. Выскочил из лесу и смотрит, и ничего для него страшного нет.
И весь вагон долго говорил про лося. А Толька с Сережкой говорили о том, что можно, собственно говоря, и не зарабатывая много денег, хорошо жить: стать, например, охотниками, ходить по лесам, видеть разных зверей…
Высадились на маленькой станции, стоявшей среди толстых обомшелых пней.
Теткина деревня была видна отсюда как на ладони – она лежала по склону крутизны, густо окаймленной лесом. Крутизна была настоящая, крутая. На нее можно было подняться либо в обход, санной дорогой, либо по одной из узеньких обледенелых тропок, сбегавших вниз. Конечно, мальчики пошли по тропке. Геньку тащили за руки. Он пищал, что ему скользко, а когда его втащили наверх – задрал пальтишко и, сидя, лихо съехал вниз, к подножию крутизны. Глядя на него, съехал и Толька.
– Ненормальные! – сказал Сережка, глядя на них сверху. Сел. Спустил ноги, примерился и тоже поехал вниз с серьезным выражением лица.
Прокатившись несколько раз, пошли к тетке. Бревенчатая изба была обнесена бревенчатым забором, бревнами была вымощена улица перед избой… Тетка встретила гостей у ворот. Она закричала:
– Гулены, когда поезд гудел, а они только сейчас идут, я бы ушла и избу заперла, вы бы до вечера на улице стыли!.. – и пошла впереди них в дом, добавив: – В оболочке в избу не вваливайтесь; оболочку в сенях оставьте.
Толька недоумевающе оглянулся на Сережку.
– Пальто сними, – объяснил Сережка. – Она оболочкой пальто называет…
Вход в избу был через крытый, полутемный двор, а сени светлые, как горница. Внутри почти вся изба занята громадной печью. Тетка скинула шаль, бросилась к печи, ухватом стала метать на стол горшки – большие и маленькие… Генька вошел из сеней, стоял и смотрел на тетку и вдруг сказал:
– Здравствуйте, тетя.
Тетка не обратила на эти слова никакого внимания и стала кормить их кашей и поить горячим молоком. Потом она убежала, шибко протопав валенками по лесенке. Генька видел в окошко – тетка пронеслась по улице, как автомобиль.
– Что у нее случилось? – спросил Толька.
– Ничего не случилось, – сказал Сережка, – просто боится опоздать на работу. Она бригадир.
На стене вокруг зеркала висели карточки офицеров. Их было много – с орденами и без орденов, с усами и без усов, а один с бородкой. Сережка сказал, что это теткины сыновья.
– А муж у нее есть? – спросил Толька.
– Так вон же муж, – сказал Сережка. – Тот, что с бородкой.
Оставив Геньку караулить дом, Толька и Сережка пошли гулять. Народу на улице не было.
– Им гулять сейчас некогда, – сказал Сережка, который часто бывал в деревне и все знал. – Ремонтируют инвентарь к весеннему севу. Мужчины ушли в армию, управляются женщины, старики и молодежь нашего возраста. В общем, та же картина, что у нас на Кружилихе.
Избы были одинаковые, из бревен, окна высоко – не дотянуться рукой. На одну такую избу показал Сережка и сказал:
– Тут живет батюшка.
– Какой батюшка? – спросил Толька. – Поп?
– Он не простой поп, – сказал Сережка. – У него медаль есть: он собрал деньги на танковую колонну. Среди этих, знаешь, что в церковь ходят молиться. Среди православных крестьян.
Остановившись, они посмотрели на окна. Ничего не было видно за белыми занавесками.
– Интересно, – сказал Толька, – откуда они берутся – батюшки? Как делаются батюшками?
Но этого даже Сережка не знал. И, строя разные предположения на этот счет, они по разъезженной дороге пошли к лесу.
– Вставайте, сони, будет спать! – разбудила их утром тетка. – Смотрите, день какой!
Толька вскочил и зажмурился: прямо в глаза ему ударило солнце. Невозможно жарко было от солнца, от пылающей печи, от овчин, расстеленных на полатях.
– Фу-ты, – сказал Сережка, поскорей слезая с полатей, – я весь вспотел.
Он огляделся заспанными глазами:
– А Генька где?
– На огороде играет. Идите и вы, смотрите, как зима с весной встречается…
Толька вышел в огород. На высоких грядах, покрытых снегом, растекалось солнце. Беззаботно синело небо. Воробей присел на забор, подпрыгнул, повернулся вправо и влево, воробьиный хвост задорно торчал вверх, круглый коричневый глаз удивленно и весело поглядел на Тольку: что такое происходит? Чем это пахнет? Ведь до весны еще далеко!
– Толька, – сказал Генька, – давай не уезжать отсюда. Давай тут жить, и все.
– Ты это тетке скажи, – сказал Толька, которому и самому вдруг до тоски захотелось пожить в деревне. – Я тут не хозяин.
Генька побежал в избу и сказал тетке:
– Толька сказал, что мы у вас останемся жить.
– А живите, мне что, – сказала тетка. – Вот завтра с утра в район поеду, возьму вас с собой. Небось никогда лошадьми не правили, поучитесь.
Толька подумал: что-то говорят о нем на заводе. Ищут, наверно. Бригадир ругается, Федор ругается, мать охает и тоже ругается. Но так захотелось ему научиться править лошадьми, так не хотелось уезжать от сосен, приволья и от Сережки, что он прогнал неприятные мысли. А если бы он заболел? Если бы, например, он сломал себе руку? Ведь обошлись бы без него…
Целую неделю мальчики прожили в деревне и порозовевшие, с бидонами и кошелками гостинцев для Сережкиной матери возвратились на Кружилиху.
Толька скучнел по мере того, как поезд приближался к Кружилихе. Остаток дня он просидел у Сережки, потом с отвращением пошел домой. Открыл дверь своим ключом, посмотрел – мать и девчонки спят, Федора нет дома – и поскорей забрался в постель… Скоро пришел Уздечкин; Толька закрыл глаза и стал ровно дышать.
Уздечкин повернул выключатель и увидел Тольку.
– Негодяй, – сказал он тихо, чтобы не разбудить девочек; лицо его потемнело, на скулах заходили желваки… – Негодяй, если бы она не сестра тебе, я бы сейчас, сию минуту… как есть – на улицу… – Он прислонился к дверному косяку и замолчал.
Толька быстро сел на кровати и крикнул:
– Ну и ругайся, я знал, что ты будешь ругаться, ты только и знаешь, что ругаться…
Уздечкин смотрел на него, лицо его все темнело…
– Ты и с ней ругался! – кричал Толька, спеша взять перевес в этой ссоре, где – он это прекрасно понимал – он был кругом виноват, а Уздечкин прав. – У тебя все плохие, ты один хороший! Тебе плохо, так ты на всех кидаешься!..
Валя проснулась от крика и громко заплакала.
– Ну, ты еще чего! – сказал Уздечкин надорванным голосом. – Спи. Спи. Спи, слышишь?.. – Он уложил ее, подоткнул одеяло.
Ольга Матвеевна поднялась, смотрела перепуганными глазами, спрашивала:
– Что тут?.. Кто кричит?.. Господи, и ночью покоя нету!
Толька отвернулся к стене и заплакал скупыми, душными мальчишескими слезами.
…И никто не спросит, что с тобой было в эти семь дней, и некому даже рассказать, как ты правил лошадьми!..
Глава пятая
Дети завода
Как-то был у Листопада спор с Зотовым: где рабочее место директора. Зотов доказывал, что в кабинете.
– Ты пойми, – говорил он, – мы с тобой действительно генералы, под нашим командованием армии. Начальники цехов, главный конструктор, главный технолог, главный механик, главный металлург, главный энергетик – это ведь высший командный состав! Что же мне, бегать за каждым? Слушай, ведь начальник цеха смыслит в своем деле, ей-богу, не меньше нас с тобой. Их нервирует, когда крутишься у них перед глазами; они думают, что директор им не доверяет… Я бываю на сборке и на испытаниях, а вообще я у себя, люди приходят – я на месте, моментально приму – культурно… А к тебе звонишь, звонишь – один ответ: он на заводе. А если ты кому-нибудь срочно нужен? Где тебя поймаешь? Это пережитки первого периода стройки: «Где начальство?» – «На лесах…»
А Листопад тосковал в кабинете. Сидеть за письменным столом было ему трудно. Посидит час-полтора и идет в цеха.
Но все-таки получалось так, что едва Листопад появлялся в кабинете, как раздавались телефонные звонки и приходили посетители, и всем им Листопад действительно был очень нужен, – очевидно, без сидения в кабинете никак не обойтись…
Вот и сегодня. Едва он вошел, как Анна Ивановна доложила, что три раза звонил комсорг завода Коневский, спрашивал директора. Коневский за все время обращался к Листопаду не больше четырех-пяти раз и всегда по серьезному делу. Листопад велел Анне Ивановне сейчас же созвониться с ним.
Коневский явился очень скоро. Это был узкоплечий, еще не сложившийся юноша с молодыми темными усиками, с горячими карими глазами, с лицом неправильным, подвижным и прелестным, какое может быть только у очень молодого и очень хорошего человека. Ворот вельветовой блузы с застежкой «молнией» не закрывал его шеи, нежной, как у девушки. Он старался выглядеть солидным и укротить свою горячность – кровь то и дело приливала к его лицу.
Листопад оглядел его с чувством собственнической гордости. Эти вельветовые блузы достал по его заказу начальник ОРСа: Листопаду хотелось, чтобы у молодых людей на заводе был вот именно этот демократически-элегантный, непринужденный вид…
Коневский рассказывал о слесаре, подростке пятнадцати лет, который проштрафился: прогулял целую неделю, и теперь его надо отдавать под суд. Коневскому было жалко Тольку, из-за этого он сюда и пришел; жалко потому, что прогулял он – Коневский это понимал – по ребяческому легкомыслию. Но чтобы выручить Тольку, надо было сделать что-то незаконное, и это было мучительно Коневскому. Кроме всего прочего, Толька – родственник Уздечкина. Об этом надо было сказать директору, но тот может подумать, что Коневский заступается за Тольку из соображений кумовства и семейственности. Сам Уздечкин ни за что не будет хлопотать за родственника, он в таких вещах человек щепетильный. Он даже задрожал, когда Коневский необдуманно сказал ему: «Федор Иваныч, а не поговорить ли вам с директором?..» Толька отмежевывается от Уздечкина (Коневский полагал – тоже по щепетильности), говорит: «Он мне вовсе не родственник, какой он мне родственник, подумаешь – сестрин муж. Он мне никто!»
Коневский так и изложил все дело, не упомянув о родстве Тольки с Уздечкиным.
Листопад смотрел на него ласковыми глазами и молчал. Волнуется парень: молодость! Пусть еще поволнуется – забавно смотреть, как он краснеет.
– Вы что же предлагаете? – спросил Листопад. – Конкретно – как, по-вашему, надо действовать, чтобы обойти закон?
Коневский побледнел и сразу залился румянцем – до чего это здорово у него получается…
– Я думал, что, может быть, можно задним числом дать приказ о недельном отпуске.
– Этим же не я занимаюсь, – сказал Листопад нарочно ленивым голосом. – Этим начальник цеха занимается.
– Начальник цеха не возьмет на себя такую ответственность.
– А я возьму, вы считаете?
Карие, с голубыми белками глаза взглянули на Листопада смело, горячо и серьезно.
– Да, я считаю, что вы возьмете.
– Вот вы какого обо мне представления, – сказал Листопад. – Считаете, что я народные законы могу обходить… Но скажите мне такую вещь…
Он стал закуривать и закуривал очень долго.
– Вы с другой точки зрения – с партийной, комсомольской, государственной – не смотрели на это дело? Вы подумали о том, какой пример будет для остальной нашей молодежи, если мы с вами покроем этот прогул?
Коневский встал.
– Александр Игнатьевич, – сказал он, – я смотрю на это дело с человеческой точки зрения, и мне кажется, что это самая партийная, самая комсомольская точка зрения и что она больше всего совпадает с духом нашего государства и с духом Конституции.
Он произнес эту маленькую речь сгоряча и, как только кончил, смутился ужасно.
– Как фамилия мальчугана? – спросил Листопад.
