Михаил Кручинин – человек-легенда
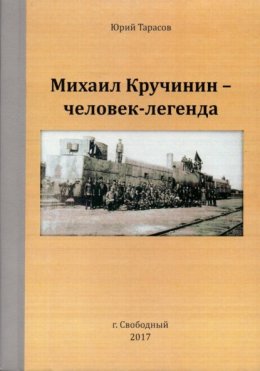
Предисловие
50 лет назад (в 1967 году) именем Михаила Дмитриевича Кручинина по решению городских властей была названа одна из улиц г. Свободного. Несколькими годами позже сессия городского Совета внесла его имя в «Книгу вечной славы города». Однако не только г. Свободный, но и ещё более двух десятков больших и малых городов и посёлков страны имеют все основания хранить память о нём. Это: Петербург, Нарва, Кронштадт, Благовещенск, Чита, Уссурийск, Владивосток, Спасск, Хабаровск, Зея, Анадырь, Белогорск, посёлки Ин, Смидович, Волочаевка, Будюмкан и ряд других. В истории каждого из них М.Д.Кручинин сыграл свою, пусть и не всегда главную, но достаточно важную роль, оставив им частицу своей энергии и души.
О нём, как легендарном комиссаре бронепоезда № 8 и участнике Волочаевских боёв, в советские времена немало писала свободненская, областная амурская и даже краевая пресса. Тем не менее, биография этого человека до сегодняшнего дня остаётся почти такой же загадкой, как и полвека назад. Виной тому –лакуны и искажения, допущенные в его жизнеописаниях местными авторами то ли от неумения работать с историческими документами, то ли, что более вероятно, по идеологическим соображениям. В своём очерке, опираясь на рукописи личных воспоминаний самого Михаила Кручинина и другие подлинные документы того времени, я попытался по возможности исправить эти застарелые и, к сожалению, давно уже ставшие нам привычными ошибки и недомолвки.
Правда, воспоминания М.Д.Кручинина, как и вообще всех участников событий того времени, тоже нельзя считать бесспорными историческими свидетельствами. Они писались по памяти, спустя много лет, без серьёзной опоры на документальные источники. Память же человеческая не настолько надёжный инструмент, чтобы доверять ему безоглядно. Влияли на объективность авторов и уже установившиеся к тому времени идеологические штампы по наиболее важным, с точки зрения пропаганды «социалистических ценностей», событиям советской истории. Да и не всегда правильное мнение своих бывших соратников (особенно начальников), выраженное в их уже опубликованных воспоминаниях, они вынуждены были тоже учитывать.
Совершенно естественно, что и свидетельства М.Д.Кручинина содержат немало ошибок, а местами даже противоречат друг другу. При работе с ними приходилось постоянно сравнивать их с работами историков на эту тему (тоже часто далеко не безгрешных), другими воспоминаниями очевидцев, а также с редкими сохранившимися официальными документами того времени. Такой «перекрёстный» метод проверки, в сочетании с логическим анализом, позволил существенно уточнить ряд описываемых Кручининым событий и фактов, внося исправления в случайно (или намеренно) искажённую им информацию.
Часть 1. Юнга Балтийского флота
Родился Михаил в Петербурге в 1888 году, став последним, одиннадцатым, ребёнком в семье Дмитрия Петровича и Матрёны Васильевны Кручининых. Это первый из немногих бесспорных фактов, зафиксированных советской прессой в его дореволюционной биографии. Дальше начинается легенда, созданная в 70-е годы прошлого века. Жизнь нашего героя постарались втиснуть тогда в «прокрустово ложе» идеальной судьбы комиссара-большевика из народа, почти обязательно включавшей в себя бедняцкое происхождение, голодное детство, тяжёлый труд, раннее начало революционной деятельности, арест, тюрьму, ссылку, побег и дальнейшую подпольную работу, не особенно заботясь при этом о точности излагаемых фактов.
Вот что писал, например, о положении семьи в первые годы жизни М.Кручинина И.Швецов: «Содержать большую семью в то время было невыносимо трудно. Как ни бился Дмитрий Петрович, а концы с концами не удавалось свести, жить приходилось впроголодь. Через четыре года после рождения младшего сына Д.П.Кручинин умер. Когда Михаилу исполнилось шесть лет, умерла его мать. Призрела круглого сироту тётка, сестра отца. С большим трудом устроила она мальчика в школу юнг Балтийского флота» [5].
А так описывает этот период в своей автобиографии сам Михаил Кручинин:
– … Когда умер отец в 1890 году, семья наша распалась, братья разошлись, а я с младшим братом Александром остались при матери. В 1894 году из Нарвы приехала наша тётка Дарья Спиридоновна Савицкая (сестра матери). Мать наша была больна суставным ревматизмом. Тётка, видя, что мать не скоро оправится, отдала меня в школу юнг Балтийского флота в Петербурге, а брата Александра увезли в Нарву… [16. С. 3].
Таким образом, в действительности отец у Михаила умер не через четыре года, после его рождения, а через два. Мать же в момент отправки сына в школу юнг была ещё жива. О её смерти М.Кручинин узнает только в 1922 году, из письма дочери всё той же тётки Дарьи из г. Нарвы, где Матрёна Васильевна прожила последние годы своей жизни.
Что же касается полуголодного существования семьи до смерти отца, то никакого упоминания об этом в автобиографии нет. Зато там сказано, что все братья Михаила имели рабочие профессии и работали по найму [16. С. 1-2]. Учитывая, что их родители поженились ещё при крепостном праве [16. С. 1] (то есть до 1861 года), ко времени смерти отца старшие сыновья были достаточно взрослыми, чтобы иметь собственный заработок, хотя и предпочитали до поры-до времени жить одной большой семьёй.
Продолжает слишком вольно трактовать биографию М.Д.Кручинина И.Швецов и в следующих строчках своей статьи, утверждая, что «в 1900 году, после окончания школы юнг двенадцатилетнего паренька направляют для продолжения учёбы и получения специальности в Кронштадтскую машинную школу. А в начале 1905 года переводят в 18-й флотский экипаж Кронштадтской крепости для работы на пароходно-ремонтном заводе» [5].
Получается, что Михаил провёл в школе юнг целых шесть лет, а потом ещё пять лет учился в машинной школе. Между тем, курс обучения в обеих школах составлял всего один-два года. Таким образом из жизни Кручинина выпадает не менее семи лет. Соответственно, оказывается неверной и дата окончания им школы юнг. Случайна ли столь грубая ошибка? А может быть, это просто попытка скрыть неудобные для советской идеологии факты его жизни? Посмотрим, что говорит об этом периоде сам М.Д.Кручинин в своей автобиографии:
«Я же, окончив школу юнг, был направлен с другими юнгами в Кронштадт и нас раздали на суда, я попал на яхту «Штандарт»» [16. С. 4].
В этих двух строчках и кроется ответ на поставленный выше вопрос. Паровая яхта «Штандарт» – любимое судно царя Николая II, построенное в Дании для собственных нужд русской императорской семьи в 1896 году. Видимо именно тогда, вместе со всем экипажем, и был отправлен туда из Кронштадта восьмилетний юнга Михаил Кручинин.
«Штандарт» являлся в то время самым большим и красивым кораблём своего класса в мире. При длине 128 метров и водоизмещении 5480 тонн, он мог развивать очень высокую для того времени скорость до 22 узлов. Выкрашенные в чёрный цвет плавные обводы корпуса хорошо гармонировали с позолоченными украшениями на его бортах в носу и корме. Под острым форштевнем судна, словно паря над кипящей пучиной вод, простирал свои могучие крылья огромный золотой двуглавый орёл. Высочайшим качеством отделки отличались и все внутренние помещения корабля, хотя позолота там уже не применялась. Это был настоящий царский путевой дворец на воде.
