Сыновья земли Русской
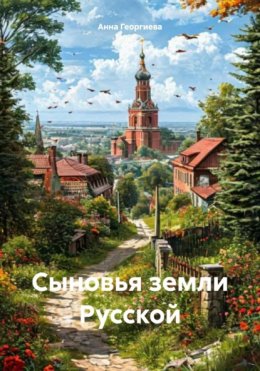
Танец
Октябрь в Верхневолжье переменчив: то солнышко проглянет, то моросящий дождик зарядит. Она засмотрелась на кружащиеся на ветру золотые листья клёна. Ярко-жёлтым ковром они укрывали глинистую землю. Грустный вальс кленовых листьев очаровал Её… Вспомнился выпускной. Они с подругой Танюшкой очень готовились, наряжались, даже впервые подкрасили губы и ресницы. Таня тогда купила необычный гребень для своей длинной густой косы, на гребешке резьба, в которую вписано название их родного города – Ленинград…
Кружились листья, вальсировали воспоминания, в которых они с подругой, постеснявшись пригласить мальчиков, танцевали вдвоём. Ах, какими же они были глупыми! Надо было танцевать! Любить! Жить!..
Через два дня объявили войну. Они с Таней сразу решили идти на курсы медицинских сестёр. И осенью уже были в действующей армии, в 250-й стрелковой дивизии, 258 медико-санитарном батальоне, в пяти километрах северо-западнее Ржева…
Одинокий кленовый лист медленно упал лицом в грязь. По Её щекам потекли слёзы. Таня не вернулась. Вчера спасала раненых. Притащив очередного бойца, бодрилась, утешала, успевала и с ней перемолвиться словами поддержки… Погибшей подругу никто не видел. Просто была бешеная атака, потом суматошное отступление, взрывы… Накануне предложили заполнить футляр с вкладышем – имя, фамилия. Но это же плохая примета! Заполнишь – убьют. Поэтому не приказали, а предложили. Они с Таней не писали! И теперь Она, размазывая по щекам скупые слёзы, размышляла: «Где же подруга? Может, сама раненая лежит? Но на ту сторону за Волгу уже не пройти. А если осторожно вдоль берега? Может, увижу её?!»
Вдруг слабый осенний луч пробился сквозь угрюмую хмурь. Показалось, что кто-то улыбнулся Ей. Так захотелось жить и любить! Как жаль, что на выпускном они не потанцевали с мальчиками! В октябре 1941 года недалеко от в Ржева, у полусожжённой деревеньки Пищалино, прячась за ненадёжными облетающими кустами, Она ползла по грязи, снова и снова высматривая подругу. Опять зарядил мелкий дождь…
Резкий порыв ветра совпал с неожиданным взрывом! Ярко-жёлтые листья смешались с комьями глинистой земли, на которой только что таилась девушка. Ей так и не довелось жить, любить, танцевать.
Я не слышала взрыва,
Я не видела вспышки…
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме…
– Отлично написано! Словно о нас!
– Если быть точной, там от лица погибшего мужчины написано.
– Тань, а ведь я нашла тебя!
– Лучше б не искала. Может, и выжила бы.
– Ну, как же? Мы же всегда вместе! Помнишь, наш выпускной?
– Где мы побоялись танцевать с мальчиками?
– Ах, какими мы были глупыми! Так хотелось жить, любить, танцевать!
И они закружились осенними листьями с одного дерева, и пролились дождём, и стали корнями молодых тополей… За несколько десятилетий тополя выросли, и вновь закружился вальс листьев. И облачко пыли или рожь на холме… Но однажды Таню нашли! В 2013 году.
Из записок поисковика А. Константинова: «Девчонка молодая, лет 18-20. Три пачки бинтов, зеркальце, коса длинная, в ней гребёнка, на которой клеймо «Ленинград, 1938 год». Был у неё и футлярчик с вкладышем, но вкладыш – чистый, ни имени, ни фамилии, ни номера части».
На том месте, где нашли Таню и бойцов, которых она не успела спасти, установили часовню. И они обрели покой. «И тебя найдут!» – обнадёжила Таня подругу…
Он родился в мирное время. Но, когда вырос, рядом снова шла война. Были среди Его друзей те, кто оказался в центре боевых действий. Переживал за них. Сам от службы не бегал, был там, куда послала Родина. В редкий выходной-увольнительную гражданские друзья позвали в Москву. «Разгонять тоску!» – отшутился он. И поехал в Ржев.
Октябрь в Верхневолжье переменчив: то солнышко проглянет, то моросящий дождик зарядит. Вот и в эту поездку Ему пару раз грустно улыбнулось солнышко, а затем его закрыла слезливая туча. Её слёзы сначала робкие и редкие готовы были обрушиться ливнем рыданий. Врага не было в этих краях уже более 80 лет, но казалось, что многострадальная Ржевская земля до сих пор стенает. Хотя город был восстановлен из руин, но живыми свидетелями тех лет остались некоторые полуразрушенные дома… В конце октября 1941 года город был занят немецкими войсками. Полтора года непрерывных боёв обильно оросили эту землю кровью. Каждый кирпичик помнит, каждое деревце, выросшее на этой почве, знает… В 2020 году огромный монумент Советскому солдату стал символом Ржева и памятью всем, кто навсегда остался в этой земле. «Я убит подо Ржевом в безымянном болоте. В пятой роте налево при жестоком налёте…»
– Я не слышала взрыва, Я не видела вспышки…
«Кто это произнёс? – подумал Он. – В стихах Твардовского от мужского лица». Но разошедшийся дождь продолжал шептать:
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме…
Я – где листьями клёна
Устилалась тропа;
Я – где небо бездонно
Льёт дождём на дома.
Много десятилетий
Я танцую с листвой,
Только дождь мне ответит,
Что случилось со мной…
Он долго бродил под дождём вокруг памятника, читал имена погибших, думал о тех, кто пока остаётся безвестным, о тех, кто и сейчас защищает Родину. Он прислушивался к еле слышному голосу, что сливался с музыкой дождя и листьев.
В конце октября сумерки коротки. В темноте засветились прожекторы. Исполинская фигура Советского солдата поднялась над землёй с журавлиной стаей. В перекрёстном вздрагивающем свете прожекторов за плечами могучего воина появились тени. Встав немного сбоку, можно было заметить, что за двумя широкоплечими тенями выстраиваются менее заметные другие – целое небесное воинство. И одна из них Она – хрупкая девушка-медсестра, которая очень хотела танцевать, жить и любить. Она пока безымянна, но память о Ней бессмертна…
Хоровод
Из окна поезда был виден величественный монумент – Родина-мать. Он – символ стойкости и мужества. А на привокзальной площади меня ждал небольшой памятник–фонтан под названием «Хоровод». Волгоградцы ещё называют его «Бармалей». Непосвящённому он кажется странным – шесть ребят, три девочки и три паренька, водят хоровод вокруг жизнерадостного улыбчивого крокодила; он не злой, не страшный.
Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил
И злодея Бармалея, словно муху, проглотил.
Раньше я и не знала об этом памятнике, а теперь вот ехала специально к нему, как к родному…
Мы купили скромный деревенский домик у пожилой грустной женщины. Она всё извинялась, что не разобран чердачный хлам. «Вы простите, мне всё недосуг было. Много лет прошло, а руки так и не дошли разгрести всё и выкинуть, – сбивчиво бормотала она. – Баба Люся наша здесь одиноко жила, но уж лет пятнадцать, как померла, а я про чердак-то совсем забыла. Вы сожгите там тетрадки да журналы. Она учительшей была, всё писала чего-то, по работе, наверно. Вы простите ради Бога за такой привесок…»
Неведомая нам баба Люся умерла более пятнадцати лет назад, и ничего-то от неё стоящего, видимо, не осталось, кроме журналов да тетрадок. Почему-то до щемящей боли стало жаль старенькую «учительшу» бабу Люсю, которой даже некому было перебрать чердачный хлам. Но не только от уважения к памяти бабы Люси, а больше от интереса к старому хламу знакомство с приобретённым домиком начали именно с чердака. Подшивки журналов, пожелтевшие выкройки и несколько исписанных тоненьких стареньких тетрадок с промокашками на первой странице. Почерк в этих тетрадочках был очень похож на тот, которым когда-то писала мне письма моя собственная бабушка. Такой манере – выводить буковку за буковкой, словно нанизывая бусинки на нитку, учили в 1930–е годы. Чернила чуть выцвели, но качественные, сделанные в СССР, они давали возможность без труда прочесть написанное.
Эти тоненькие тетрадочки оказались заполнены небольшими рассказами, незамысловатыми и безыскусными, но такими искренними. Оказывается, в свободное время баба Люся по учительской привычке писала. А когда мы дочитали до конца её записи, то поняли, что не писать она не могла! С первых страниц повествование взволновало, захватило, завлекло в хоровод. Подвергать творчество бабы Люси редактуре было бы кощунством, поэтому рассказ её будет, что называется «без купюр».
Хоровод.
Мы родились в Царицыне в 1920 году. Это уж потом, в 1925, любимый город стал зваться Сталинградом. А ещё в тот год папа принёс большую книгу под названием «Бармалей» – первое яркое воспоминание детства. Потом, когда подросли, мы стали играть в Бармалея во дворе – я, Зиночка, Рая и ребята Гриша, Ванечка и Петенька. В 1930–е годы наша дворовая дружба была искренней и доброй. Мы учились с мальчиками раздельно – в разных школах, но во дворе играли вместе.
Как-то раз мальчишки позвали нас во Дворец Пионеров, где они занимались в кружке авиамоделистов и юных техников. Был запланирован запуск готовых моделей. Тот день был красивый, солнечный, яркий – праздник детского счастья! Петечкина модель приземлившись прямёхонько в заданном квадрате, получила высший балл. Мы хлопали в ладоши, смеялись, а потом, взявшись за руки, завели хоровод вокруг победоносного Петиного истребителя, который он ласково называл «ястребок». Тут-то и появился странный мужчина, который попросил нас подольше кружить в нашем весёлом хороводе. Это, конечно, было странно, но руководитель кружка одобрительно кивал и улыбался, когда мужчина что-то чиркал в своём блокнотике. Назвался он забавным именем – Ромуальд Ромуальдович, а позже мы узнали и его необычную фамилию – Иодко. Он рисовал нас – как весело и беззаботно водили мы свой хоровод! Петечка, Гриша, Ваня, Зина, Рая и я кружили, смеялись, позируя довольному рисовальщику. Позже нам рассказали, что это был знаменитый скульптор, который хотел создать памятник счастливому детству…
Мы уже были подростками, когда на привокзальной площади наконец появился этот памятник–фонтан, а в центре хоровода лежал не самолётик, а довольный крокодил. Это ведь наше любимое стихотворение детства: «И злодея Бармалея, словно муху, проглотил!» Правда, лица ребят на наши не были похожи, и с авторством вышла какая-то путаница. Мы считали, что это Ромуальд Иодко создал по тем рисункам, которые делал с нашего детского хоровода в тот памятный день. Но были и другие сведения, что автор – скульптор Кудрявцева Ольга Николаевна, и такой же её памятник есть ещё в Харькове и других городах Украины. Но мы всё равно считали его нашим символом детства!
На выпускном мы рядом с этим памятником–фонтаном поклялись в вечной дружбе… И не только! Петечка уже давно ухаживал за мной. А Гриша – за Зиночкой и Ваня – за Раей. Мы поступили в институты и верили в светлое будущее. Петя, все годы ходивший в авиамодельный, так и решил стать лётчиком, а я – учителем. Гриша и Ваня пошли учиться на инженеров, а Зина с Раей хотели лечить людей. Это было прекрасное время! Мы жили на реке Волге в лучшем городе, который носил имя нашего мудрого и великого вождя – в Сталинграде!
Когда мы окончили второй курс, началась война. Летом 1941 года мы, поклявшись бить врага, попрощались около нашего хоровода детства. Петя сразу оказался лётчиком на передовой. Его истребитель – настоящий «ястребок» сбивал фашистские самолёты. Гриша с Ваней тоже ушли добровольцами, хотя могли остаться при заводе как инженеры. Уже летом 1942 года стало понятно, что фашисты нацелены на взятие родного Сталинграда. Но этого мы допустить не могли!
Я присоединилась к Зине и Рае, которые без отдыха работали в госпитале. Ожесточённые бои августа – сентября 1942 вспоминать страшно, мы не успевали перевязывать раненых. И вот однажды во время ночного дежурства был налёт, доставили новых раненых, и в одном из них я с трудом узнала Григория. Раны его были смертельны. Он тоже узнал меня. «Люська, – прошептал он запёкшимися губами, – мы отстояли памятник! Враг отбит от вокзала».
Слёзы текли по моим щекам. Я вспоминала символ нашего детства – хоровод шести счастливых детей лучшего в мире государства, которое нам теперь надо было отстоять у врага!
В краткое затишье какой-то отважный фотограф сделал снимок нашего фонтана. Позже мы с девушками узнали, что где-то недалеко погиб и Ванечка. Рая долго плакала, ведь они собирались пожениться… А осенью Зина и Рая вместе попали под бомбёжку, когда эвакуировали госпиталь… Долго не было известий о моём Петечке… Его самолёт – героический «ястребок» – пошёл на смертельный таран в небе над Сталинградом… От нашего хоровода осталась только я – Люся…
Но выстоял великий наш солдат,
Но выстоял великий Сталинград!
Выстоял и наш фонтан–памятник, став символом стойкости и мужества. 9 мая 1945 года я пришла к нему – к Петечке, Грише, Ване, Зине и Рае, изваянным из гипса, чтобы вместе встретить Великую Победу. Тихонько дотронулась до каждого… Мы всегда будем кружить в нашем счастливом детском хороводе! Это будут дети свободной Родины, спасённой Петечкой, Гришей, Ваней, Зиной, Раей и миллионами других павших за светлое будущее…
На этом записи в тонкой пожелтевшей тетрадочке заканчивались, так показалось мне, прочитавшей полную светлой грусти безыскусную историю неведомой мне, но ставшей родной, бабы Люси, пережившей страшные годы Сталинградской битвы. За скромными строчками на старой бумаге вставали вихрастые жизнерадостные задорные ребята – Петя, Гриша, Ваня и их очаровательные подруги – Рая, Зина, Люся. Они водили свой бессмертный хоровод вокруг улыбчивого крокодила, проглотившего фашистскую гадину. Между страниц другой тетрадки лежали газетные вырезки. Одна с фотографией, ставшей знаменитой на весь мир, сделанная Эммануилом Евзерихиным в 1942 году; ещё одна вырезка – июль 1945, физкультурный парад в Сталинграде на привокзальной площади рядом с фонтаном–памятником… А ещё в той тетради была приписка, сделанная по всей видимости дрожащей рукой: «Уезжаю с мужем в маленький город, буду учительствовать… А наш хоровод…снесли… Петечка, Гриша, Ваня, Зиночка, Рая, наш волшебный танец будет всегда со мной. Память о нём и о вас, мои родные, я пронесу через всю жизнь! 1951 год».
Действительно, фонтан «Детский хоровод», который люди ещё называли «Бармалеем», переживший Сталинградскую битву, демонтировали при застройке центра города в 1951 году. А ещё через десять лет Сталинград переименовали в Волгоград… Представляю, как обливалась слезами душа Люси, прощавшейся с родным символом довоенного детства…
Подшивки журналов заканчивались началом 90–х. Видимо, в те годы завершился земной путь бабы Люси. К сожалению, ей не довелось узнать, что в 2013 году благодаря неравнодушным людям знаменитый фонтан–памятник был восстановлен скульптором Александром Бургановым по знаменитой фотографии 1942 года. Более того – брат близнец хоровода был установлен возле руин мельницы Гергардта. Люся с Петечкой, Гриша с Зиной, Ваня с Раей вновь стали кружить в своём бессмертном хороводе. Возможно, символические лица гипсовых ребятишек не совсем похожи на те, что в далёком 1930–м нарисовали с шестерых друзей, но фонтан–хоровод кружится у Волгоградского вокзала вокруг улыбчивого крокодила, проглотившего фашистскую гадину.
Из окна поезда мне был виден величественный монумент Родины–матери. Она надёжно охраняет детский хоровод. Я везла к нему тоненькую тетрадочку неведомой мне, но ставшей родной, бабы Люси, чтобы она вновь встретилась со своими друзьями…
Дай им шанс! (сновелла)
Ночь была ветреной и морозной. Накануне воплотила мечту – взошла на Мамаев Курган! На самой вершине у могучих ступней Родины–матери февральский колючий ветер проникал под одежду, теребил полы пальто, навязчиво размётывал волосы… Представлялось, как более 80 лет назад здесь хозяйничала смерть!
Родина–мать возвышалась величественно и грозно, занеся в мощном громовом порыве воздетой руки карающий меч, всей своей фигурой олицетворяя призыв в бой. В звенящей темноте нижневолжской звёздной ночи, подсвеченная прожекторами, она, словно парила над огромной братской могилой… Пропитавшись её величием, воплотив мечту, я уютно расположилась на ночлег в гостинице «Сталинград».
– Ты слышишь нас?
Мне показалось, что это обман возбуждённого впечатлениями слуха! Оказывается, два молодых человека, окружённые ослепительным голубым свечением, были не галлюцинациями, а сном! Причём чёткое осознание сна подчёркивалось незримым наличием Бога.
– Гришка, она нас слышит! – восторженно проговорил который повыше.
– Не поверишь, Иван, но даже видит! – обрадовался второй, пониже.
– Она очень хотела написать рассказ, даже сюжет вчера придумала о нашем знаменитом фонтане.
– О Бармалее? Отлично! Пусть она попробует запомнить наши имена.
– Давай попробуем. Дмитренко. Я – Дмитренко! Не Дмитриев, не Дмитриенко, – старательно выговаривал солдат повыше.
– А я – Корытов. Не Копытов, а именно Корытов, от корыта, – отчитался тот, что пониже.
– Мы погибли, как и многие. Но очень просили у Бога ещё один шанс, – грустно объяснил Дмитренко.
– Мы просили шанс на новое воплощение, – уточнил Корытов.
– Чем тебе не сюжет? Напишешь? А потом уж о фонтане Хоровод…
Мне показалось, что там был третий. Какой-то очень скромный. Он грустно смотрел и не настаивал на запоминании его имени. Я сама обратилась к нему:
– Ты-то почему молчишь, Петя Иванов? Иван Петров? Может, Пётр Петров?
– Может. Сам уже не помню, – грустно ответил третий.
– Вот послушай нас, раз слышишь, – снова взял слово разговорчивый Дмитренко. – Мы просили у Бога шанс – ещё раз в бой!
– Вам дали шанс? Сейчас идёт война. И мы побеждаем, – голос мой прозвучал излишне звонко.
– Да, мы знаем! Знаем! Шанс Бог дал. Мы родились ещё раз в конце 20 века. Только пацаны не знают, что они – это мы. Они на СВО.
– Как-то сложно. Они – это вы. А вы – Дмитренко и Корытов?
– Правильно. Дмитренко и Корытов. А новых-то и зовут иначе. Но это Бог нам дал шанс! Можешь так и записать…
Лазурное пространство захватывает моих оппонентов, но они выглядят очень довольными. Лучатся их молодые глаза, лучи расходятся позади них, освещая великий путь…
Из этого мог бы получиться рассказ. Утром я начала поиск в интернете. Но в официальных списках захоронений среди множества фамилий не оказалось таких, которые помнились мне из сна. Лишь спустя время нашла сайт «бабушки–поисковика» Дэи Григорьевны Вразовой. Она долгие годы составляла списки братских могил Мамаева Кургана. И, о чудо, в её книге «Имена на Мамаевом Кургане» нашла дополнительные списки, среди которых:
276 Дмитренко Иван Гаврилович
201 Корытов Григорий Семёнович
193 Петров Пётр
Морозным февральским утром я шла в «Зал Воинской Славы». Тысячи имён героев, павших в Сталинградской битве, начертаны на его стенах. Но в братской могиле их значительно больше. Благодаря поисковикам неизвестные солдаты обретают имена. Иногда они сами дают о себе знать…
В безоблачном лазурном небе над Мамаевым Курганом возвышалась величественная фигура Родины–матери. А за ней в лучах февральского морозного солнца вставало Великое Воинство, которое победило более 80 лет назад. Это Великое Воинство победит и сейчас!
Большое доброе сердце
Большое доброе сердце Павла Григорьевича останавливалось восемь раз. «У меня, как у кота, девять жизней», – шутил он. В пожилом возрасте Павел Григорьевич, действительно, напоминал тёплого мягкого кота. Сходство подчёркивали мягкие, как кошачий пух, густые белоснежные волосы. Есть такое выражение «убелённый сединами» – это о нём. Довершала сходство с котом ложбинка между носом и верхней губой. Существует легенда, что ангел прикладывает туда свой пальчик, чтобы человек забыл свои прошлые воплощения. Лица Павла Григорьевича ангел коснулся шаловливо, потому, видимо, прошлое воплощение кота сохранилось в его облике. Портрет дополнял бархатистый негромкий голос, мягкие неспешные движения и фланелевая уютная рубашка в клеточку. Не удивительно, что большой пушистый белый кот, уютно устроившийся на коленях хозяина, имел с ним несомненное сходство. Павел Григорьевич обожал своего питомца и много шутил на эту тему. А ещё он интересно умел рассказывать, с прибаутками да присказками, словно кот учёный сказку. Но не только сказки были среди историй Павла Григорьевича, потому большое доброе сердце его останавливалось восемь раз…
Начало войны застало Павлушу четырнадцатилетним пареньком в городе Ирбит, Свердловской области. Чем была война для мальчишек, не нюхавших пороху? Конечно, жаждой подвига, мечтой о героизме.
«Валенки, валенки! Не подшиты, стареньки!» – напевал худенький уральский паренёк Павлуша. Он наладился в артель обувщиком, куда с фронта приходили на починку валенки. Выправлял да латал справно, но, бывало, сунет руку в валенок, а там – портянка в запёкшейся солдатской кровушке, и зайдётся трепетом сердечко, рвётся душа на фронт. Далеко Урал от линии фронта. Это надёжный тыл, где трудом помогали Родине. А ещё это гостеприимный дом для эвакуированных. Каждому старался помочь Павел – где дров нарубить, где воды натаскать, а кому-то и просто доброе слово сказать. Большое сердце у паренька!
Время шло. Помогал Павел письма и повестки разносить. С превеликой гордостью нёс он в ноябре 1944 года повестку на своё имя!
– Куда тебя, глупого, тянет! – запричитала матушка.
– Мама, я должен! – мягко, но уверенно отвечал Павел.
– Тебя медкомиссия не пропустит! Кто себе хребет чуть не поломал, полгода ноженьки нехожалые были! И сердце у тебя слабенькое! – не сдавалась матушка.
– А я не скажу на комиссии. Мама, надо добить фашистскую гадину!
И прошёл ведь Павлуша медицинскую комиссию, годным признали – знай наших! Направили его под Свердловск, на Гореловский кордон в отдельный запасной полк связи на обучение.
Война подходила к концу, но Павел чувствовал, что и на его век подвигов хватит…
Поезд нёсся сквозь величественную тайгу, родимые сосны и кедры махали вслед. Вскоре показались степи Забайкалья. Советские войска перебрасывали с Запада на Восток, поскольку Японский военный флот, оставив лишь узкий проход в проливе Лаперуза, безнаказанно громил и грабил там советские корабли. И ещё территория дружественной Монголии была до сих пор оккупирована японцами.
Павел после училища был направлен во второй Забайкальский фронт под командованием маршала Малиновского! Поезд нёсся, оставляя позади Томск, Омск, Красноярск, Иркутск, всё дальше и дальше до монгольских степей. В июле 1945 года жара стояла невыносимая. Вагоны, набитые битком. Ох, тяжко! Но любопытна Павлу необыкновенная природа. Раз выглянул из вагона, а по обочинам желтоватые столбики стоят и как будто шевелятся. А как стал поезд притормаживать, так увидел, что это зверьки – сурки кто-то подсказал. Стояли навытяжку, словно маленькие солдатики, по обочинам насыпи эти сурки, провожая состав дальше на Восток. Ночью Павлу в душном вагоне всё сурки да суслики мерещились, будто наклоняются к нему и ласковым материнским голосом говорят: «Вот беда – расхудился, родимый!» Жар начался. Так в горячке доехал, а ночью пешком восемнадцать километров, потому что днём по жаре вовсе идти невозможно было бы. На привалах падал и смотрел в высокое чёрное монгольское небо. Большие яркие звёзды шептали: «Держись, Павел! Держись!»
Выдюжил, выкарабкался Павел! Он – рядовой 202 отдельной Краснознамённой бригады 870-го пушечно-артиллерийского полка имени Богдана Хмельницкого. Павел – бравый солдат – всем добрым словом помочь готов, все приказы выполнить! Форсировали Монголию в короткий срок, подошли к Большому Хингану, что в Маньчжурии. Японцы – народ умный, но незнаком им русский мужицкий характер! Не думали японцы, что высокогорный хребет опытные русские войска преодолеют так быстро. Сапёры взрывали горную породу, прокладывали дорогу, и взвод связистов, среди которых был и Павел, пробирался вперёд…
Большой Хинган предстал перед восторженным юношей во всей своей дикой первозданной красе! С одной из гряд открывалась ширь и даль неоглядная, над которой поднимался голубой небесный купол. Павел и его сослуживец Юрка прокладывали кабель связи через сложный участок, определённый им командованием, соединяли наблюдательный пункт с огневой позицией.
– Юрка, смотри, что там такое? – забеспокоился Павел.
– Где? Не вижу ничего подозрительного, – отреагировал напарник.
– За хребтом, – настаивал Павел.
– Не высовывайся, япошки увидят, – строго предупредил Юрий.
