Изменяя прошлое
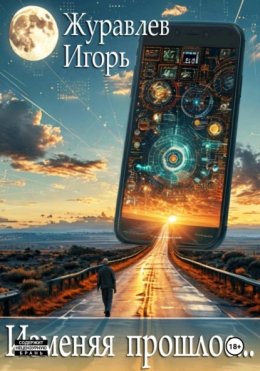
ИЗМЕНЯЯ ПРОШЛОЕ
«А мир устроен так, что все возможно в нём
Но после ничего исправить нельзя».
Леонид Дербенев «Этот мир».
Глава 1
На этого мужичонку я сразу обратил внимание. У меня чуйка на людей, выработанная долгими годами близкого общения с самыми разными представителями вида Homo sapiens. Я почти безошибочно могу определить, как будет жить тот или иной человечек, попавший в наши места, пару дней понаблюдав за его поведением. Опыт, знаете ли! Когда ты десятилетиями живешь среди людей в системе, где никто не может спрятаться друг от друга, где все всегда на виду, то невольно становишься и экспертом по человекам, и психологом, да и психиатром до кучи. А я попал в эту систему рано, первый свой день рождения в местах, что принято называть «не столь отдаленными», довелось мне отпраздновать в двадцать один мой молодой годик. А сейчас мне уже, слава Богу, шестьдесят, и более половины из них я провел за колючей проволокой.
Да, время летит какой-то дебильной птицей, не устающей махать своими крыльями-годами без перерыва на сон и завтрак. Вроде совсем недавно в первый раз в жизни за моей спиной захлопнулась железная дверь, открывающаяся только снаружи, а почитай, сорок лет как корова языком слизнула. Эх, вздохнул я по-стариковски, – какой смысл в моей жизни, на что ушли прожитые годы? Это все вопросы, которые я себе старался не задавать, поскольку ответы на них мне не нравились. По всему получалось, что прав был древний Экклезиаст из затертой до дыр Библии, в которую я последние годы частенько стал заглядывать, размышляя о прочитанном: «Я понял, что лучше тем, кто уже умер, чем тем, кто еще жив. А лучше всего тому, кто еще не рожден и не видел злых дел, что творятся под солнцем»1. Вот уж верно сказано!
Тем временем мужик боком протиснулся в полуоткрытую и ограниченную цепью сверху дверь нашей хаты-осуждёнки2, одной рукой зажимая подмышкой матрас, а другой ухватив потрепанный рюкзак. Он потерянно оглянулся, нерешительно потоптался у захлопнувшейся за спиной двери, и, приметив свободное место, намылился тихонько проскользнуть туда. Ясно, первоход. В следственной хате уже привык, они поменьше размером, а в огромной осуждёнке поначалу растерялся. Хата и правда была большой, на сорок рыл, гомон стоял постоянно, лишь немного утихая на ночь, за чем я строго следил. Люблю спать в тишине, есть у меня такой пунктик, годы уже не те, хотя и привык, конечно, ко всякому.
– Нечай, сходи, проверь, что за карась к нам заплыл. Если не опущенный, приведи сюда, – окликнул я соседа, с увлечением читающего потрепанную книгу.
– Да на хрена он тебе, Пастор? – заворчал, поднимаясь, мой старый кент еще со второй ходки. – Только я до самого интересного места дошел…
На ворчание Андрюхи Нечаева по кличке «Нечай», я внимания не обратил. Он как всегда в своем репертуаре. Но раз уж поставили меня смотреть за хатой (не хотел, упросил старый знакомый, что за тюрьмой смотрел, жалился, что некому больше), то пойдет и сделает, никуда не денется, поскольку понятия чтит.
Я проследил взглядом, как он, распихивая народ в стороны, подошел к заехавшему в хату мужику – на вид, моего возраста, о чем-то недолго перетер с ним и повел за собой.
Уже хорошо, что не петух. Не то, чтобы я поверил, что кому-то мог приглянуться престарелый первоход, но ведь в петушатнике не только проткнутые сидят. В касте опущенных можно оказаться по самым разным причинам. И если уж кто там оказался, пусть даже по беспределу, обратного пути не существует. Сколько бы раз ты потом ни садился, каким бы ты ни был, твое место навсегда у параши. Срока давности, как говорится, не существует. И тогда мне с этим челом общаться было бы труднее, кто же с петухами дружбу водит? – Только такие же петухи. Хотя и эта стена не непреодолимая, если надобность возникнет. Но лучше все же без этого.
Впрочем, я и не собирался с этим типом кентоваться, но моя чуйка просто завыла в груди: он мне нужен! Зачем – не знаю пока, но со своей чуйкой душа в душу живу, сколько раз она меня выручала! А потому доверял я ей полностью.
Нечай завел новенького в наш проход в дальнем от входа углу, и тут же завалился на свою шконку, с интересом ожидая продолжения нежданного спектакля. В тюрьме, сами знаете (а не знаете, так поверьте на слово), развлечений не так уж и много, а Нечай любопытный, ему все интересно. Я взглянул на Андрюху прищурившись.
– Убивец он, – представил Нечай гостя. – Первоход, погоняло «Сурок», отвесили червонец строгача.
Я непроизвольно поморщился, вот, не нравилась мне эта постсоветская система наказаний, когда все сидят вперемежку: и заслуженные сидельцы и наивные первоходы. Из-за этого и жить на киче стало сложнее, и понятия стираются. То ли дело в СССР, во времена моего первого, да и второго срока тоже. Тогда первоходы сидели с первоходами, а те, кто попал второй и более раз – с такими же знающими людьми. Для первой судимости тогда существовало два режима. Общий режим – для первоходов по легким статьям, и усиленный режим – для первоходов по более тяжелым статьям, да и срока там начинались от трех с половиной лет. На общаке, конечно, был беспредел, по слухам, но я туда, слава Богу, не попал. Меня сразу на усилок судьба закинула с моей первой пятерой, чему я в итоге был очень рад: там люди к жизни относились серьезнее – и статьи солиднее, и срока долгие, поневоле серьезным станешь.
А когда ты попадался во второй раз, то тебя к первоходам уже не отправляли ни в коем случае, для тех, кто не новичок в системе пенитенциарной существовал строгий режим. Приезжаешь на зону, а там все свои – никому не надо ничего объяснять, все всё вкурили еще с первого раза. Поэтому на строгом жить было хорошо – ну, для тех, кто понимает, конечно. Был еще особый режим, это для признанных судом рецидивистами, им еще в СИЗО полосатую робу выдавали. На особом, говорят, вообще в кайф сидеть было. Хотя тут, конечно, опять же, как и везде в жизни, зависит от того, кто как устроился и как сумел себя показать. Правило везде одно: сначала ты нарабатываешь авторитет, а потом авторитет работает на тебя.
А потом в девяностые такую хорошую систему взяли и сломали, подстраиваясь под западный опыт. Режим стали определять исключительно по тяжести преступления и начался бардак, когда первоходы попадали к тюремным старожилам и всё, нахрен, перемешалось. Да, много чего в новой России сделали через жопу, не учитывая даже положительный опыт советских времен.
Я вздохнул и перевел взгляд на Сурка. Тот настороженно кивнул, подтверждая слова Нечая:
– Сурков моя фамилия, зовут Николаем.
– Присаживайся, Сурок, – хлопнул я ладонью по своей шконке. – Я смотрящий за положением в хате, называй меня «Пастор».
– Странное у вас погоняло, – удивился Сурок, присаживаясь на краешек. – Почему «Пастор»?
– Исповедовать люблю таких, как ты, – хохотнул я. – Считай, что ты сейчас в церкви, а потому рассказывай все как на духу. Хочу понять, что за человека в мою хату занесло.
– Смотри, Сурок, на исповеди врать нельзя! – прищурился Нечай, оскаливая свои прочифиренные зубы. Морда у него при этом становилась зверская, и он об этом знал, потому любил людей своим оскалом пугать. Я лишь усмехнулся про себя, уж Нечая я знал как облупленного. Пассажир он правильный и человек неплохой, а то, что ссыковат малёхо, так у всех свои недостатки. Эту свою ссыковатость он умело прячет за наглостью, так что сразу и не подумаешь, если только когда близко его узнаешь. Но на Сурка подействовало так, что он невольно плечами передернул, а Нечай и доволен.
– Да что сказать? Обычный я человек, по специальности физик, пятьдесят четыре года от роду. Раньше не сидел и даже не привлекался.
– А завалил кого? – прищурился Нечай. – Бабу свою, что ли?
– Почему бабу? – удивился Николай, превратившийся на ближайшие десять лет в Сурка. А что поделаешь? – Такая фамилия человеку досталась. Николаев на зоне много, поди, разберись о ком речь, а когда скажут – «Коля Сурок», сразу всем понятно. Без погоняло у нас нельзя никак, не нами заведено.
– Ну а кого ты еще мог завалить? – сделал удивленную харю Нечай. – Рази что собутыльника по пьяни?
– Не пью я, совсем, – признался Сурок. – Здоровье не позволяет.
– Да харэ тут сказки рассказывать, – с ходу отмел такой вариант Нечай. – Все пьют.
И заржал, придурок. Сурок, надо отдать ему должное, на подначку не повелся, лишь плечами повел. Дескать, твое дело: хочешь – верь, хочешь— нет. Поднатаскался, пока под следствием сидел, может, долгие месяцы.
Чем-то он мне нравился, этот физик, пока понять не могу чем, но разберусь. Я и сам в детстве физикой увлекался в школе. Кто знает, повернись иначе, может, коллегами с ним были. Хотя это, конечно, вряд ли. Богу богово, кесарю кесарево, а что холопу на роду написано, так тому и быть.
– Так кого ты завалил, Сурок? – мягко поторопил его я.
Тот как-то обреченно вздохнул и ответил:
– Эфэсбэшника, что приставлен был ко мне по работе.
Мы с Нечаем переглянулись, а Сурок продолжал, словно его прорвало:
– Он мне угрожал, что сестру мою убьет! У меня выбора не было, злой человек был, не об интересах страны, а о своей выгоде только думал. Хотел мое изобретение продать, и деньги, типа, поделить. А начальству доложил, что ничего у меня не вышло. Может, и к лучшему, пусть так думают, вот только знал я – обманет он меня и, скорее всего, убьет потом, чтобы все следы замести. И меня и сестру, которая одна в курсе моей работы. Очень злой и очень жадный человек. Был.
Моя чуйка вновь взвыла: не теряй, мол, Пастор, этого мужичка, нужен он тебе! Зачем? Пока не знаю, но одним местом чую: нужен он мне позарез!
– Чифиришь? – спросил я.
– Не, – помотал головой Сурок. – Слишком крепко для меня, сердце заходится.
– Ну а купчика?
– Купца можно, если не очень крепкого, – согласился бывший физик.
– А чай-то хоть есть у тебя, убивец? – грозно спросил Нечай. – Вообще, есть чего на общак? Давай, все выкладывай!
Я поморщился, но останавливать Нечая не стал. Общее есть общее, такой порядок, что каждый должен скидываться. Иначе, как выживать?
Сурок спорить не стал, понимал уже, что к чему. Молча расстегнул толстый рюкзак и выложил на шконку две двухсотграммовых пачки черного крупнолистового чая «Принцесса Нури» и пять пачек сигарет «Bond». Подвинул ближе ко мне:
– Это на общее.
– Это чё, всё, чё ли? – вскинулся Нечай. – А пожрать?
– Нечай, не наглей, – посмотрел я на кента. – Каждый сам решает, что он может уделять добровольно.
Нечай скривил харю, не нравилась ему моя «правильность», но умолк, а я повернулся к Сурку:
– Благодарю тебя, Николай, от общества.
И пока Нечай убирал пожертвованное в общаковые пакеты, что стояли у него под шконкой, я продолжил опрос:
– Давно уже сидишь?
– Скоро полгода будет, Пастор.
– Долго тебя мурыжили, – кивнул я. Обычно на досудебное расследование по закону выделяется два месяца, и если следак выходил с прошением о продлении, то это не очень у ментов поощряется. У них там свои планы и сроки. Конечно, если нет веских причин. Но тут дело, видно, непростое. Шутка ли – чел эфэсбэшника завалил, который, походу, был еще и при исполнении.
Сурок только вздохнул, но ничего не ответил. Не любит о себе распространяться, закрывается. Но и я не пальцем деланный. И пока Нечай варил чай, я пытался вытянуть из физика зачем-то нужные мне сведения. Впрочем, есть простой способ узнать если не все, то все, что ему предъявило следствие. Копию приговора он еще, конечно, не получил, ведь его сразу после суда к нам кинули. Пока там напечатают, пока подпишут, пока сюда пришлют, пока спецчасть ознакомится – дело, обычно не одного дня. А вот обвинительное заключение, которое по окончании следствия выдают, у него, конечно, с собой. И я, уставившись ему прямо в глаза, тихо произнес:
– Коля, объебон не дашь почитать? Страсть, как люблю детективы!
Я хохотнул, не сводя с него взгляда, в котором не было и намека на смех. Сурок понял все правильно, да и что тут за секрет, наверняка уже не один человек прочитал это заключение. Вздохнув, он молча достал из рюкзака пакет с логотипом «Пятерочки», развернул его и протянул уже достаточно потрепанную довольно толстенькую стопку листов формата А4. Я принял объебон (так уж у нас принято называть обвинительное заключение) и откинулся на подушку, протянув руку к бокалу с чаем и кивнув Сурку на другой бокал: мол, угощайся. Нечай не поскупился, конфеток насыпал к чаю.
Сам он любитель чифирнуть, а я чифирил только по первой ходке, потом перешел исключительно на «купца» с конфетками. Так у нас называют чай средней крепости – купеческий, не такой слабый, как обычные граждане и гражданки пьют там, за забором, но и не чифир. В общем, «купец» – он «купец» и есть. А без чая в тюрьме никак нельзя, это и традиция, и целая церемония, да и способ скоротать время.
Да, думал я, листая страницы объебона, в общем, ничего нового для меня: делюга как делюга. И не такие закрученные истории здесь можно встретить. Если коротко, то не самый последний человек в отечественной науке, зека Сурок, в миру – Николай Сурков, подвизавшийся на ниве квантовой физики, так сказать, на самом переднем крае современной науки, что-то там изобрел, о чем в обвинительном заключении было сказано лишь мимоходом и очень туманно. Изобрел, видимо, что-то важное, что, наверняка, можно применить для военных целей – это я так кубатурю, раз уж Контора к нему своего человека приставила. А ученый Сурок взял, да и завалил куратора из его же собственного табельного «Макарова». Оправданиям обвиняемого, что, мол, куратор хотел обмануть страну и продать изобретение врагам Отечества, угрожая смертью сестры, следак не поверил. И суд не поверил, что видно по результату: сроку и присутствию Сурка в нашей осужденке.
А вот я, сам не знаю почему, но верил. Был у меня даже какой-то холодок в груди, некое предчувствие даже, что стою я прямо на пороге перемен в своей жизни. Ни больше, ни меньше. Но чего там Сурок изобрел, я спрашивать не стал, слишком много ушей лишних. Не станет он правду говорить, раз на суде не сказал. А то, что он не сказал на суде правду, я видел – на лбу у него это написано было. Упертый человек, тут индивидуальный подход нужен, нахрапом его не возьмешь, коли уж он Конторы не побоялся.
– Вот что, Сурок, – решился я, – спать будешь здесь.
Я кивнул на свободную верхнюю шконку над собой. Пара-тройка незанятых мест в хате еще оставалась, поэтому я мог себе такое позволить, да и над Нечаем никто не лежал. Но Сурка отпускать от себя жутко не хотелось, поэтому – ничего, потерплю соседа, главное, чтобы он постоянно на виду был.
– Давай, кидай матрас, располагайся пока. А я отойду, чтобы тебе не мешать.
И, не обращая внимания на удивленную харю Нечая, встал и, подойдя к двери, выкинул специальный «флажок» в стене, дающий знать надзирателям, что в хате нужна их помощь. Такая простая штуковина, в хате нажимаешь – на продоле возле хаты вываливается такой железный «флажок». Для надежности пару раз пнул по железу двери, звуки здесь далеко разносятся. Пока пупкарь где-то там шоркался, я, не торопясь, достал сигарету из пачки и закурил. Курю я в последние годы мало, не больше пяти штук в день позволяю себе, давно бы совсем бросил, да все какое-то развлечение. В тюряге, я уже говорил, не так много развлечений, чтобы добровольно лишать себя последних. А что для здоровья вредно, так я за жизнь свою давно не держусь, не за что особо держаться. В шестьдесят лет ни дома своего, ни семьи – ничего своего. Дети, может и есть где-то на стороне, но я их даже не видел. Нет, я, конечно, не законник, да и не блатной, хотя блаткомитет меня в своих рядах почему-то числит. Но и не мужик3, в гробу я видел, на хозяина горбатиться. Так, живу сам по себе, кентуюсь с ограниченным кругом, но и понятия чту. Ни за что и сейчас не взвалил бы на себя обязанности смотрящего за хатой, но попросил давний знакомый, еще по первому сроку. Он вор законный, в авторитете, сейчас за тюрьмой этой смотрит. Уговорил, языкастый, – мол, Пастор, выручай, народу не хватает, некому за осуждёнкой смотреть. Мне оно и не надо вроде, я бы давно уже этапом на зону ушел, гулял бы там, на свежем воздухе – всё лучше, чем здесь, в четырех стенах сидеть и чахотку наживать. Но согласился, надо помогать, глядишь, и он мне поможет когда. Тут дело такое, ты – мне, я – тебе. И, смотри, как оно выходит, пригодилось уже!
Все же странное у меня предчувствие с этим Сурком, словно кто-то в ухо нашептывает: держись за него, пригрей, не отпускай от себя! Зачем? – Я и сам пока не знаю, но чуйке верю, не раз она меня выручала.
Ага, вот и пупкарь подошел, в глазок заглянул и ключами загремел.
– Позвонить надо, – сообщил я в приоткрытую дверь. Дверь раскрылась на всю возможную ширину, которую позволяет толстая цепь, приваренная сверху. Это чтобы, значит, из хаты по двери не пнули, и пупкаря с ног не сбили. Бывали, говорят, раньше такие прецеденты, потому двери в тюрьмах и ограничены цепями. А я еще помню времена, когда их не было. Не очень удобно, конечно, приходится боком пропихиваться на входе и выходе, но давно уже привычно.
Я вышел на продол, и пупкарь захлопнул за мной дверь. Принюхался и сразу возжелал:
– Угости, Пастор, сигареткой!
Я достал из кармана пачку «Parliament» и, не глядя, протянул менту:
– Бери всё.
Тот отказываться не стал, пачку принял и спасибо сказал. Все они любят дармовое, словно специально сюда таких набирают – жадных и продажных. А может, уже здесь такими, глядя на других, становятся. Кроме омерзения, никаких чувств у меня лично не вызывают, но приходится терпеть и подкармливать, все же польза от них немалая. Да и не свое отдаю, для этого, в числе прочего общак и предназначен – ментов4 продажных прикармливать.
До ближайшего «стакана» дошли молча. Зайдя, я протянул руку, и он вложил в нее телефон.
– Дверь прикрой и уши не грей, – негромко, но твердо сказал я, глядя прямо в глаза пупкарю.
Тот кивнул и, пуская недешевый дым дармовой сигареты, прикрыл дверь «стакана» и, видимо, специально, чтобы я слышал, шаркая ногами, пошел по продолу куда-то в сторону. «Стакан», если кто не в курсе – это такая очень маленькая камера, где можно только стоять двум – трем людям, и куда запихивают для передержки по какой-то надобности.
Я набрал по памяти номер смотрящего и прислонился к косяку двери, внимательно наблюдая за тем, чтобы мент5 не подходил близко и разговор не подслушивал. Не за то ему платят, чтобы он куму6 все разговоры сливал. Хотя сливает, конечно, что может. Поэтому и надо, чтобы не слышал. Ну, доложит он, что Пастор телефон брал, а что говорил – дескать, момента подслушать не представилось. Кум ему выговорит, но все же все понимают, кум и сам совсем не прочь из общака зачерпнуть дармового, ему тоже жить хорошо хочется.
– Слушаю тебя, Пастор, чего звонишь? Случилось чего?
– Доброго времени суток, Сергеич, – ответил я. – Да все пучком вроде у меня. Вот, хотел узнать, что нового на киче?
– Андрюха, хорош пургу гнать, я тебя сто лет знаю. Говори чего хотел, старый хрыч, – хрипло хохотнул смотрящий.
– Тут такое дело, Сергеич, – не стал я вилять (Коля Бес хоть и старый знакомец, но человек резкий, когда базар за дела идет). – Просьба к тебе есть. Надо сделать так, чтобы одного конкретного пассажира со мной на этап забили. Нужен он мне, Бес, сделай доброе дело.
– За добрыми делами в собес обращайся или в церковь, – снова хохотнул Бес, – я что тебе, Мать Тереза?
– Колян, я тебя часто прошу о чем-то? – гнул я свое.
– Да ладно, ты чего, Пастор, шуток не понимаешь? Сделаем, какой базар? Что за пассажир-то хоть, красивый, булки упругие? – вновь в трубке раздался хриплый смех. Не иначе, дунули они там неслабо, раз обычно скучного Беса на «ха-ха» пробило.
– Дурак ты старый, Колян, – это я ему ответку за «старого хрыча» кинул. – Знаешь же, что я не по этому делу, я баб люблю. А человечек этот первоход, еще неизвестно как жить будет, но я его хочу к себе приблизить. Нравится он мне, понял?
– Да понял, понял. Сделаю, если у ментов на него своих планов нет. Щас трубку Бобру передам, продиктуй ему данные на чела. У тебя, кстати, как там, общак собираешь, скопилось чего?
– Собираем, как положено, можешь гонца засылать.
– Это хорошо, ну, бывай, Пастор! Только я тебя прошу, еще хотя бы пару месяцев побудь здесь, я договорюсь! На кичу Паша Моторист заехал, ну, ты его знаешь. Долго мурыжить его не будут, там гоп-стоп обычный, я его сразу после суда в твою хату определю, он тебя подменит. Договорились?
– Лады, – буркнул я. – Давай Бобра.
Продиктовав данные Сурка Бобру (вот, блин, зоопарк собрался!), я вышел на продол и отдал телефон пупкарю, топтавшемуся невдалеке.
– Ну, чё, в хату? – спросил тот.
– Ага, к бабам в хату давай! – кивнул я.
– Ты чего, Пастор, – опешил тот. – К каким бабам? Я не могу!
Я только головой покачал – наберут дебилов без чувства юмора.
Глава 2
Родители назвали меня Андреем, по паспорту – Андрей Николаевич Пастор. Вот такая мне интересная фамилия (с ударением на первый слог) от предков по отцовской линии досталась, что и погоняло никакого не надо. Так и повелось, что иначе меня, почитай, никто из школьных, а потом и из тюремных друзей не называл. Кто не в курсе, так и думал, что погоняло, а мне какая разница? Возможно, и был кто из моих дальних предков церковного сословия, но информация об этом затерялась в веках, родословий в нашей семье вести не принято было. Одно время я и сам думал поискать, нет ли у меня среди предков кого из иностранцев (у них же там попов пасторами зовут вроде?), но никаких следов найти не сумел, да и плюнул. Нормальная такая фамилия, вроде как даже с некой претензией, не пойми, правда, на что. Но девчонкам, помню, нравилось, некоторые к себе даже примерять пытались. Только вот ничего не вышло у них, семью я так и не создал.
Жил как все в те советские времена, пока первая ласточка будущей судьбы не торкнулась в мое окошко, ха-ха. Есть у меня талант к стихам, рано, классе во втором проснувшийся, а с приходом любви первой – расцветший. И сейчас еще иногда стишки кропаю, но с годами все реже. Вот, думаю, за прозу взяться, жизнь свою описать, но пока никак подступиться не могу.
А тогда, в далеком 1979 году как раз восьмилетку я закончил. Учился я вначале даже совсем неплохо, но уже классе в седьмом стал на противоположный пол заглядываться. Пошли свидания, прогулки под ручку, поцелуйчики в подъездах и прочее по списку. Ну и заодно, как считала моя мама, связался с плохой компанией. Ну, как плохой? Обычные мы ребята были, шебутные, конечно. Винишком стали баловаться, курить – взрослыми хотелось выглядеть и крутыми в глазах наших «боевых подруг» – девочек из нашей компании.
В общем, пока я раздумывал, пойти в девятый класс или, может, в технарь поступить, судьба поставила точку в моих планах на среднее образование. Его я уже потом, на зоне получил, как и положено было в те времена всем советским гражданам. Нет, мы, конечно, и до этого гоп-стопом промышляли, деньги на винишко, да на сигареты откуда-то надо было брать. Да и в тот день, в конце июня 1979-го, все нормально прошло. Выхватил мой приятель у мужиков сумку из рук, мне кинул и, пока те думали, что делать, мы уже прыснули в разные стороны. Все как всегда. Мы уже и деньги эти прогуляли, и прошло уже с неделю, наверное, после этого, если не больше, так что и забывать стали. Но неожиданно пропал пошедший в магазин Микроб. Сейчас уже и не помню, почему так звали старшего в нашей компании, единственного совершеннолетнего пацана. Нам-то всем, в основном было тогда лет по пятнадцать – шестнадцать, не больше. А ему уже восемнадцать стукнуло, и даже самые настоящие усы у него выросли. Не то, что у нас, курам на смех. А на следующее утро менты приняли меня прямо дома, любят они с утра пораньше заявиться.
Как скоро выяснилось, встретил Микроб этих мужичков командировочных, у которых мы сумку с целыми двумястами рублями на рывок взяли (огромная сумма по тем временам для нас, пацанов). А те его и признали, и под белые рученьки в ментовку отвели. Уж не знаю, зачем Микроб меня тогда сдал, но понять могу (понять, не значит простить), что пообещали ему менты срок поменьше, он и купился по наивности. Не понимал еще того, что чистосердечное признание вину, конечно, облегчает, как и обещают менты, но срок при этом чаще всего увеличивает. Сидеть ему пришлось бы так и так, сдай он меня или нет, да и сроку больше за отказ сотрудничать со следствием ему бы точно не дали. Если кто не знает, сроки суд отвешивает за конкретное преступление, а не за то, сотрудничал ты со следствием или нет, поскольку сотрудничать никто у нас, согласно закону, не обязан, а тем более свидетельствовать против себя самого. Но менты неопытных первоходов часто на этом ловят: наобещают с три короба и довольны. Не им же в дураках потом оставаться и репутацию нехорошую на себе всю жизнь в определенных кругах нести.
В общем, посадили его тогда на общак, как совершеннолетнего, года на два с половиной, вроде или на три, уж и не помню. А мне по малолетству дали два года условно. Вроде и на свободе остался, но – судимый, уже с клеймом в биографии и на учете в детской комнате милиции. С того времени и покатилась вся моя жизнь под горку в одном единственном направлении. Так и не удалось мне переломить судьбину. И не раз потом думал я о том, что если бы мне вернуться назад, в тот самый июнь 1979 года, да всё изменить, интересно, как бы моя судьба тогда сложилась? Но кто ж мне такую возможность предоставит? Разве только в мечтах.
А вот теперь вдруг оказалось, что хотя пока и чисто теоретически, но такая возможность у меня появилась. Ох, не зря я тогда, на киче7, этого Сурка ученого пригрел, не обманула меня моя чуйка! Но обо всем по порядку.
Сурок оказался человеком интересным, в физику свою влюбленным и могущим часами о ней рассказывать. Во всем остальном он ничего не понимал, и к жизни был совершенно неприспособленным. Но благодаря мне жизнь его тюремная пошла в лайт-режиме: и жрачка вкусная есть всегда, не та баланда, которой всех остальных зеков кормили, и чаек хороший, не говоря уже о разных фруктах-овощах. Все же смотрящий за хатой имеет свои привилегии, да и положенец – мой старый знакомец, не забывал вкусненького загонять. Анаша так вообще не переводилась, а нередко и водочка. Чем не жизнь? Телевизор в хате хороший, с огромным экраном, каналов под сотню ловит, да и интернет не проблема. Не для всех, конечно, не для всех.
Сурок, ни разу до этого ничего наркотического не пробовал, а тут неожиданно на анашу подсел. А я и рад стараться, приучал. Где он еще достанет, как только не через меня? Не, за деньги можно, конечно, но откуда у физика бабки, сами подумайте? Да еще ведь и мало иметь деньги, надо знать, где взять, к кому подойти. Так, через свою новую любовь к траве со специфическим запахом, он мне душу и открыл. А в душе той секретик хранился совсем немалый, я бы даже сказал – огромный такой секретик, многомиллионный, если только не многомиллиардный, да не в деревянных, конечно. И самое главное, если физик не врет, никто, кроме нас с ним, да сеструхи его, о том знать не знает, ведать не ведает.
В общем, излагаю с его слов, типа, в современной квантовой механике есть теория, так называемая «Многомировая интерпретация», которая предполагает существование параллельных вселенных, в каждой из которых действуют одни и те же законы природы. Там, как с жаром рассказывал Сурок, все, конечно, сложнее, в теории той. Что-то связано с «наблюдателем» и «наблюдаемым», где «наблюдаемое» зависит от «наблюдателя» или как-то так, я сам ничего толком не понял, но забавно. А еще все время он говорил о какой-то «квантовой суперпозиции», это когда что-то одновременно может быть и тем и другим до тех пор, пока ты не увидишь это, зафиксировав тем самым одно из возможных состояний. Мне жутко интересно все это, честно скажу, я попытался вникнуть, все же, помнится, любил в детстве физику, но… не с моим уровнем знаний. Так, по самым верхам. В общем, все там завязано на квантах, и понять для меня это оказалось невозможным, но суть не в этом.
Суть в том, что этот самый, известный в узких кругах физик Николай Сурков, а ныне – зека Сурок, по его словам, создал единственный в мире прибор, который (опять же, с его слов) эти самые кванты то ли перемешивает как-то, то ли это вообще один квант, который везде (вот как такое возможно?), а потом выстраивает их (или его) в некую позицию, которая, типа, супер. И всё это, конечно, хрень полная, если бы не результат такого смешивания и построения. Короче, Сурок уверял, что все другие ученые – дураки, кроме него, понятно. Нет, – внушал он мне, обкурившись, – никакого множества квантовых миров, мультивселенных и прочих ученых придумок. Есть только одна единственная линия реальности, и прибор, который он создал, может отправить человека в его собственное прошлое, самое настоящее. Никуда, кроме собственного прошлого, как выяснил Сурок, человек отправиться не может в принципе.
– Понимаешь, Пастор, – горячо шептал он мне, – на самом деле ничего нет, все вокруг – это лишь видимость и фантомы сознания. Правы индуисты и буддисты со своей майей, хотя тоже не понимают в этом ничего, всё на религию ссылаются. Нет никакого общего прошлого, это лишь помрачение ума. Но у каждого есть свое прошлое, которое тоже, конечно, фантазия и на самом деле не существует, но туда я могу тебя отправить.
– Куда туда, – не понимал я, – если ничего не существует?
– А-а-а! – махал он рукой. – Ты все равно не поймешь. Пусть все тебе лишь кажется, это не имеет никакого значения, если ты внутри этой иллюзии, тогда иллюзия становится для тебя реальностью. И хотя ничего нигде нет, кроме твоего сознания, для тебя есть всё – весь огромный мир и вся твоя жизнь. Понял?
– Нет, – честно признавался я.
– А я о чем! – радостно хохотал Сурок, накуренный в хлам.
Бес не обманул, как только Паша Моторист, схлопотавший свой трояк, к нам в хату заехал, я ему сразу все дела сдал, а уже на следующей неделе нас с Сурком и Нечаем на этап дернули. Дело хорошее, зона – это вам не СИЗО, там жить можно, свежий воздух, то-сё. К тому же этап был на «Тройку», считай, дом мой родной, где я уже два предыдущих срока отбарабанил от звонка до звонка. Там все кореша мои, кто еще старый срок добивает, кто по новой заехал, всё знакомо и привычно, включая ментов. Я ведь на воле недолго прогулял, меньше трех месяцев, и если бы меня Коля Бес не нагрузил в осужденке, давно бы там был.
Ехать не так чтобы очень далеко, всего восемьдесят километров, не на севера отправляемся. Поэтому загрузили нас, пятнадцать рыл, в один «воронок», как килек в банку. Ладно, еще «воронок» новый попался, они пошире и с вентиляцией. Пока ехали, Сурок меня все про зону расспрашивал. А что там рассказывать? Зона – она и есть зона: кенты, менты, понты и ты. Вот и вся жизнь. Сейчас режим, конечно, закрутили, не то что в благословенные 90-е было!
Тогда, помню, заехал я в 93-м и охренел, как все с советских времен переменилось. Эх, хорошее было времечко, менты тогда растерянные были, не знали, что делать и что дальше будет. А всякие свободолюбивые организации требовали, чтобы зекам, нам, то есть, в режиме послабление было. Мол, в нечеловеческих условиях люди сидят! Это они, конечно, загнули, но нам-то что? Мы только рады были. Ходили тогда по зоне в вольной одежде, все локалки пооткрывали, а некоторые и снесли – гуляй, где хочешь по всей территории, внешним забором с колючкой ограниченным. Огороды разрешили, помню, а мужики и рады: по весне за бараками гряды раскопали, картошечку посадили, огурчики, помидорки, лучок там, перчик – всё свеженькое. Красота, витамины!
В ленинских комнатах бывших, где по баракам телевизоры стояли, по местному каналу круглые сутки тогда порнуху крутили, я аж офигел помню, когда заехал, потом привык. Менты часто заглядывали порно позырить, а нам не жалко, пусть смотрят, бедолаги.
Стричь налысо тоже перестали тогда, все ходили с теми прическами, какие нравятся, а кто и с бородами. Да еще и бирки нагрудные отменили, вместо них карточки с фото в кармане носить было нужно. Только кто их носил! Менты встретят: покажи, мол, свою карточку! А ты ему: извиняй, начальник, в отряде забыл. И что он сделает? Говорю же, они растерянные все тогда были, а жили на своей воле хуже, чем зеки на зоне. Завидовали нам даже, ей Богу, не вру!
Как сейчас помню, я тогда в ЛПУ8 сидел. Их только делать начали по зонам тогда, всё экспериментировали. Они именно так в то время назывались: «Локально-профилактический участок». Туда не за нарушения помещали, а просто так – тех, кто, по мнению Администрации колонии, негативно влиял на остальных зеков. Я тогда только из БУРа вышел, и не успели мы встречу отметить, только по первой выпили, а за мной менты: мол, собирай, Пастор, шмотки по новой. А в этом самом ЛПУ у нас тогда классно было, не знаю, как на других зонах, говорю за то, что сам видел. Ну, правда, за еще одним забором, так, привыкать, что ли? Забором больше, забором меньше. Выделили тогда какое-то здание у нас под это дело, как распоряжение из Москвы пришло. Жили мы там в комнатах по 3 – 5 человек. Внутри ничего не запиралось, и выход во внутренний дворик всегда открыт был. Жили свободно, менты к нам почти не заглядывали – так, за решеткой у входа сидели, что коридор от входа перегораживал. Кто там был за решеткой, они или мы – непонятно, но по факту у нас свободнее было. Поскольку люди туда попадали в основном авторитетные, то всего нам с общака загоняли по первому классу. Повара тоже для нас отдельно вкусно готовили, но мы даже к еде этой не притрагивались, вольных харчей с избытком хватало. В туалете у нас там огромная щель в полу была за рядом унитазов, а там крысы жили, здоровые, отожравшиеся! Так, мы туда бачки с едой из столовой опоражнивали. Крысы счастливы были, даже нам крысят своих в зубах выносили посмотреть, доверяли. А нам по приколу – пусть живут, тоже божьи твари. Ни подъемов, ни отбоев в ЛПУ у нас тогда не было, ложились когда хотели, вставали – тоже, когда хотели. Ни хрена вообще не делали, дурью маялись, видак смотрели, травку покуривали – нам ее постоянно загоняли. Я книги любил всегда, читал целыми днями. Лето тогда было, так мы любили загорать во дворике, где после обеда и до заката всегда солнце было.
Помню, лежим мы на траве во дворе в одних трусах, солнечные ванны принимаем, витамин D телом свои потребляем, чаек попиваем, курим, болтаем, магнитофон рядом блятняк крутит. Чем не житуха, а? И выходит мент на крылечко, что на смену заступил, фуражку снял, пот со лба рукой вытер, посмотрел на нас и говорит так, знаете, с выражением:
– За…сь зеки живут!
И столько тоски и зависти в его словах и в его глазах было, как сейчас эта рожа перед глазами стоит. Ну а что, зарплату тогда по нескольку месяцев не платили, да и что там за зарплата у них была? – Смех один, всю инфляция съедала. Утром придешь в магазин – хлеб стоит триста рублей, а уже вечером он же – пятьсот. А в зону братва с воли фурами каждую неделю общак загоняла. Братва-то тогда на воле хорошо жила, мы и в столовую ходили редко. Мужички, конечно, в столовой питались, но и с общака в столовую постоянно подгоны были, так что и там суп с мясом был всегда. А у мента этого дома жена со спиногрызами жрать просят, а где он возьмет? Вот и завидовал нам, по-настоящему завидовал, без балды. У нас-то, в отличие от него все было класс, забот никаких! Вот и куда им деваться, бедолгам, было? Только за счет нас, считай, и жили, все без проблем с воли несли, только плати.
Режима, считай, в то время не было почти совсем никакого. Я, помню, не всегда и на поверку выходил. Спишь, к примеру, в бараке – пьяный или обкуренный, а то и просто вставать лень. Ну, крикнет кто-то за тебя —«здесь», мол – и порядок. Отбоя как такового в нерабочих бараках совсем не было. Сутками напролет – музыка из десятков магнитофонов: кто в карты шпилит, кто бухает, кто песни орет под гитару. Дым стоит коромыслом и в прямом, и в переносном смысле. Менты среди ночи с обходом зайдут, закурить стрельнут, да обратно к себе в дежурку, завидовать нам. Посылки – сколько хочешь и когда хочешь, свиданки – каждый месяц, было бы кому ездить. У кого бабки были, так проституток даже заказывали, их менты как родственниц оформляли за договорную плату – и на личное свидание в отдельной комнате, пожалуйста. И всем хорошо, поскольку менты со всего этого свой барыш имели постоянный.
Жаль, где-то после 96-го государство стало потихоньку очухиваться, гайки стали постепенно закручивать, а в нулевых, считай, совсем эта вольница прекратилась. Зона стала опять на зону похожа. Даже огородики мужикам запретили. Не совсем так, конечно, как при комуняках стало, но уже далеко и не вольница девяностых. Зато сейчас молодняк слушает старых сидельцев, как оно все тогда было и вздыхает с завистью. Только я вот что скажу, и тогда все сидели по-разному, и сейчас тоже все по-разному сидят. Кто как устроиться сумеет, от тебя самого многое зависит, как себя поставишь. Но и от обстоятельств, конечно, но обстоятельства-то у всех одни, да только все ведут себя в этих обстоятельствах по-разному. Вот, любят в фильмах да книгах, про законы тюремные писать, типа: не верь, не бойся, не проси. А я скажу, что херня это всё, не было никогда таких законов на тюрьме, это все писатели придумали.
Как без веры жить, как никому не верить? Чушь это все, верить надо, только смотря кому и когда, вот тут надо разбираться, это правда. А без веры никак нельзя, что это за жизнь совсем без веры?
А что значит «не бойся»? Ну, назови ты это не боязнью, а опасением, суть от слова не меняется. Поэтому опасаться надо всегда и много чего, а чего и прямо бояться следует. Если ты, конечно, не отмороженный на всю голову. Другое дело, что, опять же, надо знать, когда отступить, а когда стоит страх свой перебороть и зубы показать. Это целая наука, что приходит с опытом.
А про «не проси» так вообще смешно. Как не просить, если все у всех постоянно чего-то просят? Тут схема как везде: ты – мне, я – тебе. Сегодня ты ко мне пришел, чайку попросил, я тебе отсыпал, а завтра я к тебе с просьбой обращусь. Жизнь, она везде одинаковая, а на зоне такие же люди живут, не какие-то с Марса засланные иноагенты, а самые обычные.
Да, конечно, как и в любом обществе есть здесь свои законы, «понятиями» называются. Так ведь это тоже надо понимать, что не человек для «понятий», а «понятия» для человека сделаны. Не для того они, чтобы зекам самим себе жизнь усложнить, а для того, чтобы, наоборот, облегчить. Поэтому не слушайте вы всяких писак и киношников, они знать не знают, о чем чешут. Жути на население нагоняют вообще с нуля, ни с чего. Хотя это, может, и правильно: чтобы боялись закон преступать. Там, мол, очень страшные зеки сидят, которые только и думают, как о твоих красивых булках, чтобы девчонку из тебя сделать! А-ха-ха-ха!
Не, конечно, где-то на малолетке и может такой беспредел процветать, но на то ведь они и малолетки! Про подростковую жестокость книги психологи пишут. И, конечно, если таких придурков в камеру набить, то они друг перед другом выделываясь, что хошь учудить могут. Но на взрослой зоне и люди взрослые сидят, там тебя никто по беспределу не опустит, на то понятия и существуют, чтобы беспредел пресекать! Потому девяносто процентов населения петушатника, как правило – с малолетки такими пришли. Кстати, там порой и те, кого опустили, и те, кто по беспределу опустил, а потом по понятиям на взросляке ответил. Да, за беспредел приходится отвечать, на то в зоне и смотрящие поставлены, и блаткомитет, что при них.
Впрочем, вам все эти знания, Бог даст, не пригодятся, но для общего кругозора пусть будут. Знания они никогда лишними не бывают. Знание – сила, помню, при красных журнал с таким названием выходил, я его выписывал и всегда с интересом читал. Не в курсе, есть ли он сегодня, сейчас все эти журналы интернет заменил, википедии всякие.
В общем, так, за базарами и воспоминаниями мы и доехали. За забором нас приняли местные менты под роспись, отвели в баню, как положено, а потом в карантин. В особую камеру, значит, посадили всех на несколько дней: пока с нами разберутся и по отрядам распределят. Только мы шмотье по шконкам побросали, как уже несут нам подгон с общего: чай там, сигареты, всё как положено. Вот на это тоже, кстати, общак собирается, если кто не знал. Он много куда идет: и на больничку грев, и в ШИЗО, и в БУР (ПКТ по-современному – «помещение камерного типа», тюрьма в тюрьме, так сказать). Но и этапы подогревают тоже – мало ли, может, бродяги в СИЗО поиздержались?
А там и нам с Нечаем грев от кентов передали. В зоне же сразу известно, кто заехал, и кентов старых принято греть. Развернул я дачку, а там и сальцо с хлебушком и чесночком, и колбаска, опять же, сигареты мои любимые, ну и чай – куда без него? Тоже правильно, зачем общак дербанить, если у тебя свое есть? Общак для тех, кто на голяке сидит. А у нас же с Нечаем и Сурком уже, считай, семейка образовалась, так мы сразу и перекусили. Вот тоже понятие местное – «семейка», это когда несколько человек, считай, объединяются и на один карман живут, и друг другу семейники помогают. Семейкой всегда легче прожить, чем единоличником. То одному посылку загонят, то другой где что надыбыет, глядишь, чего-то вкусненькое, собравшись вечерком, пожевать можно. Ну и если влипнет один, к примеру, в стиры проиграется, то семейники долг отдать помогут и по-дружески по ушам надают, чтобы не лез туда, где тебе ничего не светит. Если ты не игровой, что все правила и приемчики сечет сходу, то лучше и близко к картам не приближаться. Я вот, например, не играл никогда и далее не собираюсь. И никому не советую.
Нечая я в наши с Сурком беседы не посвящал. Нечай чел хоть и неплохой, правильный, и прошли мы с ним много чего, но в такие вещи никого посвящать нельзя. И так слишком много народу знает, целых трое: я, Сурок и сеструха его Натаха. Но Сурок зуб дает, что сестра в этом деле – могила, она тоже у него по ученой части, понимает значимость открытия. За такое, скорее всего, государство тебя в клетку определит, пусть и золотую.
Если короче, то сделал, таки, Сурок приборчик, который тебя может в прошлое перекинуть. Ну, тебя – не тебя, может, матрицу твою или чего там, я так не особо и понял. Но попадешь ты в свое прошлое, в собственное тело. Правда, пока ограничение имеется – одни сутки, потом тебя обратно выбрасывает, но ведь и за сутки жизнь свою изменить можно! Особенно если знать, где, когда и какое необходимое воздействие применить надо.
И я полон решимости жизнь свою поменять на более лучшую долю. А для этого осталось главное сделать: приборчик тот с воли сюда загнать. У сеструхи он спрятан. Но это уж я сделать смогу.
Глава 3
Жизнь вообще вещь чрезвычайно странная. С одной стороны, столько всего за мои шестьдесят годиков было, половину и не упомнишь! А с другой стороны, вроде только вчера молодым был, как так получилось, что я уже почти старик? Самое противное в старости не то, что сил нет, здоровье плохое, а вот именно то, что ты очень хорошо помнишь себя молодым, и кажется, что это было еще вчера.
Помню, мне лет десять или двенадцать было, отец с матерью говорили о каком-то их знакомом, что он разбился в аварии насмерть. И всё жалели его – такой молодой, всего тридцать три года! А я, малец, удивлялся тогда про себя: разве ж тридцать три года – это молодой? Это же уже старик, жизнь считай, кончена, что там можно в тридцать три? Для меня тогда те, кому не то что за тридцать, а даже те, кому за двадцать глубокими стариками выглядели, у которых и интереса в жизни уже никакого быть не может.
А когда сам тридцатник разменял, а потом и до возраста Христа добрался, то с удивлением обнаружил, что я вполне себе молод и полон сил, а вся жизнь еще впереди. Тогда думал, вот, до полтинника бы дожить, а там можно и умирать, что за жизнь после пятидесяти?
Но и в пятьдесят оказалось, что я еще совсем не стар, хотя уже несколько и не суперстар. Все системы работают нормально, да и чувствую я себя еще достаточно молодым, уж стариком-то точно себя не ощущаю. И вот исполнилось шестьдесят лет, и что вы думаете? – Да все то же самое! Да, уставать стал чаще, да – спина побаливает, то-сё, но разве я уже старик? Нет, конечно, да, дай мне сейчас молодуху, и я не хуже, чем в былые восемнадцать исполню на ней, что полагается! Что и доказывал не раз, пока менты меня вновь не поймали. Разве старики такие бывают?
Но это я так, конечно, хорохорюсь. Эх, на что свою жизнь потратил? Не то чтобы обидно, нет, я не жалею, глупо жалеть попусту о том, чего не исправить. Но ведь все могло совсем иначе сложиться! Или не могло? Об этом мы с Сурком ученым тоже беседы вели часто. Он придерживался мнения, что хотя в принципе ничего не предопределено, но есть в жизни каждого человека некие ключевые точки – моменты, когда ты свое будущее как бы выбираешь из как минимум, двух вариантов, и от выбора этого оно, будущее твое, зависит. А я сомневался. Вот, скажем, если бы я тогда, в июне семьдесят девятого просто остался дома и с пацанами не пошел, сильно бы это изменило мою дальнейшую жизнь? Может, да, а может, и нет. Просто не в этот раз, так в другой попался бы. Это мне нужно было не просто в тот день не пойти, а всю жизнь свою поменять, на тот момент в одном русле текущую, от компании этой отрываться, и больше с ними вообще не тусоваться. С другой стороны, вовсе не все парни из нашей компании сели, многие даже на учете у ментов никогда не были. Сложно все, но теперь, если всё срастется, то можно будет попробовать. Терять-то мне нечего.
Главное, не дать Сурку первым воспользоваться шансом, он постоянно мечтает все у себя исправить, чтобы мента того не убивать и сейчас не сидеть. И если он это раньше меня сделает, то мы ведь тогда с ним не встретимся, и я даже не вспомню о нем и его приборе. Парадокс? – Еще какой! Как может быть так, что не будет того, что уже есть?
Пока же я согласился помочь ему загнать прибор на зону, а там посмотрим. Нет, Сурок, ты, конечно, молодец и без тебя ничего бы не было, но и я собственный шанс упускать точно не собираюсь. И если для этого потребуется тебя подвинуть, то я сомневаться не буду. Способы есть разные, совсем необязательно убивать, чтобы заставить человека язык в жопе держать и от планов своих отказаться. Но это так, на крайняк.
Наталья Александровна Нелидова (в девичестве – Суркова), солидно смотрящаяся женщина «где-то за сорок» (а если точнее, то без года пятьдесят), учёная физик, мать и бабушка, а также – сестра своего старшего брата, великого, как она не без основания считала, ученого, вышла из дверей адвокатской конторы и в растерянности остановилась. Похоже, всё, все шансы испробованы. Дорогой адвокат сумел провести дело ее брата как непредумышленное убийство, поэтому максимальный срок Коле не дали. Но и десять лет – это очень много, учитывая, что Коле уже пятьдесят четыре. Кассационная жалоба результатов не дала, приговор суда оставили в силе, и Коля уже отправлен в колонию. Адвокат пообещал написать жалобу в Верховный суд, но дал понять, что это вряд ли что изменит.
Наталья вздохнула: вот дурак Коля, зачем, зачем он это сделал? Она знала, он ей говорил, что работает над чем-то важным, что, по его словам, перевернет современную науку, да и весь мир заодно. Что-то связанное со временем в квантовой механике. Она в его работу не лезла, своих дел было полно, сейчас они все на оборонку трудились, свободного времени даже на внука не хватало. И в тот день, когда брат прибежал к ней, весь взъерошенный, с сумасшедшими глазами и сказал, что убил куратора от ФСБ, у нее чуть сердечный приступ не случился. Он тогда сунул ей прибор в сумке, сказал, что это его гениальное изобретение, и она должна его спрятать так, чтобы никто не нашел, даже если у нее дома будет обыск, чего он не исключал. Наталья взяла, конечно, а к кому брату еще обращаться, если не к ней? За свою жизнь он так и не женился, шутил, что женат на науке, детей у него не было, жил один. Сказал тогда, что не виноват, что эфэсбэшник предатель и хотел изобретение на Запад продать, а когда он отказался, то угрожал оружием. Коле случайно удалось завладеть пистолетом, по его словам, он даже не целился, просто выстрелил в сторону куратора, хотел испугать. Но выстрел оказался роковым – прямо в глаз пуля попала, тот умер на месте.
А на суде история вывернулась совершенно иначе: как оказалось, прибор, который делал Коля, у него не получился, расчеты оказались неверными. А на свидании Коля шептал ей, что так надо, пусть все так и думают, зато его прибор искать не будут. А с его помощью он все исправит. Наталья и верила брату и не верила одновременно. Он всегда был сильно повернут на науке, она, конечно, знала, что он гений, но вот как все получилось: он в тюрьме на целых десять лет. Доживет ли она до его освобождения? Доживет ли он сам, все же уже немолодые они? И сердце у Коли больное, и гипертония. А прибор, что прибор? Он так и лежит, спрятанный в разном хламе на чердаке их с мужем дачи. Никто его не искал, никому он не нужен. Да и что там тот прибор может? В чудеса Наталья Александровна, стоящая на исключительно научных позициях, не верила. Коля, конечно, гений, но…
– Здравствуйте!
Она вздрогнула от неожиданности и подняла глаза. Перед ней стоял мужчина среднего возраста, какой-то весь блеклый, не запоминающийся. Он курил сигарету, и Наталье бросились в глаза наколки на пальцах его руки: кажется, перстни какие-то. Она оглянулась, вокруг было много людей, а недалеко стояла машина полиции. Это ее немного успокоило.
– Здравствуйте, – осторожно ответила она, как-то сразу догадавшись, что это вестник от Коли. Он ведь сейчас там, где такие… вот такие… с наколками на руках. А это значит… это значит, что она не должна бояться этих людей, ведь ее Коля, по сути, теперь один из них, как это ни ужасно осознавать.
– Вы Наталья Александровна Нелидова, сестра Николая Суркова? – как-то совершенно безразлично поинтересовался мужчина и выпустил в сторону струю сизого дыма.
– Да, это я. А вы кто такой?
– У меня для вас весточка от вашего брата. Давайте отойдем, не посреди же тротуара стоять.
– А…, куда? – растерялась женщина, машинально отметив про себя, что выражается мужчина вполне культурно.
Тот пожал плечами, потом оглянулся и кивнул на скамейку неподалеку под деревьями:
– Да, давайте хоть вот там присядем.
Они прошли немного и уселись в теньке под тополями на свободную скамейку. Мужчина достал из кармана телефон и вручную набрал номер. Она с удивлением наблюдала за ним, не зная, чего ожидать. Он говорил о весточке, и она почему-то поняла это так, что он передаст ей письмо от брата.
Но вот звонок, видимо, прошел, мужчине с наколками на пальцах ответили, и он сказал в трубку:
– Доброго времени суток, Пастор! Сестра рядом со мной, дай трубку физику.
«Пастор»? – успела удивиться Наталья Александровна. – «Он что, в церковь звонит»? И тут мужчина передал ей трубку. Она машинально взяла и машинально же произнесла:
– Алё.
– Наташа, это я, Коля, – услышала она с рождения знакомый голос. – У меня все хорошо, я здесь неплохо устроился. Как у тебя дела?
И она, сначала не веря, а потом, зачем-то заплакав, сквозь слезы стала рассказывать брату о своем разговоре с адвокатом, перебивая рассказ вопросами о том, как он там, здоров ли, есть ли лекарства для сердца и от давления, не надо ли чего привезти. Но Коля, выслушав ее причитания, ответил:
– Наташа, послушай меня, сейчас это все неважно, я тебе потом еще позвоню, поговорим. Или напишу. Сейчас послушай главное: прямо сейчас поезжай с этим человеком туда, где ты положила то, что я тебя просил сохранить, и отдай ему. Он передаст это сюда, мне, он знает как. Наташенька, это то, что мне сейчас больше всего нужно, просто поверь и отдай прибор этому человеку. Прошу тебя, не беспокойся и не сомневайся, просто сделай то, о чем я тебя прошу. И тогда все будет хорошо, верь мне, сестренка.
И она поверила, а что ей оставалось делать?
Я недоверчиво рассматривал обычный с виду телефон, а если точнее – смартфон «Honor», лежавший сейчас передо мной на тумбочке. Это и есть устройство для путешествия в прошлое, та самая пресловутая машина времени? Как-то несолидно смотрится. А, с другой стороны, чего я ожидал, что в зону загонят трейлер с аппаратурой? Современная машина времени, наверное, так и должна выглядеть.
– Ты мне вот что скажи, Коля, – с некоторых пор я перестал именовать физика Сурком в личных беседах, что подразумевало некую близость между нами, возникшую от обладания общей тайной. – Я очень много прочитал книг, в том числе – книг фантастических, в которых какие только способы путешествия во времени ни использованы авторами. Я вообще стал в тюрьме заядлым читателем, хотя и с детства читать любил. Но, скажем, такой простой вопрос. Вот, ты сейчас включишь этот прибор, и каким-то образом, пусть даже лишь матрица твоего сознания, перенесешься в прошлое, изменится ли настоящее в том случае, если ты изменишь прошлое? По идее должно измениться, в этом же и есть суть путешествий во времени, разве не так? Ты ведь хочешь отправиться в прошлое, чтобы изменить настоящее, которое там для тебя будет будущим, так? Подожди, не бухти, – пресек я его попытку перебить меня.
– Но если это так и ты изменишь свое прошлое, то изменится и это настоящее. Не получится ли тогда, что ты здесь мгновенно исчезнешь вместе со своим прибором, а я сразу о тебе забуду, поскольку наша встреча в прошлом не состоялась? Но ведь она уже состоялась, куда денется то, что уже произошло? Только давай сейчас без зауми, простыми словами мне объясни, можешь?
Сурок задумался на минутку, а потом разразился целой речью. Отряд был на работе, в нашем отсеке, кроме нас, никого не было, никто не мог нас подслушать. Никто ничего вообще не знал, я запретил Сурку говорить об этом хоть кому-то, и сам молчал, даже Нечаю, самому близкому своему кенту, ничего не сказал. Как гласит поговорка, популярная в наших местах: сегодня кент, а завтра, может, мент – кто его знает? Глупо, конечно, думать так о Нечае, но ведь и дело я непростое затеял. И посвящать ли в него Нечая, я сомневался, но склонялся к тому, что все же не стоит. По крайней мере, пока.
–Понимаешь, Андрей, – в разговорах между нами Сурок тоже обращался ко мне исключительно по имени. – Совсем без зауми, наверное, не получится, но я постараюсь. Вопрос о возможности путешествий во времени рассматривается же не только фантастами, это вполне себе научная задача, и многие физики с мировыми именами пытались и пытаются эту задачу решить. Есть много разных теорий, я тебе это уже, кажется, говорил. Но большинство исследователей приходят к выводу, что даже в том случае, если путешествия во времени теоретически и возможны, то изменение будущего все же невозможно. Я не буду особо объяснять, ты все равно не поймешь, поскольку тут задействованы специальная и общая теория относительности Эйнштейна, в частности, геометрии пространства-времени. А также мировые линии в виде потенциально возможных замкнутых времениподобных кривых, которые теоретически же составляют замкнутые петли в пространстве-времени, так называемое «пространство-время Геделя». Тут и «червоточины» – гипотетическое искривленное пространство-время, допускаемое уравнениями поля Эйнштейна общей теории относительности. Здесь и «Цилиндр Типлера» – теория, допускающая путешествия во времени только при наличии отрицательной энергии9, да и много вообще всякого по этой теме существует. Например, принцип самосогласованности Новикова утверждает, что любые действия, предпринятые путешественником во времени с самого начала были частью истории, и поэтому путешественник во времени не может каким-либо образом изменить историю.
– Вот и объясни это, но чтобы понятно для меня, – остановил я его заумное словоизвержение.
– Понимаешь, – тут же кивнул тот, – академик Игорь Дмитриевич Новиков, выдающийся советский астрофизик и космолог, еще в середине восьмидесятых годов прошлого века предположил, что действия потенциального путешественника во времени могут быть причиной событий в их собственном прошлом.
– Это как? – не понял я.
– Э-э-э, – Сурок задумался. – Ну, смотри. Тут суть в том, что если и возможно какое-то воздействие путешественником из будущего, то только в том плане, что оно будет являться причиной того, что уже произошло.
Мы замолчали, Сурок, возможно, обдумывая, как лучше мне объяснить, а я – потому что понял то, что он сказал и теперь пытался это осознать. Ведь понять и осознать – это разные вещи.
– То есть, – наконец нарушил молчание я. – То, что мы сейчас здесь сидим и смотрим на этот твой прибор, может быть следствием того, что кто-то из нас отправился в прошлое и попытался его изменить? И вот это как раз результат такого изменения и есть?
– Да, – кивнул Сурок – Это так называемая «временная петля», когда путешественник во времени может изменить прошлое только таким образом, что это изменение будет соответствовать тому, что уже произошло в настоящем. Верно и обратное: то, что происходит в настоящем, может быть инициировано действиями путешественника во времени в прошлом.
– Но тогда, – задумчиво констатировал я, – мы ничего не сможем изменить просто потому, что если бы могли, то мы оба сейчас не сидели здесь, а у нас была бы совсем другая жизнь. А если мы изменили прошлое так, что оба оказались сейчас здесь…
– То это означает, что ни хрена у нас не вышло, – подытожил Сурок.
Тут уже замолчали мы оба, задумчиво разглядывая лежащий перед нами прибор. Наконец, я вздохнул и сказал:
– Ладно, продолжай.
– Есть еще теория многомирности, часто используемая фантастами, но это тоже вполне научная теория, если рассматривать такую возможность с точки зрения квантовой механики, – продолжил Сурок. – Суть ее в том, что любое воздействие на прошлое способно его изменить только в новом мире, возникшем в результате такого воздействия. К примеру, я могу сейчас отправиться в прошлое, изменить его для себя, но это не окажет никакого воздействия на ту реальность, в которой мы с тобой находимся, а просто создаст новый мир или, если угодно, еще одну реальность, отличную от уже существующей. И в этой новой реальности мы с тобой не встретимся, поскольку там я в тюрьму не сяду. Однако в этой реальности все останется по-прежнему. У этих двух реальностей будет общее прошлое до момента моего воздействия, а дальше они разойдутся. Чисто теоретически существование множества реальностей не противоречит некоторым трактовкам современной квантовой физики и квантовой механики.
Я молчал, понимая, что это еще не все, что он хочет мне сказать, поскольку помнил, что он говорил раньше.
– Однако, согласно моим вычислениям, возможность изменения собственного прошлого без расхождения миров существует, если только твоя жизнь не будет затрагивать центральных мировых линий. Ну, то есть, если это изменение никак не затронет общих тенденций развития мировой истории. Сам посуди, что значит жизнь какого-то простого человека, если он, скажем, никогда не станет тем, чья жизнь способна хоть как-то значимо повлиять на будущее всего человечества? Такой человечек проживает свою жизнь и умирает, не оставляя за собой никакого следа, либо тот небольшой след, который все же остается, постепенно развеивается, не неся глобальных последствий. И даже если бы этого человека не было вообще, ровно ничего бы в мире не изменилось. Но я пошел в своих рассуждениях дальше: даже в том случае, если предположить, что его потомки, например, при обычном течении событий могли бы что-то изменить в мире будущего, но в результате вмешательства ничего не сделают, то просто это сделает кто-то другой, сохраняя, таким образом, мировые линии в неприкосновенности. К примеру, если бы, скажем, кто-то вернулся в прошлое и застрелил Адольфа Шикльгрубера еще в детстве, то просто «Гитлером» стал бы какой-то другой человек, поскольку претендентов на эту роль в Германии того времени было более чем достаточно. Роль личности в истории преувеличена в том смысле, что кандидатов на такую личность всегда очень много и если ситуация потребует, то им станет не один, так другой. И таким образом, как бы мы ни меняли свое прошлое, это никак не может изменить общемирового будущего, по крайней мере, в части каких-то более-менее значимых событий. Этого и не понимали в Конторе, ухватившись за мое изобретение. Поэтому и куратор, когда это понял, а он был совсем неглупый человек, и образование имел подходящее, решил кинуть свое начальство. Ведь даже если нельзя изменить мировую историю, то свою-то собственную жизнь изменить все же вполне возможно! Представляешь, сколько на этом можно будет заработать?
– То есть, как ты и сказал: все дураки, кроме тебя? – улыбнулся я.
– Да, – скромно признал Сурок и тоже улыбнулся.
– Ну а если дураком окажешься все же ты?
– Тогда у нас просто ничего не выйдет, и мы продолжим сидеть дальше. Но я точно не дурак!
Самоуверенности Сурку было не занимать. Я посмотрел на него и покачал головой:
– Не могу поверить, что никто до тебя до такого не додумался.
– Что ты! – замахал руками Сурок. – Конечно, все это сто раз обсуждалось и излагалось. Вот только реальную машину времени кроме меня никто так пока сделать и не смог. Ну, насколько это мне известно, – добавил он подумав. – Чисто теоретически, может, она уже давно сделана, и спокойно себе кто-то свое прошлое втихаря уже давно меняет. А поскольку этого никто не замечает и на общемировых линиях это не сказывается, то все шито-крыто.
– Подожди, – вспомнил я, – ты же говорил, что пребывание в прошлом ограничивается одними сутками?
– Если точнее, то двадцатью тремя часами и тридцатью тремя минутами. Если воздействие оказалось недостаточным для изменения будущего, то ты просто возвращаешься назад.
– А если достаточным? – вкрадчиво спросил я.
– Думаешь, я не знаю, о чем ты думаешь, Андрей? – улыбнулся Сурок. – Ты думаешь, вот, сейчас я смотаюсь в прошлое, там изменю свою историю, и как только я ее изменю, то здесь мое тело исчезнет вместе с прибором, а ты тут же забудешь, что вообще когда-то слышал обо мне. Так?
– А разве не так, Николай? – ответно улыбнулся я, только гораздо более хищно.
– Не совсем так. Я, конечно, здесь исчезну (а, скорее, умру), но при этом, во-первых, ни я не забуду ничего из того, что однажды со мной произошло, и о нашем с тобой знакомстве, ни ты ничего не забудешь. Это уже произошло с нами, и мы будем помнить об этом исправленном варианте нашей жизни всегда. Хотя бы для того, чтобы, забыв, не наступить на те же грабли снова. А, во-вторых, прибор останется здесь, с тобой, даже если исчезну я. Он как бы скопируется или, возможно, удвоится, я не знаю, но, поскольку именно он является причиной изменений, он исчезнуть не может. Поскольку, если исчезнет причина изменений, то не будет и изменений. У всего должна быть причина, здесь Новиков был прав, причинно-следственная связь не может быть нарушена. Я не могу тебе более простым языком объяснить это, но я уверен, что ты уже понял меня. Как выяснилось, ты человек очень даже умный, тебе просто образования не хватает, но при этом суть ты схватываешь очень быстро.
– А иначе здесь не выжить, – пробормотал я, глядя прямо в глаза Сурку. Я понял, что он сказал, оставалось только выяснить, правда это или нет. И для выяснения существует всего один способ. Физик взгляд не отводил, и взгляд его казался мне честным. Может, только казался?
– Давай сделаем так, Андрей, – он положил руку на телефон. – Первым в прошлое отправишься ты.
Я покивал, собственно, других вариантов мной и не предусматривалось. Я в любом случае не позволил бы ему улизнуть первым. Оставалось понять, может ли он, пока меня нет, что-то изменить здесь в этой своей машине времени, чтобы я, скажем, застрял в своем прошлом, даже если изменить его не удастся или, например, просто исчез в каком-нибудь безвременье. Сурок, словно услышав мои мысли, быстро добавил:
– Андрей, неужели ты не понял, что в прошлое отправится лишь копия твоей матрицы, а ты сам останешься здесь? И если необходимое воздействие не будет совершено, то копия просто самоуничтожится. На тебе это вообще никак не скажется. Потом, когда прибор вновь станет доступным для нового путешествия, нужно будет подождать, чтобы понять последствия. Если необходимое воздействие будет произведено, то ты, скорее всего, в течение очень короткого времени уснешь и не проснешься. Таким образом, разрешится парадокс измененного будущего. Если же ты продолжишь существовать здесь, то надо будет пробовать еще раз, поскольку, очевидно, что изменить жизнь не получилось. Я вообще думаю, что нащупать необходимую точку бифуркации, то есть, в данном случае – момент, когда воздействие окажется достаточным, с первого раза будет не так просто. Как я тебе раньше говорил, в жизни человека, как мне кажется, есть некие «точки», которые определяют, куда повернет вектор твоей жизни. И в этих точках ничего не предопределено, но, наоборот, имеется выбор как минимум из двух вариантов. Но вот как нащупать эти «точки»? Для этого, скорее всего, понадобиться несколько «нырков» в прошлое. Хотя, конечно, есть вероятность, что повезет с первого раза, мы ведь подсознательно чувствуем, в какие именно моменты наша жизнь перевела стрелки на своем пути. Однако слишком рассчитывать на такую удачу я бы не стал.
Врет или не врет? Я склонен был считать, что не врет, хотя, скорее всего, говорит не все. Вопрос: насколько это «не все» опасно для меня? С другой стороны, а что я теряю? Мне шестьдесят, возраст, конечно, некритический, если здоровье не подведет, лет двадцать еще вполне прожить могу, я мужчина крепкий. Вот только стоит ли жалеть эту жизнь, что я в ней кроме тюрьмы видел? Короткие периоды на воле, заполненные бесконечными пьянками? Тоже мне, ценность!
– Ладно, Сурок, – хищно взглянул я на физика, специально не назвав его по имени. – Давай проверим, какой из тебя ученый, гений ты или фуфломет.
Нечай, пригибаясь, отполз от открытого окна, завернул за угол здания и только там выпрямился. Вот, значит как, Пастор, жизнь свою поменять решил? А за кента своего самого близкого, столько лет зад твой прикрывавшего, даже не вспомнил, да? А скорее, специально не стал ничего говорить, своя шкура ближе к телу. Вот в такие моменты и проверяется, на самом деле у тебя есть кент, или все это слова пустые, ничего не стоящие. Обидно, да. Обидно! И Нечай пошел к выходу из локалки. Он не задумывался о том, как возможно то, что он услышал. Человек он был простой, неученый, и в этом, кстати, большой плюс невежества, избавляющий от сомнений. Зато он точно знал, что Пастор на всякую хрень не клюнет, ума тому не занимать, всегда был кручёный. И если он поверил, да еще так, что ото всех в тайне держит, то это значит, что дело того стоит.
«Может, еще, конечно, – подумал Нечай с надеждой, – Пастор скажет мне позже, просто не хочет трепаться раньше времени?» Он покачал головой, слишком хорошо он знал своего кента, слишком хорошо, надо подстраховаться…
Глава 4
– Назови дату, или хотя бы год, и опиши событие.
– Год 1979, город N, где-то конец июня. Событие – мы собрались нашей компанией пойти на автовокзал для того, чтобы отжать у кого-нибудь деньги. Наш выбор пал на трех мужчин средних лет. Мы должны их ограбить и, если это случится, то я получу свой первый условный срок.
Я внимательном смотрел, запоминая каждое движение, как Сурок вбивал мои данные на этом смартфоне, открыв программу, обозначенную значком, на котором змея кусала себя за хвост. Где-то я уже видел этот знак, но не мог вспомнить, что он означает.
Сурок закончил писать и сдвинул еле заметную пипочку сбоку аппарата. Сверху выдвинулся очень тонкий, чуть толще волоса, штырек или иголка, так сразу и не поймешь.
– Наколи палец на иголку, нужна твоя кровь, – спокойно сказал мой странный знакомый, но я отлично видел, как он волнуется, даже рука, держащая прибор, чуть подрагивала.
Я хотел спросить, зачем, но потом мысленно пожал плечами, решив, что смысла спрашивать нет. Что бы он ни ответил, «сдавать кровь» придется. Поэтому я спокойно протянул руку и надвил пальцем на иголку. Еле ощутимый укол, и иголка вдвинулась назад, в корпус. Красный знак змеи стал вращаться, и мы оба уставились на него, не в силах отвести взгляд.
– Что это за знак? – спросил я неожиданно охрипшим голосом.
– Уроборос, – также хрипло ответил Сурок. – Древнейший символ вечности и цикличности жизни. Сам не знаю, зачем я именно его установил на программу, тогда показалось это символичным.
Он передернул плечами, а я вспомнил это название, где-то когда-то что-то читал, но не помню, что конкретно. И в этот момент круговое вращение змея прекратилось, и цвет его сменился с красного на зеленый.
– Есть, – прошептал Сурок и, посмотрев на меня, спросил: – Готов?
– Что надо делать? – неожиданно я ощутил, как струйка холодного пота потекла по спине, и мне стало страшно.
Ничего не ответив, Сурок нажал на сенсорный экран с изображением этого самого Уробороса, и он снова сменил цвет, став белым. И в этот же момент у меня закружилась голова и в глазах потемнело. Продолжалось это не больше пары секунд, а потом прошло. Сурок, впившийся в меня глазами, жадно спросил:
– Что-то почувствовал, Пастор?
– Голова закружилась, – ответил я, вытирая ладонью пот со лба. – Так и должно быть?
Физик пожал плечами:
– Не знаю, это ведь первое испытание прибора.
– И что теперь?
– Ждем, – снова пожал плечами Сурок. – Все выяснится в течение суток. Если через двадцать четыре часа ты не умрешь, это будет значить, что необходимое воздействие не произведено и вектор твоей жизни не изменился. Тогда, выходит, ты выбрал не то время, это событие не было точкой бифуркации. А может, ты и не должен будешь умереть, просто воспоминания станут другими.
И тут вдруг меня торкнуло. Сука, как я не подумал об этом сразу, это же так очевидно! Я взял прибор и положил его в карман, потом поднял глаза на Сурка и ровным голосом спросил:
– Скажи, Николай, а почему ты сам не воспользовался прибором после того, как убил того мента?
Глаза его забегали, потом он опустил голову и признался:
– Я испугался, ведь прибор еще ни разу не на ком не был испытан. Я тогда подумал, что, может быть, все обойдется как-то, и я смогу продолжить опыты. Пойми, Андрей, я тогда был в шоке и вообще плохо соображал, что делаю. А потом меня арестовали и…
И я успокоился. Ну да, я подопытный кролик, а что это меняет? Уже ничего, остается только ждать. Может быть, это все вообще фуфло голимое, а я старый дурак, что повелся на сказку полоумного убивца. Все это ровно ничего не меняет, денек подождем, а там видно будет.
В этот момент в коридоре раздались шаги, и в отсек зашел Соболь, положенец, смотрящий за зоной. Из-за его плеча выглядывала слегка виноватая рожа Нечая. Я было удивился, а потом как-то сразу все понял. Нечай, сученыш, кореш мой лепший, видно, что-то просек или, скорее, подслушал наш разговор с Сурком. И мне стало смешно. Я встал и протянул руку смотрящему:
– Какие люди в гости к нам! Купчика заварить, Петрович?
Александр Петрович Соболев, вор в законе с погонялом «Соболь», смотрящий за положением на нашей зоне, вяло пожал мою руку и ответил:
– Можно и купчика, конечно. С хорошим человеком и чаю выпить приятно.
– Нечай, завари! – тут же озадачил я кента-предателя и представил Соболю физика.
– А это Сурок, правильный чел, первоход, старается жить по понятиям, а я за ним присматриваю.
Соболь мельком глянул на Сурка и тоже протянул ему руку. Тот даже с неким подобострастием пожал ее.
– Что-то слышал о тебе, – задержал руку Сурка в пожатии положенец. – Ты же тот ученый, который мента наглушняк завалил, верно?
– Было дело, – согласился Сурок. – Только он эфэсбэшником был.
– Да это без разницы, – ответил Соболь. – Мент он и есть мент, какие бы погоны не носил. Так уж судьба распорядилась. Верно, Пастор?
– Само собой, – солидно ответил я и добавил: – располагайся, Петрович. Сейчас Нечай все сделает. Мне как раз медок свежий подогнали, ты же любишь вроде?
– Есть такое дело, – улыбнулся Соболь, сверкнув дорогой металлокерамикой и усаживаясь рядом со мной. Это раньше воры́ золотом да рандолью во рту бликовали. Современные воры́ шагают в ногу со временем. Соболь хоть и старый каторжанин, но за прогрессом следит. Хотя не такой уж он старый, лет сорок ему, кажется. По моим сегодняшним меркам, еще совсем молодой. Эх, вот бы мне сейчас лет двадцать скинуть!
– Ну как у тебя в отряде положение? – поинтересовался Соболь.
Забыл сказать, что по выходе из карантина, Соболь со свитой встретил меня, и за угощением и разговором предложил место смотрящего во втором отряде, куда нас с Сурком поместили. Меня – потому что я в нем и сидел до этого, а Сурок по моей подсказке сам попросился на распределении у хозяина.
Я удивился тогда, вроде смотрящий в отряде был, но тут же выяснилось, что у него тубик обнаружили недавно, и теперь его на больничку переводят, в тубзону. Я подумал и согласился. Дело уже знакомое, к тому же положение смотрящего за отрядом, кроме обязанностей, предполагает и некие привилегии. Опять же, Сурка можно при себе держать, а это сейчас самое главное! Да и что там за обязанности такие? – Общак отрядный держать, решать, кого куда положить, ну и если какие вопросы возникнут у людей, решать их по мере своих возможностей.
– Все нормально, Соболь, – ответил я, – полный порядок. А что, есть какие-то предъявы ко мне?
Тут и Нечай с чайником заварным подоспел, не любил я чай в банке, как другие заваривать, да и положение позволяет. В это время Сурок уже поставил две табуретки в проходе, положил на них специальную доску, получился столик. На столике появились фаянсовые бокалы, конфеты в вазочке и пол-литровая банка с настоящим башкирским медом. Я-то мед не очень люблю, но Нечай его жрет как не в себя. Приходится даже орать на него, чтобы для таких вот случаев, так сказать, на представительские цели, оставлял хоть немного.
– Да нет, – ответил Соболь, – никаких предъяв к тебе не имеется. Я, наоборот, зашел спросить, может, помощь какая нужна?
– Ну, – закинул я удочку, – если травки малехо есть, я бы не отказался. А так, вроде всего хватает.
– Держи, – улыбнулся Соболь, доставая из кармана пачку папирос «Беломорканал», – здесь уже забитые. Как знал, что ты спросишь, только утром сегодня загнали.
– От души, Петрович, – ответно улыбнулся я, забирая пачку и краем глаза замечая, как Сурок носом заводил. Вот же подсел Сурок на анашу или, как сейчас на аглицкий манер принято говорить – марихуану! Но когда я ее впервые еще при Союзе попробовал, мы все называли ее анашой, так она для меня анашой и осталась.
– Да без базара, Пастор, – хохотнул Соболь. – Я же помню, кто у нас любитель!
– Так, может? – предложил я, кивнув на пачку.
– Не, сейчас не хочу, – отказался положенец. – Да и вообще, ты же знаешь, что я больше другое люблю.
Я кивнул, то, что Соболь плотно на герыче сидит, для меня секретом не было. А мне-то что, его личное дело, как своей жизнью распоряжаться. Но я, попробовав пару раз еще в молодости, больше к этой теме не возвращался, не мое это. Другое дело, наша родная водочка! Но и к водке в последние годы я стал относиться прохладнее, хотя мне алкоголизм вряд ли грозил. Слишком редко и недолго я бываю на воле, чтобы успеть спиться. Здесь, конечно, тоже можно хлебнуть зеленого змия, но все же нечасто и обычно, не так много. Да я, честно говоря, и на травку никогда особо не подсаживался, но то, что любил иногда пыхнуть – это правда, не скрываю. Вон, сколько уже стран в Европе легализуют марихуану, значит, большого вреда от нее быть не может. По крайней мере, для меня. Да и нутром я чувствовал, что если сравнивать, то от той же водки вреда в России несравнимо больше.
– Как знаешь, – убрал я пачку обратно в карман на глазах не отрывающего от нее взгляда Сурка. Видно, запоминает, куда я положил, если в ближайшее время кони двину. Ну, в смысле, если получится у меня там все, в прошлом.
В общем, посидели мы, побазарили о том о сем, чаю напились. Я все ждал, когда же Соболь к делу перейдет. Но он так и не перешел, видно, не очень поверил Нечаю. Да и как тут поверишь? Впрочем, может, ошибся я и не знает ничего кент мой, а потому и сказать смотрящему ничего не мог? Может и так, но я по Нечаю видел, что догадка моя, верная. Возможно отчасти, но верная. Я ж его, как облупленного знаю.
Но, несмотря ни на что, Соболь ушел, так ничего и не спросив. Лишь напоследок задержав тяжелый взгляд на физике. Явно, настропалил Нечая, чтобы тот нос по ветру держал. Ладно, с Нечаем я вопрос решу, дайте время. Если, конечно, кони к утру не двину, на что очень рассчитываю.
Конец июня 1979 года.
Как обычно, часам к одиннадцати утра мы постепенно собирались на нашем месте, на «пятаке». На улице было жарко, все же – конец июня, думаю, после того как все соберемся, махнем на речку. Не зря же я с утра плавки надел под старенькие брюки клеш! Пока подошли только Седой и Джин, и мы вяло переговаривались, еще не совсем проснувшиеся. Школа позади и теперь, пока лето, можно спать хоть до обеда!
Уже больше недели, как сдали экзамены, и все трое получили Свидетельство о восьмилетнем образовании, с Андрюхой «Седым» и Саней «Джином» мы учились в одном классе. Седой собрался идти в девятый, Джин решил податься в 28 ГПТУ, на каменщика, а я никак не мог выбрать между технарем и продолжением образования в школе, до полной десятилетки. Школа, конечно, уже достала, хотелось чего-то нового, новых ощущений, новых эмоций. Ведь школьник – это еще ребенок, верно? А студент технаря – это звучит совсем иначе. Хотя, почему «студент»? Мы же в это время учащихся техникума студентами не называли, студент – это тот, кто в институте. Да и, честно говоря, сельскохозяйственный техникум точно не предел моих мечтаний.
Так, стоп! Что это со мной? «Мы в это время…» – это о ком я сейчас? И в этот самый миг я ощутил, как сознание словно бы раздваивается. Я был одновременно пятнадцатилетним парнишкой и шестидесятилетним стареющим мужчиной. Получилось? – Похоже, получилось, не соврал Сурок!
Я внимательно осмотрелся вокруг. Ну да, это наш маленький районный городок, где я родился и вырос, и где в последний раз был лет пятнадцать назад, решив навестить могилу матери, умершей, пока я отбывал очередной срок. Отец ушел еще раньше, и теперь они покоились рядом на здешнем кладбище.
Я помотал головой: кто умер, какие могилы? Мама сейчас на работе на швейной фабрике, отец позавчера уехал в очередной рейс, кажется, куда-то в Молдавию. Он у меня дальнобойщик, на «Колхиде»10 баранку крутит, мечтая пересесть на более надежный «МАЗ».
Голова закружилась, меня шатнуло, и я прислонился к невысокому заборчику, возле которого мы стояли.
– Смотри, Седой, Пастор, похоже, уже где-то с утра успел нализаться!
И друзья заржали немудреной шутке. Пока я думал, что ответить, сбитый с толку мозговым раздвоением, из-за угла вывернули Микроб, Таракан и Стас. Мы обменялись вялыми рукопожатиями, а я разглядывал вновь подошедших приятелей с некоторым удивлением, словно вынырнувших не из-за угла, а из далекого и почти забытого детства. Все мы носили брюки клеш разной степени расклешенности, у всех были длинные волосы. Ну, не по лопатки, конечно, и даже не по плечи, но уши закрывали и сзади – по середину шеи, примерно. Модных джинсов нет ни на ком, все мы из обычных рабочих семей, наши родители просто не в состоянии понять, как могут простые брюки из хлопка стоить больше двухсот рублей. Если правильно помню, первые джинсы у меня появятся только через год. Да, точно, в год московской Олимпиады! Я куплю их на деньги, украденные из квартиры соседки, это моя первая квартирная кража – совершенно спонтанная для меня самого, кстати. Просто как-то, выйдя из квартиры и заперев дверь, я зачем-то (бес попутал?) попробовал своим ключом открыть дверь соседней квартиры, ни на что особо не надеясь. И она открылась так, словно там стоял наш замок! Вот как делают замки, а? Потом, когда обнос хаты стал для меня одним из способов пополнить бюджет, я заимел большую связку самых разных ключей. Кстати, в трех из четырех случаев один из них подходил, и дверь открывалась без всяких отмычек.
Подстригусь коротко я тоже через год, когда учившиеся в Москве знакомые парни скажут мне, что с длинными волосами в столице уже никто не ходит – немодно, и потом уже никогда волосы отращивать не буду. А пока вот такие мы, провинциальные ребята образца лета 1979 года: длинные волосы, брюки клеш, в кармане – пачка «Стюардессы» или «Опала», или «Ту-154» – дешевых болгарских сигарет с фильтром. Копеек тридцать пять, вроде пачка стоила. Не сказать, что, прям, дешево для нас, но понты в юном возрасте – это всё! Сверху на мне, как и почти на всех, простая рубашка с подвернутыми рукавами.
Вот, тоже удивительная вещь: почему-то рубашку с короткими руками было не купить, с длинными рукавами полно, а с короткими – дефицит. Поэтому летом многие просто подворачивали рукава. Мне порой кажется, что вот из-за такого дурного, труднообъяснимого дефицита, в том числе Союз и развалился. Деньги у людей в целом были, но в магазинах ничего не купить, все приходилось «доставать по блату» или втридорога покупать у барыг.
«Стас» – это Серега, почему он «Стас» я вообще не мог вспомнить, как, впрочем, и почему Саня – «Джин», а еще один Сергей – «Микроб». С Андрюхой «Седым» все понятно, у него очень светлые волосы. «Таракана» звали Игорем, а вот фамилия у него – Тараканов, отсюда и «Таракан». Говнистый тип, мы с ним недолюбливали друг друга, даже как-то раз подрались, вот только не помню, мы уже дрались или еще только будем драться? И «Тараканом» его вслух в нашей компашке обычно никто не называет, он прям, очень сильно обижается. Хотя, что тут обижаться, раз уж такая фамилия досталась? Попади он на зону, будет «Тараканом» пожизненно, и попробуй только обидеться: на обиженных в тюрьме воду по поговорке не возят, их, как бы это выразиться помягче…, пусть будет – имеют сзади. А все дело в том, что обиженными в местах не столь отдаленных называют «петухов». И потому там, блин, никто никогда не обижается, все исключительно только раздражаются, сердятся, возмущаются, ну и… прочие эвфемизмы используют для словесного выражения своих потревоженных чувств.
Но здесь и сейчас, как я уже сказал, мы Таракана Тараканом только в его отсутствие между собой называем, от этого он, прям, петушится! Ах-ха-ха! Я даже улыбнулся своим мыслям, пришедшим из «прекрасного далека». Кстати, он ведь тогда, в нашей единственной с ним драке, меня побил. И неважно, что я был в дым пьян, а он почти трезв, факт есть факт. Может, из-за этого я так зол на него? Сейчас бы любой психолог это на раз объяснил, один такой, кстати, в нашем отряде сидит.
А вот на Серегу Микроба (нет, не могу вспомнить, почему он «Микроб») я посмотрел более пристально. Это ведь он меня сдал тогда, когда его случайно поймали и отвели в ментовку наши терпилы. Микроб в авторитете, главный среди нас, поскольку самый старший, ему уже восемнадцать исполнилось. Нам, трем одноклассникам, было сейчас по пятнадцать, Стасу (почему он «Стас»?) и Таракану – по шестнадцать. И сейчас я впервые задумался о том, почему этот Микроб с нами, малолетками, тусовался? В этом возрасте каждый год, не говоря уже о трех – это очень много. Интересно, его, что, ровесники не принимали? А почему, что-то знали о нем? Хм, тогда мне это в голову не приходило. И сейчас я пытался вспомнить, где он учится или работает, но так ничего ни о нем, ни о Стасе, ни о Таракане не вспомнил.
В общем, я постепенно очухивался от первоначального шока и с любопытством оглядывался вокруг. Под ногами – потрескавшийся асфальт площадки на пересечении двух улиц – Луначарского и проезда Луначарского. Оттого нашу компанию и звали «луноходами», поскольку наше тусовочное место было именно здесь – на «Луне». Мы так обычно и говорили между собой:
– Ну, что, как обычно, в шесть на Луне?
– Само собой!
Совсем рядом – продовольственный магазин, в квартале отсюда хлебозавод, а сама улица Луначарского идет от железнодорожного вокзала прямо в центр города, к историческому кремлю, известному всем в СССР (а потом и в СНГ) по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Кремль стоит на берегу старого, еще ледникового периода образования, озера «Неро», и в нем (не в озере, а в кремле) сейчас полно, кстати, иностранцев. А все потому, что старинный кремль, первая резиденция русских митрополитов, в данное время является «Международным молодежным центром», там есть гостиницы, бары и рестораны для интуристов (местных после шести вечера не пускают на территорию, но народ просачивается). Еще детьми сопливыми мы у этих иностранцев меняли на жвачку значки с Лениным и с нашим (не московским) кремлем. А став постарше у интуристов же, покупали дефицитные в те времена джинсы, которые запасливые иностранцы, как я сейчас понимаю, специально привозили на продажу, собираясь посетить СССР, наученные предыдущими туристами. Им валюту тоже ведь в обрез меняли, а на доллары и прочие марки и тугрики в СССР ничего купить было нельзя. По крайней мере, официально. Пользуясь тем, что интуристы цен местных не знали, можно было взять у них штаны по дешевке. Помню, я как-то даже целую новую джинсовую куртку Levi's за сорок рублей сумел купить у наивных немцев, в то время как такая куртка у фарцы стоила никак не меньше двух сотен, если я сейчас уже правильно помню порядок цен в семьдесят девятом. Все уже стало забываться, а времена и события путаться…
Кто стал забывать, я стал забывать? Блин, да что же меня так мотает из юности в старость-то, а? Так, надо сосредоточиться, о чем там разговор идет?
– Ну что, пацаны, – вещает Микроб, – может, махнем на автовокзал, сельпо на деньжата разведем?
Все загомонили одобрительно. Кроме меня, навострившего уши и гадающего: тот это день или нет? Тут ведь какое дело. Мы в последнее время нашей компашкой понемножку стали практиковать гоп-стопы на автовокзале, так нам понравились халявные деньги. Раз, а то и два раза в неделю повадились ходить, деньги у народа отнимать. В основном нашей целью были или такие же, как мы пацанчики, зачем-то приехавшие в райцентр из окрестных деревень, или люди постарше, но уже изрядно за воротник принявшие. Пацанва деревенская, увидев наше численное преимущество, как правило, деньги сама отдавала. Но, что у них там могло быть? – От рубля до трояка, не больше, а чаще вообще мелочь. На пару пузырей красного, разве что, но тоже неплохо на халяву. Особенно нам нравится сейчас портвейн «Кавказ», почему-то всплыло в памяти, что продается по рубль семьдесят пять копеек в восьмисотграммовых бутылках – «колдуньях» (так их у нас называли). Или я опять неправильно цену помню? Может, по рупь восемьдесят? А может, это не «Кавказ» был в колдуньях, а «Лучистое»? Воспоминания в моем возрасте уже путаются: что когда было, и когда что сколько стоило, разве теперь уже точно упомнишь? Особенно после скачков цен в девяностые.
Другое дело – пьянчужки. Опять же, чаще из окрестных деревень, колхозов да совхозов зачем-то в город приехавшие, и закупившись необходимым, на радостях бутылочку раздавили, да не рассчитали немного. Таких тоже легко грабить. А на других мы и не покушались, опасно.
Вот и думай теперь, тот это день, когда мы подпитых командировочных встретили на свою голову или не тот? Придется, наверное, со всеми идти, на месте разбираться и, если что, как-то там шхериться по-тихому. Или лучше не ходить вообще? Вот и думай тут… А, ладно, схожу, интересно же! Отвалить никогда не поздно будет, я ведь сейчас уже не тот наивный мальчик, очарованный блатной романтикой.
Автовокзал тогда располагался в самом центре города, да и объездной трассы еще не было, весь проходящий через город поток транспорта пер прямо через самый центр. Впрочем, что там того потока было тогда? Это уже потом построили объездную дорогу и, соответственно, автовокзал перенесли на окраину города, прямо рядом с железнодорожным, что, конечно, удобно. Но это будет позже. Сейчас он располагался прямо под стенами старинного кремля – жемчужины Золотого кольца России. Туда мы и двинулись нашей веселой, целеустремленной компанией.
Идти было недалеко, минут пятнадцать, если нога за ногу. Вообще, как я сейчас понимаю, всё в нашем маленьком, но очень древнем городке, когда-то в веках бывшем даже столицей княжества и крупным торговым центром, а сейчас обычным райцентром, было недалеко, рукой подать. Если я правильно помню, и жителей там было тысяч тридцать с копейками. Но мы гордо считали себя городскими, в отличие от прочих «деревенских» или, как мы их презрительно называли – «сельпо». Сейчас смешно, конечно, вспоминать. Да и городок нам казался достаточно большим. Но все познается в сравнении, о чем мы, конечно, узнали позже.
Так мы и шли, весело переговариваясь, и в разговоре нашем то и дело звенел веселый матерок. Один из способов для малолеток почувствовать себя взрослыми – мат, а наряду с курением и выпивкой, это стандартный, в общем, набор подростка того времени. Впрочем, разве в этом плане что-то изменилось? Это в последние годы я стал зачем-то избегать в разговоре матерных слов, что казалось странным и прикольным среди моих «коллег по цеху». Нечай постоянно меня подначивал, особенно первое время, когда я еще только пытался находить приличные синонимы привычным неприличным словам. Нелегко, кстати, это давалось порой, но я справился, сейчас нелитературное слово от меня можно услышать разве что в неконтролируемом порыве чувств. Зачем мне это надо? Да я и сам не знаю, захотелось и все.
Вот и сейчас, отвечая на те или иные обращения дружков, я привычно отвечаю приличным языком, на что пока они внимания не обращают. Но это пока. Надо ли мне полностью вписываться в образ себя пятнадцатилетнего? Не думаю, я здесь ненадолго. Сейчас я больше молчал, глазея вокруг. Вот, справа показалось здание моей родной средней школы №1 имени Владимира Ильича Ленина, в далеком дореволюционном девичестве – классической мужской гимназии. Построено оно крепко, еще и в третьем десятилетии двадцать первого века будет стоять, принимая учеников и гордясь возвращенным названием гимназии, теперь уже имени своего учредителя – купца Кекина, самого известного местного дореволюционного мецената. Величественное, надо сказать, здание, в самой столице мало кому повезло получить среднее образование в подобных стенах. Сейчас по другую сторону улицы, через дорогу от школы раскинулся буйной и неухоженной зеленью школьный сад, заполненный в основном яблонями и вишнями разных сортов. Никто за ним давно не ухаживает, и на переменах в теплое время года толпы школьников бегают туда покурить. Ну и наша компания нередко заглядывает туда для того, чтобы оприходовать бутылочку – другую с зеленым змием в стеклянном нутре. В последний раз, когда я был здесь в будущем, сад был снесен, все фруктовые деревья выкорчеваны, а вместо него строился благоустроенный парк с памятником матерому купцу, меценату и почетному гражданину города Александру Леонтьевичу Кекину.
Но сегодня здесь все было так, как и положено быть в моем детстве: слева школьный сад цветет пышной зеленью, справа – средняя школа номер №1 со статуей неизменного вождя с вытянутой вперед рукой перед входом в учебное заведение его имени. До сих пор не могу понять, при чем здесь Ленин, какое отношение к школе имел, если он и в городке нашем никогда не бывал? Но в те времена этому, насколько я помню, среди нас никто не удивлялся, привыкнув к сему парадоксу с детства.
Асфальт тротуара, повторюсь, был весь в трещинах, тоже вполне обычных для позднесоветского пейзажа и привычных для нас, пацанов. Хорошего асфальта мы, почитай, и не видели тогда, как я сейчас понимаю, что бы потом ни писали сопливые поклонники «советского рая», да дряхлеющие представители моего поколения, жадно ностальгирующие по своей далекой юности. Где-то в крупных городах он, наверное, таки был, а в нашей глуши (всего-то двести километров от Москвы) асфальт не то чтобы отсутствовал как явление, вовсе нет, но ремонтировали дороги редко и кое-как, так что уже к следующему году они принимали привычно-раздолбанный вид.
Так не хочется говорить о том, что я в молодом теле чувствовал себя сейчас как новенький, поскольку это уже стало навязшим в зубах штампом в многочисленных книгах о попаданцах, но что есть, то есть – я наслаждался молодостью и здоровьем, почти забытым ощущением, когда у тебя нигде ничего вообще не болит. Ну и хватит об этом, сами все понимаете, если вам уже не пятнадцать лет.
Вот прошли мимо ресторана «Теремок», чуть ли не единственного на весь город, если не считать еще одного ресторана на жд-вокзале, ну и тех, что в кремле для иностранных туристов. Тоже памятное для меня место, уже став постарше, частенько я в нем засиживался с хмельной компанией. Конечно, если сравнивать с современным ресторанным сервисом, то и сравнивать нечего, зато цены были божеские.
Показались городские валы, когда-то важные оборонительные сооружения города, а сейчас – забава для ребятни зимой: с горки кататься. Внизу на привычном месте обнаружилась «нижняя» пивнуха с толпой жаждущих внутри и снаружи. «Нижняя» – потому что есть еще и «верхняя», если подняться на валы и выйти как раз к автовокзалу – цели нашего мероприятия.
Глава 5
Бывает, спрашивает меня молодняк на зоне: как, мол, жилось в СССР, хуже или лучше, чем сейчас? А я, если честно, не знаю, что и ответить, потому что сложный это вопрос для меня. Но если брать в целом, по уровню, скажем, доступного комфорта (в широком смысле этого слова – от доступности товаров и продуктов в магазине до свободы путешествий), то сейчас, конечно, лучше. Я пока еще из ума не выжил, чтобы не понимать, что все мои мысли о том, как всё тогда было лучше, основываются исключительно на воспоминаниях о собственной молодости: буйстве чувств, когда все впервые: первый поцелуй, первая любовь, веселые друзья, планы на жизнь и прочая дребедень. Все это классно само по себе, независимо от окружающей тебя действительности, где бы и в какое время ты ни жил. Понимание этого приходит потом, ближе к старости, когда до тебя вдруг начинает постепенно доходить, что ничего подобного в твоей жизни больше не будет никогда. Стань ты хоть миллиардером, ни за какие деньги ты ничего из этого не купишь и ушедшее не вернешь.
Но вместе с тоской по своей молодости ты, может быть, даже не осознавая того сам, начинаешь идеализировать и само время, на которое эта твоя молодость пришлась. Таково свойство нашего мозга, все неприятности забываются, остаются приятные воспоминания. Смешно, но я с удовольствием вспоминаю сегодня даже свой первый, еще советский срок как нечто хорошее: как мы там веселились с кентами в бараке, находя для этого и время, и повод. Просто потому, что мы были молоды. Сходишь, бывало, тогда в ларек, отоваришься: возьмешь пару бубанов (батонов белого хлеба), банку помазухи (повидла яблочного или какого там), маргарина, да карамельных конфет. Вечерком сядешь с кентами, намажешь на бубан маргарин толстым слоем, сверху помазухой смажешь, да с чайком крепким все это навернешь – ой, как вкусно было, куда там разным деликатесам! Но не потому, что продукты тогда были качественнее, чушь это все, а потому что вкусовые сосочки на твоем языке были еще свежие, чистые, незабитые. Именно поэтому все старики в мире ворчат, что – вот, мол, в наше время все было вкуснее, качественнее, натуральнее! Хрен там, может, наоборот, все было хуже, но зато и организм у тебя был молоденький, и вкус ты ощущал иначе. Вот в чем собака порылась, как скажет будущий первый и последний президент СССР – косноязычный, как и вся советская номенклатура с «правильной» биографией.
К примеру, я с удивлением смотрю сейчас на тех, чья молодость пришлась на девяностые. Вот вроде что там вообще могло быть хорошего для простого человека, не бандита, не политика и не коммерса? Но те, кто тогда был молод, вспоминают это время с удовольствием и ностальгией. Каждому – свое.
А насчет СССР скажу так. По трезвому размышлению из хорошего было тогда бесплатное образование и бесплатная медицина. Уже очень немало, согласен, даже очень много! За одно это, как тогда говорилось, огромное спасибо партии и правительству. Но все остальное сейчас лучше. Можно еще вспомнить бесплатные квартиры, которые давали и по очереди на производстве, и по городской очереди, но ведь их ждали десятилетиями, порой получая желанный теплый личный туалет лишь ближе к старости. Но тут уж как у кого сложилось, конечно…, спорить не буду, кто-то и в девяностые как сыр в масле катался.
Тем временем мы прошли мимо «верхней» пивнухи и оказались прямо на площади перед кремлем, на которой тогда располагался автовокзал. Блин, не тогда, а сейчас! Никак не могу к этому раздвоению привыкнуть.
На площади стояли автобусы советской поры: ПАЗики, ЛАЗы и, конечно, непременные венгерские Икарусы. Пахло вредными для окружающей среды бензиновыми выхлопами безо всякой очистки, кислым пивом из «верхней», табачным дымом и немного перегаром. Вот он, реальный запах моей молодости!
От этой мысли я заржал как конь, довольный и счастливый. На меня покосились дружки, но, к удивлению, никак не прокомментировали. Наоборот, даже поддержали мой смех. Я—молодой удивился, а я—старый понятливо хмыкнул про себя: это кураж так проявляется: предвкушение опасности, ощущение себя почти всемогущим, напополам со страхом попасться в руки ментам. Ах, как знакомо мне это чувство, сколько раз за мою жизнь оно будет будоражить кровь! Вот и дружбаны мои это же чувствуют, потому и не удивились моему неожиданному хохоту. Мы сейчас одновременно охотники и возможная дичь, менты ведь тоже службу свою несут, пусть и спустя рукава. Но никто не застрахован от того, что в самый неожиданный момент патруль ППС не вывернет из-за угла или рядом вдруг не скрипнет тормозами «канарейка» – ярко-желтая с синей полосой посредине машина милиции. Все это будоражит молодую кровь, ведь чувство опасности – одно из самых ярких чувств. И пока оно у вас есть, есть и большая вероятность, что тебя не примут, что ты вовремя уйдешь, не попадешься. Но как только это чувство притупляется, считай, что ты уже одной ногой в камере. Именно поэтому ни в коем случае нельзя идти на дело под градусом, алкоголь притупляет так необходимое любому преступнику чувство опасности и тем самым резко повышает риск попасться. Уж мне ли не знать, что абсолютное большинство людей сидит за преступления, совершенные по пьяному делу. По моим прикидкам, что тогда милиция, что сейчас полиция раскрывает преступления практически исключительно в двух случаях: или тебя взяли на месте преступления либо по горячим следам, или тебя кто-то сдал. Если же ни того ни другого не случилось, скорее всего, тебя и не поймают никогда. Если бы меня сажали за каждое мое дело, которое я в своей жизни провернул, то я бы жил в тюрьме, не выходя на свободу. Но по факту всегда садился по какой-то ерунде из-за срабатывания одной или сразу двух вышеописанных причин, а дела серьезные, которые готовились тщательно, так и числятся у ментов в глухарях. И теперь уже, думаю, никогда и не раскроются просто потому, что никто их и не раскрывает – в архиве пылятся.
Парни, тем временем разбрелись по площади, высматривая подходящую жертву, а я тихонечко отошел за киоск Союзпечати, не собираясь принимать участия в намечающемся, как потом напишут в приговоре, разбойном нападении. Я ведь именно для этого здесь. Или, может, кто-то думает, что мне нравится в тюрьме сидеть, раз уж мне там стало так привычно? Не хотел я такой привычки для себя, и жизни такой не хотел. Не о том думалось и мечталось в молодости. Но почему вышло именно так? Долго я размышлял об этом, так и не придя к определенному выводу. Может, дело случая и, скажем, не попадись я в первый раз, потом и жизнь иначе сложилась бы? Мало ли кто какие ошибки в молодости совершал, не все же сели? А может и не так, может, как говорится: что на роду написано, так тому и быть? А, может, все дело случая, просто сложилось так, и не надо искать никаких других причин? Вот сейчас и проверим, прав Сурок в своем предположении о «жизненных перекрестках» или это все лажа заумная.
Ага, вот они, эти командировочные мужички! Выходит, аппарат моего физика достаточно точно настраивается по описанию, что уже хорошо. Я бы, наверное, и не узнал их никогда, но после того как Микроб, проходя мимо Джина, кивнул на них, почему-то сразу понял, что это именно они, некому больше было быть здесь. Трое молодых мужиков (как по мне, сейчас), возрастом, где-то от тридцати до сорока лет, ближе к середине этого десятка, о чем-то жарко спорили на повышенных тонах. Нет, не ругались, просто пьяные, поэтому такие громкие. Я видел, как наши все переглянулись между собой, поискали кого-то глазами (меня, конечно), но и нет ли ментов, тоже проверяли, а потом как-то потихоньку все оказались поблизости от пьяной троицы. Я стоял за углом киоска и внимательно через стекло витрины наблюдал за готовящимся гоп-стопом. Странное ощущение нереальности происходящего охватило меня.Я ведь тогда был там, среди пацанов, но сейчас именно то «тогда», а я не с ними. Разве можно изменить однажды уже случившееся?
Вот будущие терпилы закончили свой спор и направили стопы к «верхней» пивной, решив, видимо, полирнуть выпитое пивком сверху. Но я знал, что они там не останутся, не должны, потому что ограбили мы их у «нижней», это точно. Однако тогда я был рядом, сейчас меня там нет, может, это что-то изменит?
Нет, не изменило, сунувшись в «верхнюю» и увидев набитое жаждущими до отказа помещение, командировочные решили попытать счастья в «нижней». Идти было недалеко, надо было лишь пройти метров десять-пятнадцать в сторону и свернуть вниз, на тропинку с верхнего вала. Там, внизу и находилась другая пивная, собственно именно поэтому и именовавшаяся «нижней».
Когда они скрылись из глаз, а за ними и мои дружки, я быстрым шагом пошел следом, очень уж хотелось увидеть все своими глазами. Забежав на вал, я увидел, как пацаны окружили пьяненькую троицу, и тут же лег в траву, чтобы меня не спалили. Траву в это время никто не подстригал, лишь пару раз за лето скашивали обычными косами, поэтому она была высокая и скрыла меня хорошо. Они меня не видели, в то время как сами передо мной были как на ладони.
Представление шло по обычному плану, хоть и без меня. Как там поется в старой советской песне: «отряд не заметил потери бойца»? Заметили, конечно, но не искать же меня, рискуя упустить такую подходящую для гоп-стопа троицу! Мало ли где я, может, живот прихватило, и я где-нибудь на валах травлю веревку, спустив штаны. В трусости меня точно не заподозрили, я почему-то в таких делах всегда поперед всех был, а это уже далеко не первый наш раз.
Ага, вот Микроб подошел к тому мужичку, у которого была сумка с позвякивающими внутри бутылками. Точно, только сейчас вспомнил! Мы ж как раз из-за этой сумки с водкой за ними тогда и увязались, а то, что там еще и двести рублей вместе с их паспортами окажется, так это просто фартануло. Ну, тогда нам показалось, что фартануло, хотя так бы и было, не случись через несколько дней той случайной встречи одинокого Микроба с тремя трезвыми потерпевшими в дверях гастронома. Паспорта, я помню, мы тогда бросили в почтовый ящик, точно! А на деньги, пришло следующее воспоминание, взяли в прокате палатки, купили водки, еды, и закатились на зеленую с ночевкой. Все же сумма была для нас существенная, мало кто тогда такие деньги в месяц зарабатывал.
Между тем я продолжал следить за разыгрываемым как по нотам представлением. Вот, Микроб выхватил у мужика сумку и о чем-то говорит с ним, я сейчас уже не помню, о чем, но примерно представляю. Скорее всего, Микроб заявил, что это его сумка, и они у него ее украли. И пока те в шоке и непонятках от такой наглости пытаются доказать ему, что это не так… Ага, на этот раз вместо меня пошел Джин, я, собственно, другого и не ожидал, остальные слишком ссыковаты. Словно бы случайно проходя мимо, Джин подставил руку, и Микроб в эту руку ручки сумки опустил. Все, сумка у Джина, дальше надо просто делать ноги. Схвативший сумку Джин рванул налево, за пивную, а Микроб, оттолкнув опешившего мужика, дернул направо. Те застыли на месте, не зная, что делать, и громко крича. Все, дело сделано, ничего сложного, главное – всегда работать слаженно, так, как было оговорено заранее.
А я, убедившись, что наши все убежали, спокойно поднялся и, не торопясь, пошел в обход к нашему пятаку на «Луне». Сердце стучало как бешеное, словно я не наблюдал, а сам участвовал в ограблении. В голове билась одна мысль: «Получилось, у меня получилось, я все изменил!». Но так ли это? Осталось только дождаться возврата, чтобы увидеть результат.
Я долго гулял по городу, с удивлением рассматривая забытые улицы. М-да, что сказать? В моей памяти город был лучше, сейчас же все бросалось в глаза: уже упомянутый разбитый асфальт, а где и его полное отсутствие, старый жилой фонд, облупившиеся стены домов, огромное количество деревянных частных домиков. Ну а чего я ожидал? Он и там, в будущем, ненамного лучше будет выглядеть. Разве что добавятся многоэтажки, вырастут как грибы красивые дома тех, у кого заведутся денежки, асфальт получше положат, кое-где тротуары плиткой выложат, особенно в центре, ну и везде будут вывески многочисленных магазинов, которых сейчас здесь не очень много. Машин будет в разы больше, а еще везде будет реклама, которая сейчас отсутствует как явление, да в руках у людей появятся смартфоны. Но в целом дух провинциальности так и останется лежать на крышах домов, кронах деревьев и на серой глади древнего озера.
Я смотрел на проходящих мимо меня людей, спешащих по своим делам – люди как люди. Меньше цветов в одежде, но и не сказать, что она вся черно-белая, как сегодня изображают некоторые, скорее, цвета менее яркие. Мода другая – да, на одежду, прически и т.д., но сколько раз эта самая мода за мою жизнь сменится, вернется опять, и снова сменится! Да и не баба я на это внимание обращать, вот если бы на моем месте какая попаданка оказалась, то она бы вам, наверное, про это все в подробностях описала. Я же просто смотрел на этот неухоженный городок моего детства, и отчего-то сердце сжималось в груди. Эх, мне бы не на считаные часы, а насовсем сюда вернуться, уж я бы точно прожил совсем другую жизнь.
Свернув на улицу Свердлова, я прошел мимо музыкального педучилища, неторопливо шагая, подошел к Комсомольскому парку, и с грустью увидел все ту же картину родной сердцу неухоженности. Да, здесь вам не какая-нибудь Германия с ее словно игрушечными кукольными домиками, неожиданно выросшими в размере. Нам некогда заниматься всякой ерундой, мы здесь решаем глобальные проблемы, не отвлекаясь на мещанский быт! Россия – это космос, вырастающий из хаоса, не нами заведено.
Лишь на центральной аллее лежал потрескавшийся асфальт, а многочисленные тропинки, протоптанные ногами прохожих, как всегда в России, как бы она ни называлась, не совпадающие с планами тех, кто все это проектирует, сейчас были сухими и пыльными. Не перестану удивляться этой вековой борьбе всевозможных проектировщиков с народом, не желающим ходить по тем дорожкам, что они закладывают в своих планах, словно демонстративно не замечая, где предпочитают ходить люди. И пролегают эти красивые и прямые дорожки, радуя своей чистотой и удаленностью от путей народных.
Несмотря на все это, сейчас мне этот парк нравился больше, чем тот, каким он станет в будущем, наверное, как раз именно этой своей буйной неухоженностью. Я шагал по центральной аллее парка прямо к венчающему ее памятнику комсомольцам, наверное, времен Гражданской войны, судя по буденовкам на головах юноши и девушки, устремивших взгляд своих слепых, покрытых побелкой глаз в видимое только им светлое коммунистическое будущее. Я остановился возле памятника, вгляделся в их лица с какой-то даже жалостью: всё, за что вы боролись, ребята, просрали ваши дебильные потомки, на которых вы так рассчитывали. Столько народа угробили, а в результате – пшик. Вы забыты, а те, с кем вы сражались, снова в чести. И стоило оно того? Я улыбнулся, сердцем и душою я был за них, за этих идейных пламенных комсомольцев, вот только это не имеет никакого значения. Сама история против нас, ребята, а историю не расстреляешь из нагана…
Я сел на скамейку возле кустов на краю этой небольшой площадки с памятником первым комсомольцам. Хорошо, что еще не пришло то время, когда молодежь с чего-то вдруг решит, что правильно сидеть надо на спинке скамейки, поставив грязную обувь на сиденье. Поэтому я спокойно сидел, привалившись спиной к выгнутой спинке из реек, смотрел на памятник, на возвышающиеся над деревьями купола древнего кремля, заселенного интуристами, и думал о том, что в какой-то из дней этого лета именно на этой скамейке я точно так же сидел, но не один, а с девочкой по имени Лариса. Так звали мою первую любовь, и это было наше последнее свидание. Или не последнее? Уже и это стало забываться. Она тогда приехала на моем велосипеде, который я дал ей на время по ее просьбе, и на котором она каталась, кажется, все лето. Даже после того, как мы формально расстались, я не хотел просить ее вернуть велосипед, а она не торопилась, зная о том, как я ее люблю. Или не знала?
Я передернул плечами. Может, она ничего и не знала, не видела, не понимала? Я же всегда такой скрытный, стараюсь не показывать своих чувств. Многие из-за этого считали и считают, что я черствый и злой. Но с ней это было точно не так, с ней мое сердце разрывалось от нежности и желания, а еще от страха сделать что-то не так, что-то, что ей не понравится. Но ей-то, откуда было это знать, она же мысли не читала? Так и расстались мы с ней этим летом и навсегда, и я ничего не знаю о ее дальнейшей жизни. Как-то раз еще встретились года через два или три, не помню, по старой памяти вместе провели ночь и на этом все. Но не я, так любивший ее не только тогда, но и многие последующие годы, стал ее первым мужчиной, не я. Я бы тогда, в смысле – сейчас ни за что не решился. Под надменной личиной молодого хулигана скрывался хрупкий и скромный юноша. Я и дрался, может, и воровал, и грабил только из-за того, чтобы никто об этом внутреннем скромняге не догадался. И лишь только с ней я разрешал ему выйти вперед и он, гаденыш романтичный, конечно, все испортил… Девушки, особенно в этом возрасте, любят отчаянных хулиганов, а вовсе не скромных и стеснительных, боящихся лишний раз дотронуться до них ухажеров. Наверное, я слишком сильно ее любил, не надо было так, надо было быть проще и смелее, но что уж сейчас об этом! Мы были такими, какими мы были, мы стали такими, какими мы стали – из снов и мечтаний, из глины и стали. О, кажется, это строчка из моего старого стихотворения всплыла! Точно, из старого стихотворения, которое сейчас еще и не написано.
Погрузившись в воспоминания, я пропустил мимо ушей шуршание шин по старому асфальту, и поднял глаза лишь тогда, когда рядом со мной затормозил велосипед.
– А я откуда-то так и знала, что ты здесь!
Не может быть, этого не может быть. Я поднял глаза и улыбнулся:
– Привет, любимая!
Она, конечно, была прекрасна в своей молодости, я и забыл, как она была хороша в свои шестнадцать лет. Старше меня на целый год – так много, когда тебе всего пятнадцать. Но такова привилегия хулиганов, они могут встречаться даже с теми девочками, которые старше их.
– Ого, вот это приветствие! – улыбнулась Лариса. – Ты что здесь делаешь? Я проезжала мимо Луны, там все ваши и опять, кажется, пьяные. А ты никак трезвый?
– Аки стеклышко! – заверил ее я, не отрывая взгляда от ее глаз. Этому научила меня жизнь: всегда смотри в глаза, не отрывай взгляда, ты никого и ничего не боишься, ты всегда прав! Но она ведь только девчонка глупая сейчас, конечно, она не выдержала и отвела глаза, почти пропев:
– Странный ты какой-то сегодня. Ты точно трезвый?
– Иди ко мне, дыхну, – еще шире улыбнулся я.
Она осторожно положила велосипед на асфальт, и склонилась надо мной принюхиваясь. Вот ты и попалась, Лариса! Я ловко перехватил ее и усадил себе на колени.
– Ой! – и я ловлю губами мягкие, теплые губы. Она отвечает, и, уверяю вас, это надолго. Целоваться мы любим оба. Как-то она призналась мне, что обожает целоваться. Я в прошлой жизни стеснялся часто этим пользоваться, но уж сегодня не упущу ни за что на свете! Мы, путешественники во времени, такие, мы стремимся взять из нашего прошлого все, что не удалось с первой попытки.
Прошла вечность и я, оторвавшись от сладких губ, прошептал: «Ты неправильно сидишь, Лариса, так неудобно целоваться!». «А как правильно?» – с придыханием прошептала она в ответ. Я научил, подняв ее и опять усадив, только теперь ее колени оказались на скамейке по бокам от меня. Блин, блин, блин, вот зачем я это сделал! Но ничего нельзя повернуть назад в полумраке укутывающих скамейку кустов, когда вечернее солнце уже цепляется за верхушки деревьев. Мои ладони уже на мягких полушариях под юбкой, сжав их, как попавшиеся в плен мячики. Это моё, я никому не отдам! Она начинает немножечко, совсем так тихонько рычать, и я совершенно теряю голову. Кто там должен был быть первым? – Тебе не повезло, дружище, не в этой жизни. Нет ничего не личного, это любовь – здесь всё очень личное. И, конечно, у меня в этот раз получилось очень даже легко и ловко, да и как могло быть иначе, с моим-то опытом? А капля крови на моих старых темно-коричневых брюках клеш совсем даже не видна. Да и сумерки уже спускаются, в это время честной народ побаивается ходить через темный неухоженный парк, поэтому наша тайна осталась только нашей.
Говорят, что жизнь – она в полоску, и если ты сейчас на светлой полосе, то следующая полоса обязательно будет темная. Закон подлости или карма, как тут угадаешь? А, может, это время очень упруго и его так просто не развернешь?
Мы шли, вцепившись в ладони друг друга, молча, абсолютно счастливые, потрясенные до глубины души произошедшим и не верящие в то, что случилось. Вот только я никак не мог забыть о том, что мой чистенький носовой платок, тщательно постиранный мамой и заботливо уложенный ею в карман моих брюк, сейчас там, между ног девчонки, чья ладонь вцепилась в мою, прижатый трусиками, изображает из себя прокладку, которых еще нет в этой стране в это время. И это знание шокировало меня пятнадцатилетнего, несмотря на то, что шестидесятилетний старик, сидящий в голове, только снисходительно ухмылялся, но откуда-то издалека, словно специально ушедший в тень, дабы не мешать нашему счастью.
Вот только зачем мы пошли мимо этого пятака на Луне? Разве других дорог не было? Или их на путях моей судьбы и правда, не было? Пацаны приветственно заорали, увидев нас:
– Хрена се, а мы думаем, куда Пастор пропал! А он, оказывается, с бабой своей шоркается!
Я поморщился, мне не понравилось, что мою любимую назвали бабой, но я промолчал. Так среди малолеток принято, так они свою крутость показывают. Пусть их, переживу. Но подойти к ним все же пришлось, все же приятели, надо руки пожать, тем более что там уже были и другие, которых утром не было. Было, было предчувствие, щемила грудь тревога, вот только была ли у меня возможность избежать?
А потом Таракан, прилично подпитый, сволочь, взял и шлепнул Ларису по попе, вроде как в шутку. Я молодой, может быть, скрепя зубы, и спустил бы все на тормозах, например, как бы шутливо толкнув его в плечо и воскликнув что-то типа: «Но—но, не лезь на чужое!». И, возможно, ничего бы не произошло. Возможно. Но для меня – старого прожжённого зека, давно стало безусловным рефлексом правило: никому никогда ничего нельзя спускать. «Не заметишь» однажды и в следующий раз это уже станет нормой. Да и то, что произошло сегодня, совсем недавно, между мной и Ларисой, просто не позволяло отшутиться.
Я ударил быстро и резко. Один раз, второй, третий. Он упал, и я стал его пинать, уже не в силах остановиться – это старый зверь проснулся во мне, вырвался на волю, захотел крови. И кровь пролилась, обильно окропив грязный асфальт. Эта кровь залила мне глаза, и я не мог остановиться. Визжала Лариса, – парни пытались меня оттащить, куда там! Я только злобно огрызался, почти рычал, и они испугались, отошли.
Как оказалась там милиция, я уже не помнил. Очнулся только, когда мне стали выворачивать руки. Выдохнул, оглянулся: пацаны разбежались, лишь на асфальте, сплевывая кровь, валялся Таракан, тихо постанывая. И глаза Ларисы в свете фар милицейского бобика казались огромными. Она смотрела на меня так, словно это был не я, а кто-то совсем ей незнакомый, в кого вдруг обратился такой близкий ей человек. Я зло, по-волчьи, ухмыльнулся ей в ответ, хотел что-то сказать и… не сказал. Что тут скажешь? Словами ничего уже не исправить.
Вызванная ментами скорая уехала, заливая темноту вечера тревожным светом спецсигнала. А меня затолкали в желто-синий бобик, и когда машина отъезжала, через заднее зарешеченное окно я не сводил глаз с моей Ларисы, которая потерянно оглядывалась вокруг, не зная, что ей делать. Рядом с ней лежал мой велосипед. И мне было ее так жалко, что я сильно боднул затылком железный борт машины. Физическая боль иногда милосердна, она заглушает боль душевную. Ну, почему, почему, почему так? За что мне это все, в какой из своих жизней я так провинился?
Когда, наконец, после всех допросов дверь камеры предварительного заключения захлопнулась за мной, я грубо растолкал дрыхнувших уже мужиков и, упав на доски нар, как-то мгновенно провалился в сон, словно ухнув головой в пропасть.
Глава 6
Проснувшись, еще даже не открывая глаза, понял, где я. На зоне, конечно, где мне еще быть? Причем в своем старом теле с вечно ноющей спиной. Открыл глаза и сразу же вновь закрыл. Ничего не изменилось? На первый взгляд, нет. Напротив спал Нечай, а над ним, на верхней шконке – Сурок тихонько похрапывал. Тогда я повернулся на другой бок, лицом к стене, и задумался, пытаясь вспомнить свою жизнь.
Итак, моя первая судимость за что была? А что тут думать, за хулиганку, конечно! Избил этого придурка Таракана, шлепнувшего Лариску по заду, а он, сучонок, накатал заявление и отказался его забрать. Если точнее, на этом настояли его предки. А ведь все могло обойтись пятнадцатью сутками, к тому и шло. Но заявление написано, и делу дали ход. Меня, конечно, как несовершеннолетнего, утром отпустили домой, сдав на руки подъехавшему отцу, а через два месяца состоялся суд. И получил я тогда два года условно.
Я захохотал про себя. Ну да, смешно. Избежать условной двушки за грабеж и тут же получить ту же условную двушку за хулиганку. Превратиться из уважаемого гопстопщика в несерьезного баклана11 – то еще изменение прошлого! Я пробежался по своей биографии, и поначалу показалось, что никаких других изменений в жизни не случилось. И стоило из-за этого мотаться в прошлое?
Я задумался и решил, что стоило – не из-за статьи, а из-за Ларисы и того, что произошло между нами. Одно это стоило всего. Я еще пошарил в воспоминаниях и вдруг понял, что роман с моей первой любовью в этом варианте моей жизни продолжился, а не закончился, как в первом варианте прошлого. Более того, она даже ждала меня из армии! Тут же полезла из памяти стройбатовская служба, а куда еще могли взять судимого призывника? Нас там, таких, было немало. Поначалу крепко дрались, пытаясь определить авторитетов. Но потом все подружились, все же реально на зоне никто из нас не был.
А когда пришел из армии, сыграли с Ларисой свадьбу, и она родила мне сына. Вот только жизнь у нас с ней не сложилась, несемейный я человек, в этом плане ничего не изменилось. Разбежались, не прожив и года. А еще через несколько месяцев меня посадили, на этот раз прочно, как и в первом варианте – пятилетка на усиленном режиме за грабеж.
Мы ведь были еще не разведены, когда я сел. И даже целых три года из пяти она приезжала ко мне с сыном на личное свидание. Нет, два, первый год личные свидания тогда на усилке были не положены. А приезжала она ко мне трижды, точно! Три раза по трое суток, мой отец на машине привозил их, а потом забирал по окончании. На четвертый раз она приехала, а я в БУРе, свидания, соответственно, лишен, она уехала ни с чем, обиделась на меня. Ну и все на этом, кто-то там у нее нашелся, она подала заявление на развод, а поскольку я сидел, мое согласие не потребовалось. Кажется, она потом вышла замуж, но мы больше не встречались.
Я еще раз пробежался по биографии и понял, что дальше никаких разночтений с первым вариантом нет. Ну, понятно, кроме того, что у меня теперь есть сын, которому сейчас…, хм, получается, тридцать девять лет? Да уж, взрослый мальчик. Внуки? Я задумался, но никаких сведений о внуках в памяти не обнаружилось. Как и о том, что сейчас с моей Ларисой. Ладно, разберемся.
Я посмотрел на часы, висевшие на стене: без пяти семь, сейчас будет подъем.
Сурок прихлебывал чай из фаянсового бокала и внимательно слушал мой рассказ. Я видел, что он не просто возбужден, он буквально перевозбужден. Когда он потянулся за пятой конфетой, я не выдержал и, хлопнув его по руке, рявкнул:
– Хорош жрать!
Не то чтобы мне было конфет жалко, но внутренняя жаба все же не позволяла такой расточительности, нам с Нечаем посылки слать некому, а общак не резиновый. Сурку, конечно, шлют из дома, и все же, все же… Но Сурок, кажется, не обратил никакого внимания на мою жабу, весь был погружен в размышления, ну точно – гений не от мира сего, как в кино, блин.
– Я подозревал, – наконец решил он высказаться. – Время – это такое многогранное и комплексное явление, не имеющее единого общепризнанного определения в научном пространстве. У всех свое определение: у физиков одно, у философов другое, в обыденном смысле – третье. Согласно Эйнштейну, оно может меняться в зависимости от наблюдателя и системы координат, то есть, время субъективно и имеет какое-то отношение к наблюдателю. А уж в квантовой физике… Даже то, что время движется вперед, само по себе не аксиома, а только теория, которую астрофизик Артур Эддингтон придумал и популяризировал в 1927 году. Лично я думаю, что пространство и время сливаются в один переплетенный континуум, то есть, никакого направления у времени вообще нет или оно очень условно и зависит от нашего ощущения. Именно на этом допущении и построена моя машина времени.
– Сурок, зараза, выражайся проще, я с трудом улавливаю не то что суть, а даже ход твоих мыслей, – прервал я его словесные излияния. Я тоже умею красиво выражаться, как видите, я ведь человек книжный, в некотором смысле.
Тот удивленно уставился на меня, словно только что здесь обнаружил, до этого и не подозревая о моем существовании. Потом потянулся за новой конфетой, и в этот раз я сдержался. Пускай гений жрет мои любимые конфеты «Коровка», лишь бы толк от него был. А толк есть, это мы уже выяснили экспериментально. Прошлое можно изменить, вопрос теперь в том, можно ли его поменять кардинально или возможны лишь частные изменения на неизменной в целом условной линии жизни? Это я так подумал? М-да, с кем поведешься…
Отправив очередную «Коровку» в рот (прямо всю сразу, вот же!) и запив ее крепким купчиком, Сурок резюмировал:
– У меня пока слишком мало данных, чтобы делать выводы, надо продолжать эксперименты. Теперь моя очередь.
Я немножко подумал, покатал мысль в голове так и этак, и мягко ответил:
– Нет, Коля, пробовать ты не будешь однозначно. Только после меня, когда у меня все получится. Тихо, тихо, не кипишуй! В крайнем случае, если случится, что я отсюда исчезну, как и сам твой прибор, обещаю: я тебе помогу там так, что ты не просто не сядешь, но еще и не убьёшь никого. Но, прикинь сам, что если ты сейчас нажмешь кнопку и исчезнешь с концами? Как думаешь, что буду делать я? Подумай, ты же умный.
– Найдешь способ достать меня на воле! – не задумываясь, ответил он. – Так что мне нет смысла тебя обманывать.
– Не торопись, – самым добрым своим голосом продолжил я. – Это ты сейчас так думаешь. А там можешь решить иначе, рассказать все тем же конторским и меня тихонько прикопают. Когда речь идет о государственных интересах, отдельная человеческая жизнь и даже многие жизни значения не имеют, поверь. А уж жизнь какого-то зека вообще лишняя, воздух без него в стране чище станет.
Я, глядя ему прямо в глаза, не торопясь, отхлебнул из своего бокала и продолжил:
– А возможен и другой вариант. Ты изменишь свое прошлое, никого не убьешь, в тюрьму не сядешь, мы с тобой не встретимся, и я просто забуду о тебе. Может же такое быть?
– Теоретически может быть все что угодно, слишком мало фактов для обобщения и выводов, – вздохнул физик. – Но, мне кажется, последнее маловероятно. Не в том смысле, что я не сяду или сяду, а что ты забудешь обо мне и моем изобретении. Есть ощущение, что мы с тобой и с этим прибором теперь как-то связаны, и связь эту уже не разорвать.
– То есть, – улыбнулся я, – первый вариант ты не исключаешь.
Он опять вздохнул и ловко цапнул следующую конфету. Я сдержался и на этот раз, но уже на грани.
– Как ученый, я не могу исключать никакие варианты. Тем более что изложенный тобой вариант, если посмотреть непредвзято, возможно, лучший.
И он закинул конфету в рот. Вот же сука, – я чуть не захлебнулся от возмущения, он даже не попытался меня разубедить! Но внешне я все так же продолжал доброжелательно улыбаться. Видимо, он все же что-то прочел в моих глазах и вздрогнул.
– Я же чисто теоретически, – пролепетал он испуганно.
– Все нормально, Коля, – успокоил его я. – ты честен, а это сейчас главное. Но зато ты и сам теперь видишь, что, прежде чем менять твою судьбу, надо сначала закончить со мной. В чем я не прав?
Он вновь тяжело вздохнул и пожал плечами:
– Ладно, давай попробуем еще раз?
– Давай попробуем, – согласился я. – Сейчас только на дальняк12 схожу, что-то придавило от этих разговоров.
И я вышел из отсека, прихватив, естественно, аппарат с собой. Впрочем, я его и не вынимал из кармана.
А в это время Нечай отполз от открытого окна, обошел барак и сев на лавочку, задумался. Да, он не был человеком образованным, в свое время кое-как восьмилетку закончил, но и дураком никогда не был. Пусть он был и не очень умным, но зато сообразительным и хитрым. И ему тоже очень хотелось изменить свою судьбу, чем он хуже Пастора?
Достав из кармана пачку сигарет, он закурил. Вот только, делать-то что? Вчера он попытался привлечь смотрящего, но так ничего ему и не рассказал, в надежде на то, что одно его внезапное появление сорвет планы или заставит Пастора как-то проболтаться. Это он зря, конечно. Положенец хоть и крут, но по части ума до Пастора ему как до Америки раком. Вопрос сейчас в том, захочет ли Пастор помочь ему? Они давние кенты, неужели кинет? Да нет, так-то вопросов ёк, кинуть может легко. Пастор крученный как поросячий хвост, не одного лоха сожрал. Но попробовать можно же, почему бы и нет? В конце концов, он и сам непрост. И Нечай, кинув окурок в ближайшую урну и не попав, встал и зашел в барак. Пастор все же кент, он его не кидал пока ни разу.
Выходя из сортира, я столкнулся с Нечаем, заходящим с улицы.
– О, Пастор, – тут же обозначился он. – Ты мне как раз и нужен, базар есть.
– Ну, пойдем, – я уже откуда-то знал, о чем будет базар. Знаю я Нечая, не мог он чего-то не заподозрить. И угадал.
Когда мы втроем уселись напротив друг друга. Нечай не стал тянуть кота за хвост.
– Короче, тихушники, я все знаю, все слышал и все понял. И я в деле, мне тоже не в кайф моя судьба. Так-то мне, конечно, похер, но раз уж шанс выдался… Не кинешь же ты своего кента, Пастор?
Я улыбнулся ему так широко, как смог, чтобы только харя не треснула:
– Как ты мог такое подумать, Нечай? Базара нет, ты так и так был бы в деле, когда я убедился бы, что это все не фуфло. Ты же меня знаешь, мы с тобой столько всего прошли!
Нечай заулыбался в ответ, а я подумал, что, наверное, мы и не могли его долго за нос водить, он же постоянно рядом трется. Ладно, будем думать, главное, я знаю, что Нечай – могила, тайны хранить умеет, жизнь научила. Краем глаза заметил, как скривился Сурок, но физику придется и это пережить.
– Ты, главное. Нечай, поперед батьки не лезь, вкурил? Дойдет и до тебя дело, но сначала все испробуем на мне.
Нечай довольно кивнул и потянулся к конфетам. Ну что ты будешь с ними делать, хоть прячь «Коровку»!
Июнь 1979 года.
Лариса вцепилась в руку Андрея, пытаясь разобраться в собственных чувствах. А мысли метались и путались, мгновенно меняя одна другую, так что она даже не могла сосредоточиться: «Боже, это произошло, и это произошло со мной! … Это было не так больно, как мне рассказывали! … Он был внутри меня, ничего себе! … Только поначалу немного больно, но я сам виновата, вся сжалась от страха! … Во мне был его член, прямо внутри меня, офигеть! … А если я теперь беременна? … Я кончила, я точно кончила! … Блин, что делать-то теперь? Он, наверное, меня уважать не будет? … Да, нет, он же не кончил в меня, он успел вынуть! … А если он расскажет всем? … Крови почти нет, всего несколько капель, что это значит? … А вдруг все же в меня что-то попало и я забеременею? Мама меня убьет! … Ленка говорила, что это очень больно, прямо, очень! А мне почти нет, почему? … Он теперь бросит меня? … А Олька говорила, что вообще ничего не почувствовала, а я почувствовала. … Блин, я же кончила, это точно! Но все говорили, что они не кончили. …Интересно, что он сейчас думает? … Надо будет сразу трусы застирать и спрятать, чтобы мама не увидела. Ой, там же его платок! …Ленке расскажу, не поверит! …А вообще, было совсем неплохо, я думала, будет хуже. Это из-за ленкиных и олькиных рассказов. …Платок постирать и вернуть Андрею или выбросить? … Может, Ленка и Олька мне все наврали, и у них еще ничего не было? Или у всех по-разному бывает? Отчего это зависит? … Или сохранить платок себе на память? Хи-хи. …Что он теперь скажет, как поведет себя?».
– Андрей!
– Что, моя хорошая?
– Ты любишь меня?
– Я очень, очень, очень тебя люблю и буду любить всю жизнь!
Ну, все, заревела, этого только не хватало. И платка нет. А платок в трусах! А-ха-ха-ха!
– Лариса? Все нормально?
Она остановилась и прижалась к нему всем телом. Андрей отпустил ладонь и крепко обхватил ее за талию (а другой рукой он велосипед держит!). Она потянулась к нему солеными от слез губами, и они, остановившись прямо посреди тротуара, стали яростно взахлеб целоваться. Ах, как она любит целоваться, это так здорово! Лучше, чем то, что было? Она не знала, то тоже ей понравилось, хотя она боялась, но целоваться – это так приятно! Соски сразу напряглись, и дрожь пробежала по всему телу. Она еще ничего не знала об эрогенных зонах и даже названия такого не слышала, но зато прекрасно уже знала, что может кончить даже от ласкания собственных сосков. Она уже так делала, не надо было даже в трусы забираться. Ну, почти не надо, так, немного. И сегодня она кончила именно потому, что Андрей в процессе стал целовать ее соски, она это понимала. Ей захотелось, чтобы он опять обхватил своими губами ее набухший сосок, и от одной этой мысли в паху обдало жаром. Как интересно! Но она подумает об этом потом. Может быть, все совсем не так, и она не помешана на сексе, просто сегодня такой особенный день. «Хорошо, что месячные позавчера закончились!» – вдруг испугалась она тому, чего не случилось. И тут же забыла об этом. Целоваться было так приятно! Но все всегда заканчивается, хорошо, что этого будет теперь очень много! Она очень любила целоваться!
Она думала, что они пойдут мимо их «Луны», она даже хотела этого, пусть все эти его дружки посмотрят, что он с ней, а не с ними! Но он почему-то повернул на Декабристов, и она не стала спорить: какая разница, где и куда идти, главное – вместе!
В этот раз мы точно не пойдем через Луну, я должен прожить этот день спокойно, без драк, вообще без любых преступлений. Мне вполне достаточно того, что произошло сегодня. Так удивительно, что мой первый раз повторился, и я помню сразу оба! На этот раз я старался все сделать идеально, потому что прошлый раз я, кажется, все же немного слажал – так трудно удерживать свой организм в пятнадцать лет! И я даже почти уверен, что сегодня она тоже кончила. Трудно в это поверить, обычно они в первый свой раз не кончают, но было очень похоже. Спросить? Нет, пожалуй, не сегодня, как-нибудь в следующий раз при случае.
Пожалуй, я был не прочь этот вечер даже зациклить, как в фильме «День сурка», который еще даже не снят. Я ухмыльнулся совпадению названия фильма и погоняло гениального физика-зека, одновременно задумываясь о том, что это очень странное совпадение. И тут же услышал звонкий голосок:
– Чему улыбаешься?
Вот ведь, женщины, все видят, все хотят знать! Но и я давно знаю, как надо правильно им отвечать.
– Я так счастлив быть с тобой, любимая, что не могу сдержать улыбки радости!
Она остановилась, посмотрела снизу на меня и строго спросила:
– Это правда?
– Чистейшая правда, – честнейшим голосом ответил я вниз. Это было легко, правду вообще говорить легко и приятно, как любил повторять один персонаж культового романа. Кстати, я в этой жизни еще ведь не читал «Мастера и Маргариту», мне должны дать почитать эту книжку в самиздатовском варианте и под другой обложкой в лето проведения Олимпиады-80, то есть, через год.
– Я тоже очень счастлива быть с тобой, и очень тебя люблю, – послышалось признание снизу, и я крепко прижал девочку к себе, другой рукой удерживая велосипед. Не то чтобы она была совсем маленькая, вовсе нет, просто сейчас ее склоненная голова лежит у меня на груди, а запах ее волос кружит мне голову. Всегда кружил, кстати, только сейчас вспомнил! Я наклонился и глубоко вдохнул, а потом вдруг поднял голову и проорал в темнеющее небо:
– Остановись, мгновенье, ты прекрасно!
Мгновение не остановилось, но Ларисе понравилось, и она звонко засмеялась.
– Это ведь из Гёте? – спросила она. Ничего удивительного, мне вообще кажется, что наше поколение было образованнее нынешних квадроберов. Хотя, возможно, я ошибаюсь, как и все старики.
– Да, – кивнул я, – из «Фуста». Читала?
– Нет, – призналась она, тут же добавив: – но теперь обязательно прочитаю!
– Я дам тебе книгу, у меня есть в переводе Пастернака, – пообещал я. – Считается, что это лучший русский перевод «Фауста».
Я всегда любил читать, всегда читал много, а в тюрьме стал читать еще больше. Всю жизнь обожал фантастику, но в тот самый год неожиданно увлекся классикой, русской и мировой. Читал всё, что попадалось под руку, и специально искал в библиотеке, где меня давно и хорошо знали. В позднем СССР купить хорошую книгу было трудно, поэтому все, кто был увлечен чтением, были записаны в библиотеки, в библиотеке можно было найти многое.
Неожиданно у меня вырвалось:
– А хочешь, я почитаю тебе свои стихи?
– Конечно, хочу, – тут же ответила она и удивленно добавила: – ты пишешь стихи?
Да, я, блин, писал стихи! Писал тогда, да и сейчас, в свои шестьдесят еще иногда царапаю рифмованные строчки. Что такого? Да, я не гениальный поэт и даже, наверное, не просто хороший, но мне нравится писать. И в девяностые, помнится, даже некоторые мои песни исполняли в кабаках! Что, конечно, то еще достижение…
И я прочитал стихотворение, которое было написано много лет спустя:
Если бы знал я, как трудно уснуть без тебя
Ночи длинны и пусты как забытый перрон
Зимний перрон на закате усталого дня
Где-то вдали простучавший последний вагон
Если бы знал я как трудно без холода рук
Мягких ладошек сжигающий пламени лед
Стрелки часов совершают торжественный круг
Не торопя и не медля размеренный ход
Будет ли утро, не знает никто в этот час
Но каждый верит, что солнце, конечно, взойдет
Солнце мечты в отражении любящих глаз
С мягкой подушки напротив – ресницами влёт.
Некоторое время мы шли молча. Потом она спросила: «Это обо мне?». И я легко согласился: «О тебе, конечно», хотя стихотворение было посвящено совсем другой женщине. Но какое это имеет значение, правда? Мы же читаем стихи самых разных поэтов своим женщинам, невзирая на то, что те посвящали их другим. А это написал я и сейчас посвящаю его той, что идет со мной рядом. Имею полное право. Вон, Бродский в конце своей жизни вообще перепосвятил своей первой любви все свои стихи самым разным женщинам!
– Я не знала, что ты пишешь стихи, – сказала она, и по голосу ее я понял, что она сегодня сражена наповал. Она любит и ее любят, ей даже посвящают стихи! Что еще нужно для счастья в ее шестнадцать юных лет?
Я мог бы сейчас украсть ее и увезти куда угодно, но мне только пятнадцать и дома меня ждут мама с папой. Жаль только, что ничего подобного этой моей любви больше в моей жизни не будет никогда. Будут, конечно, женщины и некоторых я даже буду любить, но вот так уже никогда и никого.
И вновь мы стояли и целовались, а поздние прохожие обходили нас. Некоторые даже комментировали, но все комментарии были добрыми, поэтому мы лишь улыбались, не отрываясь друг от друга. И в какой-то момент мне даже показалось, что все у меня на этот раз получится: жизнь изменится и, может быть, я даже проснусь не на своей шконке в лагере, а, скажем, в семейной постели. И из кухни будут плыть вкусные запахи, а в соседней комнате играть внуки. Наши с Ларисой внуки!
Мы шли, обнимались, крепко вжимаясь друг в друга, словно боясь потеряться в этом огромном мире. Сначала я услышал мотоциклетный треск где-то, как мне сначала показалось, вдали и даже не насторожился. А потом этот треск резко усилился, и прямо из ближайшей подворотни выскочил красный мотоцикл «Ява», ослепив нас фарами. Если бы не этот слепящий свет фар, возможно, я успел бы оттолкнуть Ларису. Я думаю, точно успел бы, но фары слепили, и я ничего не видел. Лариса резко отпрянула от меня, испугавшись, развернулась к источнику звука и света, и в этот самый момент мотоцикл врезался прямо в нее.
Меня тоже сильно толкнуло вбок, я отлетел в сторону и упал. Но тут же вскочил и на миг застыл, не в силах осознать трагедию, развернувшуюся на моих глазах. Упавший мотоцикл заглох, но свет его фары падал точно на мою девочку, как-то неправильно раскинувшуюся на земле, подобно сломанной кукле. И в наступившей тишине я осторожно сделал шаг и склонился над ней. Она еще была жива и даже смотрела на меня испуганными глазами, губы ее дрожали, она, наверное, хотела что-то у меня спросить. Но я не мог оторвать свои глаза от ее разорванного живота, из которого толчками выливалась кровь.
«Ее уже не спасти», – сказал старик во мне, и я с ним согласился: после такого не выживают. Тогда я сказал ей: «Потерпи немного, моя хорошая, я сейчас все сделаю, я быстро», отвернулся и подошел к пытавшемуся встать на ноги мотоциклисту. Похоже, он отделался легкими ушибами. Говорят, пьяным везет, а он был пьян в стельку, что-то мычал. Я посмотрел по сторонам и увидел красный мотоциклетный шлем, откатившийся к дому. Подошел, взял в руки, осмотрел. Я был абсолютно спокоен, просто как-то неимоверно спокоен. Шлем был цел, наверное, не застегнул его убийца моей любви, вот он и отлетел в сторону. Ну, что ж, шлем тоже подойдет.
Я не прогадал, шлем оказался крепким, раскололся лишь после пятого удара. Голова моего личного врага оказалась гораздо менее крепкой. Когда я отбросил измазанный в крови шлем в сторону, он уже перестал дергаться. Возможно, был еще жив, не знаю, мне некогда было проверять. Я должен быть с ней в ее последние минуты.
И я успел. Сел на землю и тихонько положил ее голову себе на колени. Она перевела на меня непонимающий взгляд, и я улыбнулся ей, прошептав:
– Ничего не бойся, я рядом, все будет хорошо.
Наверное, у нее был шок, и она еще не чувствовала боли. Улыбнулась мне в ответ, хотела что-то сказать, открыла рот и из него хлынула кровь. Еще какое-то время я смотрел на нее, потом опустил руку, ладошкой прикрыл ей глаза, поднял голову к проступающим на небе звездам и завыл, как воют волки.
Глава 7
На этот раз мы сидели втроем, Нечай добавился. Надыбал где-то водки, я сразу, как очухался, стакан заглотил. В гробу я видел такие путешествия во времени! Так перед глазами и стояла эта сцена: умирающая Лариса у меня на коленях, а я вою от горя на всю улицу.
Нечай с Сурком остатки водки разлили и молча выпили. Видя мое настроение, спрашивать пока ни о чем не решались. А я даже не удивился тому, что непьющий вроде бы Сурок, от водки не отказался. Думаю, так на него мой рассказ подействовал. Я курил, молчал и «вспоминал» свое новое прошлое. В общем, нет у меня больше сына, и никогда не было, как и нашей с Ларисой свадьбы и совместной жизни. А в остальном все очень похоже. Мотоциклист тот роковой выжил, собака, живучий оказался, даже не пострадал особо. Башку я ему, конечно, пробил в двух местах, и тяжелое сотрясение мозга обеспечил, а в остальном – так, синяки да ссадины. Конечно, это считается по закону умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, но, учитывая то, что я был несовершеннолетним, находился в состоянии сильного душевного волнения, и то, что сам потерпевший насмерть сбил Ларису, по статье 109 УК РСФСР дали мне все те же два года условно. Похоже, эта условная двушка прилепилась ко мне намертво, никак от нее не отвертеться. И есть странное ощущение, что именно в ней все дело. Если мне каким-то образом избавиться от нее, не получить этот условный срок тогда, летом 1979-го, то и все остальное в жизни наладится. Может, и не так, конечно, но очень похоже, не зря же она липнет ко мне как банный лист к голой жопе, что-то это должно значить, очень уж явный намек! Если, конечно, я сам себя не накручиваю.
Было огромное желание прямо сейчас рвануть назад и все исправить, сделать так, чтобы Лариса осталась жива. Пусть даже как в первом моем жизненном варианте, когда мы просто расстались тем летом, пусть между нами ничего не случится, главное, чтобы она жила. Но, как ни странно в этом признаваться, я боялся. Я уже реально боялся что-то делать, чтобы, не дай Бог, в результате не вышло еще хуже. Хотя, с другой стороны, что может быть хуже гибели любимого человека, умершего на твоих руках?
Однако я понимал также и то, что это во мне отголоски моего молодого «я» сейчас бесятся. Я сегодняшний, умудренный годами, видевший много смертей, хоронивший родителей и друзей, знал, что – да, умирать неприятно, но люди вообще смертны, мы все когда-то умрем. Вот если б кто-то жил и не умирал, то это было бы странно, это была бы сенсация, а то, что люди постоянно умирают тем или иным способом – это как раз вполне себе нормально. А Лариса еще и умерла не самым худшим образом – быстро и почти не мучаясь, получается, уже сорок пять лет назад. Так что, спешить некуда. И кто его знает, как все было, если бы она прожила долго? Передо мной был пример моей матери, которой выпала долгая жизнь, но последние лет двадцать она так сильно страдала от болезней, что назвать это нормальной жизнью язык не поворачивался. Я бы не хотел для себя чего-то подобного, не гораздо ли лучше умереть молодым и здоровым, испытав перед смертью сладость любви, уйти на пике, в общем – так, как это случилось с Ларисой? Разве имеет хоть какое-то значение, сколько ты прожил, не гораздо ли важнее как? Или это водка сейчас мне так мозги путает? Хотя я так всегда считал.
– Пастор, хорош уже молчать! – первым не выдержал, конечно, Нечай. – Что хоть случилось-то, расскажи!
Я сначала удивился его вопросу, а потом вспомнил, что просто сказал им, что опять ничего не вышла, и Лариса умерла на моих руках. Ну, я и изложил им, как все было более подробно, а потом уставился на Сурка, поскольку заметил, что он о чем-то очень крепко задумался.
– Коля, – позвал я. – Вижу, у тебя появилась какая-то идея? Ты скажи лучше, не томи, не в том я сейчас настроении.
Тот задумчиво кивнул и ответил:
– Да не то чтобы прям идея, но мыслишка одна вертится в голове, только я никак ее поймать не могу. Найдется что пыхнуть? Мне травка думать помогает, а, Пастор?
Я не сводил с него глаз, пытаясь решить для себя, действительно у него есть какая идея или он так на анашу подсел, что теперь будет выпрашивать у меня ее под любым предлогом? Так и не придя ни к какому выводу, я все же попросил Нечая сгонять к положенцу, и со всем уважением попросить косячок, если есть такая возможность.
– Скажи там…, – я задумался. – Ну, в общем, сам придумай чё–нить, не дурак.
– Ладно, – Нечай встал, хотя было видно, что поручение ему не нравится. Но куда он денется уже теперь-то, когда перед ним самим замаячила возможность что-то изменить в своем прошлом? Вот, интересно только, что именно он хочет сделать? Зная Нечая, были у меня некоторые опасения на этот счет.
В общем, пыхнули мы на троих, травка оказалась забористой, поболтали еще, чайком догнались, а потом Сурок забрал прибор и, сказав, что ему надо немного покопаться в настройках, вышел из отсека. Вот на хера я его отпустил, совсем ума, что ли, нет? Но случившее со мной в прошлом еще не отпускало, а водка и травка расслабили мозги и я, включив на плеере альбом Pink Floyd 1973 года «Обратная сторона Луны», воткнул наушники и завалился на шконку. С ранней юности любил я эту группу, а уж под травку послушать их музыку – это вообще самое то! И, в общем, просрал я Сурка вместе с аппаратом, менты его прямо в локалке повязали, когда он в приборе ковырялся, даже не заметив, когда они подошли. Он вообще, когда своей наукой увлечен, никого и ничего вокруг не видит.
Только эта весть до меня дошла, как я сразу подхватился. Действовать нужно было быстро, пока менты не прочухали, что именно им попало в руки. Теоретически, понять не должны, телефон как телефон, не самый новый и далеко не самый дорогой «Honor» с небольшой царапиной с краю дисплея. По нему даже звонить можно или в сеть выходить, просто дополнительно на нем стоит та самая программка, занимающая около двух гигов памяти и спрятанная так, что, не зная, сразу и не доберешься. А если и доберешься, там ведь на ней не написано, что это такое, как понять? Но опасность есть всегда, если уж что менты зашмонали, так просто они не вернут, даже если не поймут ничего, то с чего бы им запрещенную вещь возвращать? Скорее, отдадут режимнику13
