Колчан калёных стрел
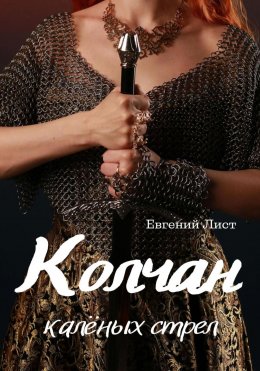
Глава 1. Конец войны
В полях на окраине Синеграда неожиданные для начала осени холодные ветры гнали по небу тучи и трепали светлые волосы воеводы Елисея Ивановича. Чернела выгоревшая земля на месте погребального костра. Немели пальцы. Размеренно билось уставшее сердце. В небе, пророча бурю, кувыркались вороны.
– Здесь.
Черный пепел. Конец его пути. Больше идти было некуда и незачем.
Он ведь знал. Знал летом ещё, но до одури, до безумия надеялся на чудо. Вдруг – ошиблись. Случается – спутали. Бывает же так – жива, потерялась, найдётся.
Нашлась – в списках павших, в чёрном пепле на краю Синеграда. Её лёгкая, чуть поеденная ржой кольчуга лежала теперь у него в наплечнике. На вороте был железный ярлык со скрытым именем ратника – чтобы утаить воина, если будет необходимость. У душегубов, лучших бойцов волшебного мира, такая необходимость была – их в плен не брали, убивая до первой звезды.
Елисей помнил слова волшбы, которыми она скрыла надпись на ярлыке, но, получив кольчугу, не сразу заставил себя их произнести. Слова были: «Чисто поле».
«Огняна Елизаровна Решетовская», – явил ярлык вытравленное её ужасным почерком имя. И надежда умерла.
Он не успел даже предать её огню: из неподобающей воину могилы её нетленное тело вынули другие, и на погребальный костёр возложили другие. Ничего ему не оставили, кроме поржавевшей от крови кольчуги.
– Как? – спросил он почти ровно, но горло всё равно перехватило.
Стоящий рядом витязь пожал плечами – неловко, неуверенно. Переступил с ноги на ногу, вздохнул.
– Не ведаю, Елисей Иванович. Мы только огню их предавали.
Подумал и добавил:
– Маленькая, лёгонькая была. Почти что дитятко.
Елисей не выдержал и зажмурился. Витязь глаза отвёл. Подумал, да и прочь зашагал, оставляя прославленного душегубского воеводу и наставника, княжича Елисея Ивановича Глинского наедине с его скорбью.
Над пепелищем дул ветер и кричали птицы, но Елисей слышал только сумасшедшую, разрывающую голову тишину. Нужно было что-то сделать, чтобы прекратить её: заговорить, закричать, ударить, убить.
Отомстить.
Закончилась тяжкая война, какой на землях склавинов не бывало сотни лет. Пять месяцев минуло с тех пор, как несметные полчища ифритов убрались восвояси, так и не получив желаемого, а голова их кагана украшала лобное место столицы склавинов. Погашенный могучей ифритской волшбой огонь вновь полыхал в печах, а люди и ведьмаки гулко и хмельно отпраздновали победу. Но даже и теперь в лесах и горах, а особенно – в укрепленных приграничных посадах оставалось ещё немало хорошо вооружённых ифритов. Их вытравливали точно крыс и обменивали на пленных склавинов.
Четверо ифритов держали оборону в хорошо укреплённом хороме, затерянном в густых лесах. Небольшой отряд душегубов никак не мог подойти вплотную – от пожелтевшей по осени чащи дом отделяла причудливо изогнутая река. Она петлёй омывала хором, оставляя лишь небольшую перемычку сухой земли, которая, как и сама речка, простреливалась из окон горницы, где засели ифриты. Душегубы, скрываясь от метких луков за толстыми стволами вязов, пускали в хором зажжённые стрелы и то и дело мелькали меж деревьями, вынуждая врагов тратить стрелы впустую.
Наконец, склавинам удалось зажечь подклеть, и волшебный ветерок погнал дым в горницу к ифритам. Откашливаясь, они вывалились из задымленного хорома на крошечный перешеек, оставленный изогнутой рекой, и первыми ринулись в бой, намереваясь подороже продать свои жизни.
Старшего из них бросили в воду с ходу – он почти не сопротивлялся. Другой скрестил мечи с беловолосой душегубкой и совсем юным воином, почти мальчишкой. Оставшихся двоих поделили между собой ещё трое душегубов. Мечи сошлись с оглушительным лязгом, но исход боя был ясен с самого начала: склавинов было больше.
Воевода Елисей Иванович, облаченный в легкую кольчугу, стоял на берегу реки на голову выше боя, и, скрестив руки на груди, смотрел, как его люди сначала выволакивают из холодной воды старого ифрита, а затем одного за другим скручивают всех остальных. Четверо пленных – знатная добыча, которая немало знает и немало поведает.
Что ифриты будут говорить, воевода не сомневался. На указ не пытать пленных Елисею было плевать: они его Огняну до смерти замучили. Потом он, безусловно, отдаст их всех переговорщикам, чтобы обменяли на брата беловолосой Зореславы – яростной душегубки, Елисеевой бывшей юнки. Потом.
Довольные своей работой душегубы бросили пленных на колени перед воеводой.
– Принимайте, Елисей Иванович! – сверкнула счастливыми глазами Зореслава, прослышавшая о планах воеводы и бывшего наставника. И ослепительно улыбнулась другому душегубу, седоватому и высокому, носившему на безымянном пальце такое же кованое обручальное колечко, что и она.
Глинский нехорошо ухмыльнулся в короткую темную бороду и вынул из-за пояса нож с кованой ручкой, украшенной обережными знаками. Ступил к первому из четырех пленных, пнул ногой, побуждая вскинуть голову.
– Отряд.
– Эрлик-хан тебе пусть отвечает, собака склавинская, – рявкнул тот злобно, смело помянув самую страшную ифритскую нечисть.
В ответ острое жало ножа быстро скользнуло у его горла.
– А-а-а!
Елисей вспорол пленнику кожу под подбородком. Страх от пролетевшего у горла лезвия всё-таки мелькнул на смуглом лице ифрита.
– Неверный ответ, – рявкнул княжич. – Повторяю. Отряд?
– Пятый отряд великого Есугея, – выплюнул наёмник, силясь зажать плечом щедро хлынувшую кровь.
Елисей помолчал, вспоминая боевые карты. Душегубы за его спиной переглянулись, тоже прикинули, пожали плечами.
– Прошедшая зима, месяц ренен, – уточнил Глинский, назвав по-ифритски лютый, третий зимний месяц. – Город Синеград.
– Не дошли, – без нового предупреждения ответил ифрит. – К середине весны только под Синеград добрались.
От остальных Елисей Иванович добился и того меньше – их отряды около места гибели Огняны и вовсе не были. Но то по их словам, а доверять ифритам – себя не уважать. Мальчишка Неждан, ещё один брат Зореславы, бестрепетно протянул воеводе верёвку, и Глинский принялся вязать на ней узлы, один за другим. Ифриты похолодели. Такая веревка, обвязанная круг головы и затягиваемая колышком, была простым, но страшным орудием пытки.
– Сзади! – крикнул седоволосый душегуб и вскинул лук.
Почти дюжина ифритов верхом на лошадях показались из-за поворота лесной дороги, да так быстро, что стало понятно, почему их услышали только сейчас: тяжело дышащие лошади почти летели над землёй, подгоняемые разъяренными всадниками.
– К бою! – скомандовал Елисей, отбрасывая верёвку и откидывая крышку колчана.
Душегубы рассыпались по поляне в привычный расчёт. Елисей с Зореславой и Нежданом заняли оборону вокруг пленных. Ифриты сбросили с плеч короткие гнутые луки и пустили первые стрелы. У них не было щитов, и луки тоже не у каждого. На продуманное нападение их появление походило мало. Скорее – на бегство.
– И откуда только взялись, – зло прошипела Зореслава, натягивая тетиву разрывчатого лука.
Глинский выпустил стрелу, попал в плечо одному из первых всадников. Неждан последовал его примеру, но Елисей, бросив взгляд на оставшихся за их спинами пленников, отрывисто велел:
– Неждан, с этих глаз не своди. Без тебя сложится.
– Без тебя справимся, без тебя сложится… А я душегуб, между прочим! – обиженно проворчал мальчишка.
– Душегуб, душегуб, – согласилась Зореслава и заступила брата. – Елисей, мой вот тот, на шакала похожий.
И выстрелила, залихватски прищурив глаз. Смешливая, весёлая, Зореслава была младше Елисея всего на несколько лет – так и не скажешь, что он успел побывать её наставником. Несколько нестройных стрел прозвенело в ответ. Одну особо меткую, с тяжёлым наконечником, Глинский перехватил ладонью у самого горла.
– Елисей! – позвал из-за поворота лесной дороги зычный женский голос. – А заверни-ка мне их!
Показались ещё всадники – душегубы во главе с немолодой поленицей, девицей-богатырем. Высоченная, широкоплечая, красивая, с чёрной толстой косой, она во весь опор мчалась на вороном коне и натягивала тетиву.
– Младлена, – узнал кто-то из душегубов. – Это она их, видать, из соседнего посада выкурила.
– Эх, поленица удалая, на коне сидит как влитая, – пропел кто-то из душегубов, пуская в ифритов две стрелы одним выстрелом.
Ифриты растерялись, не зная, в какую сторону отстреливаться в первую очередь. Не прошло и четверти часа, как душегубы стянули их с лошадей и связанными побросали под сосны.
– Ну здрав будь, буй тур Елисей Иванович, – улыбнулась воевода Младлена Дамировна и с размаху опустила руку на плечо Елисея, едва не вогнав немаленького душегуба в землю. Голос у неё был рокочущим, будто дальние громы. – А пересмотри-ка этих. Ежели верить Ярополку, здесь есть осьмнадцатый отряд Буурала.
– Буурала-отца или сына? – вскинул светлые острые глаза Елисей, поцеловав черную косу Младлены.
– А это уж тебе выяснять, я не умею, – отмахнулась поленица и поглядела на задымленный, лениво горящий хором. – О, а ночуем-то мы сегодня под крышей!
В светлицу потушенного хорома Елисей Иванович пришёл уже затемно. Младлена Дамировна как раз читала заговоры над полуразрушенной окосевшей печкой, надеясь починить. Елисей бросил на лавку колчан и лук в расписном налучье, сел у разбитого открытого окна.
Во дворе слышались песни и смех душегубов, пахло жареным мясом. В их мире вновь горел огонь, и не приходилось больше есть сырую зайчатину и засушенные на ветру лепешки из желудевой муки. Дружинники сидели у костров и всё глядели на пламя, будто на божество – за пять месяцев, что минули с победы, они так и не привыкли к нему. Всё боялись – снится. Опасались – растает, будто морок болотный. Руки тянули и смеялись. И песни складывали – о возвращённом огне и о навек потерянных друзьях.
– Заберёшь моих пленников в столицу? Переговорщики за них Зореславиного брата выменять обещались, – попросил Елисей.
– Чай, не тяжко, – повела плечом поленица, с досадой откладывая печную заслонку. Печь была волшебной, такие редкий мастер класть умел, и починить – тоже не всякий. – Не ладится печурка… А я пирогов хочу – страсть. Что полоняники говорят-то, кстати?
– Не тот отряд, – досадливо огрызнулся Елисей. – Эти Буурала-деверя. Вечно у них все на одно имя да один лик.
Поленица покачала головой, бросила в печку прутик берёзы, которым волшебничала.
– Всю войну пирогов с грибами хотела, – пожаловалась она. – А с победы так ни разу и не сподобилась сготовить, некогда.
Младлена прошлась по светлице, задевая темноволосой головой свисающие со сволока пучки можжевельника, старые и осыпающиеся. Потянула с полки щербатую глиняную кружку, налила стоялого мёду и подставила Елисею. Сама села напротив него на лавку. Сказала тихим голосом:
– Сокол мой ясный, тварей этих на нашей земле не так много осталось, когда и остались вовсе. Как все закончатся, где искать станешь?
– Там, где их много, – криво ухмыльнулся Глинский, принимая кружку. – К ифритам подамся.
Младлена вскинула соболиные брови.
– Ифриты – звери осторожные, а теперь втрое будут. Голову сложишь.
Елисей Иванович сделал вид, что не услышал. Вынул из колчана стрелу, переломил надвое и бросил в печь. Подул на дрова – те зажглись. Огонь промчался по поленьям, но печка по-прежнему молчала.
Младлена Дамировна поглядела на злого, упрямого Глинского и горько скривила губы. Плевать мальчишке на свою буйную голову. А жаль – добрый воин Елисей Иванович. С малолетства в дружине, с юношества – воевода. Княжичи Глинские, славные душегубы, сына в кольчугу повили, с конца стрелы вскормили, под мечами взлелеяли. Всяк его знает, всяк почитает. В восемнадцать, когда иных еще и в дружину не брали, он уже свое отвоевал. И свое ушел натавником в душегубский стан. И себе на голову присмотрел там юнку, как куница ловкую и злую. Выучил на славу, выпестовал, взял с собой на войну и не уберёг.
– С чем пироги печь будем, деточки? – спросила простуженным голосом печка.
– Вышло! – возликовала поленица. – С грибами, милая, с грибами! Я по воду! Елисей Иванович, пригляди-ка за печью, пока…
В горницу не вошла – лебедью белой вплыла дивной красоты девица в алом сарафане. Вскинула на Младлену яхонтовые глаза, улыбнулась медово, засмеялась тихо да переливчато. Рукавом махнула – позади неё открылись двери, без слов приглашая душегубку проследовать вон.
– Эт-то ещё что? – громоподобно рявкнула Младлена Дамировна. – Ты как прошла? Ты чьих будешь?
Красавица подмигнула неожиданно повеселевшему Елисею и приложила палец к губам. Младлена только хотела ухватить гостью, как та вдруг вся ссохлась, уменьшилась – поленица один воздух поймала. Девица меж тем встрепенулась – коса расплелась, обратилась в лохмы, сарафан истаял в воздухе клочьями тумана, черты лица растянулись и постарели.
– Тьфу, чередница! – в сердцах сплюнула Младлена. Чередниц, нечисть с болот да лесов, она недолюбливала – болотные да лесные в войну помогать не спешили, хотя могли, ох, как могли! Всякому молодцу умели так голову вскружить, что тот и дышать забудет.
– Ладно молодцев – очаровала, беспутная! Но как тебя девицы не остановили-то?
Чередница дребезжаще хихикнула и вынула из волос несколько сучков. В печку бросила – огонь загудел радостно.
– Зореславушка, касаточка моя, пропустила, – ухмыльнулась чередница и предупредительно вскинула руку с длинными грязными ногтями, когда глаза Младлены налились кровью.
– Свои, Младлена Дамировна, – подал голос Елисей Иванович. – Это Кошма, чередница из моего стана.
– Дай поговорить, касаточка, – прищурилась Кошма. – Шибко важное дело, шибко спорое. Ступай, голубушка, ступай, печка теста просит… Да ступай ты уже! Елисеюшка, дело важненькое, голубчик, – Кошма бросилась к столу, едва за недовольной Младленой закрылись двери. Выдохнула, заглянула княжичу в глаза.
– Живая, – сказала она, и голос все-таки зазвенел.
Елисей не понял её, сдвинул брови в немом вопросе. Кошма погладила его руки, попросила ласково:
– Пойдём, касатик, пойдём. Живая она.
Глинский затвердел лицом, спину выровнял.
– Меня Любомирушка прислал. Он бумаженьки видал, её бумаженьки в Трибунал передали. Со дня на день приговор вынесут.
Глинский подбородком повёл, не ответил. Кто-то взял её имя. Перепутали. Бывает.
– Ты слышишь меня, соколик? Пойдем, вызволять её надобно, из беды-неволи выручать. Чем-то таким нехорошим около Трибунала пахнет, паскудством пахнет, дружочек. Никого не пущают, всех дружинных прочь выставили, будто особливо злобную судить намереваются. Любомирушке, соколу ясному, и тому крылышки подсекли. Пойдём же, касатик, пойдем, милый. Слышишь меня?
Он слышал, но не понимал. Или не верил. Или боялся поверить. Взглядом по светлице заметал, понять пытаясь – спит, бредит?
Живая?..
Если это не она, он не справится.
– Да что же ты, голубочек, ну вставай же, – причитывала Кошма. – Жива наша Огнюшка. Елисей! Ты слышишь меня, касатик?
Услышав её имя, он встал, едва не уронив лавку. Почти ничего не видя, направился к выходу. Тишина, владевшая им с того самого дня на пепелище, лопнула и посыпалась звуками, запахами, чувствами. Оглушила. Сбила с толку. Повела за собой прочь.
Живая.
Глава 2. Рудники
Душегубка Огняна Решетовская спала и во сне хотела есть. До тошноты, до боли в утробе. Голод мучил её постоянно – когда спала и когда бодрствовала, когда сортировала проклятое золото и когда собирала пальцем последние крупицы каши со стенок мятой оловянной миски. Голод проникал в беспокойные сны о тех, кого она убила и кого потеряла, делая эти сны ещё страшнее.
За последние два года она не ела досыта ни разу. Суровая военная зима в заснеженных лесах без огня и припасов яствами не баловала, два плена у ифритов и вовсе прошли в голоде. Даже когда перед самой победой раненую и истощённую Огняну освободили, вволю тоже не кормили, нельзя было. А победного пира для Решетовской так и не случилось. Зато случились золотые рудники.
Снедь на княжеских приисках давали исправно и по совести, исходя из того, какого весу каторжанин. Чуть меньше, нежели требовалось для сытости – полагалось, что так осужденные и ожидающие Трибунала работать будут лучше. Впроголодь-то золото и моется веселее, и сортируется быстрее. Вот только для отощавшей за долгий плен у ифритов Огняны Решетовской это значило бы верную гибель. Но погибать за здорово живёшь она не намеревалась. Огняна была душегубкой, а душегуб – воин особый, не зря о нем добрая слава проложена.
Всегда ведьмаки и изредка люди, наученные убивать, спасать и воевать как никто другой, душегубы почитались среди склавинов наравне с княжичами. Сызмальства оставившие родной кров ради сложной ратной науки, они знали лишь одну семью – дружину, лишь одно дело – ратное, лишь одну судьбу – землю родную беречь. Они росли с луками в руках, и к возрасту становились столь искусными в волшбе и войне, что один душегуб стоил троих витязей. Душегубов любил простой люд, уважали княжичи, побаивались бояре. Лучшие из них имели право без помех ходить в неволшебный мир, что полагалось великой честью.
Решетовская была проворной от природы и умелой по научению. Славный наставник Елисей Иванович положил не один год, чтобы сделать доброго воина из хилой, мелкой девчонки, какой он встретил её семь лет назад. У него вышло. Огняна снискала славу знатной дружинницы: в ратных подвигах – лютой, в братстве душегубском – верной, в волшбе – умелой. Она прошла войну и два ифритских плена. Пережила позорное заключение под стражу вместо рушников под ноги и лилейника во славу головы её светлой, как полагалось победителю. И уж умереть от голода на княжих рудниках в ожидании Трибунала она точно не могла себе позволить. Вот потому почти каждую ночь, едва отдышавшись от привычного кошмара о минувшей войне, Огня выходила на промысел.
В ту ночь над рудниками стояла мёртвая, недобрая тишь, и в тиши этой Огняна открыла глаза, борясь одновременно с кошмаром и невыносимым голодом. Глухая рябиновая тьма гуляла над приисками беззвучными молниями. Было черным-черно – когда бы не далёкая гроза, не разглядеть ни самих рудников, ни глинобитных лачуг, где ютились каторжане, ни отвесных гор, ни широкой речки, стишавшей здесь ход.
Решетовская с трудом задержала рвущееся дыхание, заставляя себя сделать долгий-долгий выдох вместо дюжины коротких и трудных. Ещё и ещё, пока не уймётся сердце. Ей приснился плен, и умоляющие глаза сестры, и маленькая детская ручка, торчащая из стога соломы. И красный от крови снег, и мужская рука в нём. Всё это нужно было забыть немедленно.
Не думать, не вспоминать, не давать излиться горю – так её учили. Елисей говорил: когда совсем туго, когда вот-вот упадёшь – делай и не думай. Ни о прошлом, ни о будущем, ни о том, как тебе плохо. Делай что угодно, только не стой на месте. Остановишься – мысли тебя одолеют. Одолеют и погубят.
Огняна с силой потёрла лицо, прогоняя остатки сна. Она потом отгорюет своё – когда Смарга, великое пламя справедливости, оправдает её. И радоваться тоже будет только тогда, когда выйдет на широкий двор Трибунала и пойдет по улицам столицы. Когда получит всё обратно – доброе имя славной душегубки, своё место в строю и Елисея, живого и невредимого.
Нужно только подождать. Её учили ждать, учили выживать, думать и побеждать. Справится, не впервой.
Решетовская встала с кучи соломы, переступила несколько каторжан, спавших вповалку на полу, и дошла до подслеповатого окна, выходившего на восток.
– Куда ночь – туда и сон, куда ночь – туда и сон, куда ночь – туда и сон, – проговорила одними губами старинный заговор.
– Что ты колобродишь опять, убивка мерзопакостная, – протянул недовольный женский голос из темного угла. – Что ни ночь – спасу от тебя нет.
Решетовская крутнулась на месте злым волчком, но сдержалась в самый последний миг – очередной драки ей сегодня недоставало.
– Рот закрой и спи, – ответил вместо Огни старый витязь Жихарь, что лежал у самой двери. – Сама народ и переполошишь.
В ответ ему что-то ещё проворчали, мальчишеский голосок шикнул на всех сразу, и снова стало тихо. Огняна легким шагом пробралась между товарищами по несчастью и села на кучу соломы Жихаря, у самых его ног. Удобнее расправила сорочку, подкатала штанины. Оперлась на стену спиной, убрала с лица отросшие волосы, некогда неровно обкромсанные ножом, и принялась ждать. Полыхнула беззвучная молния. Рябиновые ночи – когда есть только молнии, без грома и дождя – коварные ночи.
В этой лачуге их было только двое таких – дружинников в ожидании Трибунала. Остальные даже, кажется, и волшбы не имели. Это были обычные люди, не ведьмаки. Мирные поселяне. Огняну обвиняли в убийстве сорока таких. Всяк знает, что душегубы хоть и уважаемы более прочих, но и опаснее диких зверей. Этим ничего не станет десятками людей положить, когда будет такая потребность. У Огни её не было. А обвинение имелось.
Она знала, что Жихарь не спит. Он вообще спал мало, всё больше смотрел в окно безучастными мёртвыми глазами. Жихарь всё всегда делал одинаково обречённо – и Огняну защищал, и товарищей по каторге хоронил, и муху надоедливую ловкой, но безвольной рукой прихлопывал.
Дружинники, что прозябали на рудниках, были по большей мере одинаковыми – без причины тревожные, без повода взвинченные, они могли застыть посреди работы и в ужасе понять, что на плечах нет кольчуги, а у пояса – меча. Их глаза в панике метались по товарищам, по вершинам гор, не несущим никакой опасности. Их дыхание срывалось, и даже надзорщики не пускали в ход кнуты, отворачивались. Кошмары и внезапные, непрошенные, горячий волной накатывающие воспоминания молчаливо роднили ратников – не меньше, чем прежде роднила одна лепёшка на четверых.
Жихарь же был другим. Он не стонал от ночных кошмаров, как ненавидимая всей лачугой Решетовская. Только глаза открывал и в окно глядел. Ничего не помнил о войне. Будто умер давным-давно.
Огняна теперь до чертей боялась стать такой же – пустой, безвольной, не-живой. Она без конца пускала в ход острый язык и жилистые руки, вгрызалась в скудную жизнь на рудниках, будто злобная куница в хилое куриное горло. Склавины победили в войну, но война победила Жихаря. Огняну она победить не должна. Никогда не должна!
– Спят, – прошептал Жихарь полчаса спустя, когда дыхание каждого каторжанина в лачуге стало ровным и глубоким.
Решетовская, не поднимаясь на ноги, выкатилась за дверь в прохладную осеннюю ночь.
Молнии прожигали беззвучную темень, и обойти сонных вартовых сегодня ей было проще, нежели когда-либо. Два заговора берегли душегубку. Один – дабы дыхание её даже дикий зверь не услыхал, не то что идущий мимо во тьме вартовой, другой – дабы ведать молнию за миг до того, как она хлестнет по небу. Огняна куницей шмыгнула мимо дозора и беззвучно упала под стену кладовой, пережидая новую молнию. Отодвинула тяжелый камень, протиснулась в узкую щель. Убрала с дороги корзину с одуряюще пахнущим хлебом и ободрала в кровь пальцы, приваливая обратно камень.
Воровать из кладовых следовало осторожно, и потому в корзину с хлебом она даже не заглянула. Когда бы обнаружили пропажи, которые невозможно списать на крыс и мышей, стали бы искать виноватых. А что её искать, наглую душегубку с сильной волшбой, которую даже нездоровая земля рудников не слишком-то и притушила? Голодную тощую каторжанку, мелкую настолько, что без особого труда протискивалась в узкую щель? Третья лачуга от ручья, солома у северной стены, между насильником и той повитухой, что иголки нежеланным чадам в родничок втыкала!
Мешки с крупами и сусеки с мукой пахли теплом. В кромешной тьме Огня без труда нащупала пшено, наспех развязала мешок и отправила в рот целую горсть, не проронив ни зёрнышка. Из корзины репы она потянула одну небольшую, сунула под истрёпанную старую сорочку. Хрустеть здесь не стала – услышать могут. Два крохотных кусочка вяленого мяса Огняна сунула за щёки, будто леденцы. Жадно съела горсть квашеной капусты из открытой кадушки. И в поблекшей тьме увидела невозможное – поеденный мышами кусок хлеба. Огня немедленно упала на пол рядом с хлебом, покрошила ногтем надкусанный бок, чтобы было неотличимо от мышиной грызни, и всыпала в рот пахнущее помётом и шерстью крошки. Прожевала. Заставила себя остановиться. Тщательно отряхнулась, вернулась к лазу в стене. И только отодвинув камень, поняла – она просчиталась по времени. Сильно и жестоко. Над горами занимался рассвет, а, значит, на рудниках начиналось движение – вставали надзорщики, повара и кладовики – прозрачные волшебные твари, оберегавшие княжескую золотоносную жилу.
Огняна беззвучно выругалась. Наставник Любомир Волкович заставил бы её за такой промах отжиматься две сотни раз. Ах, как это было обидно три года назад, в душегубском стане-то! В настоящей жизни последнюю дурную отметку ей поставит стрела. Или петля, что вернее.
Решетовская вернула на место репу. Не вспомнила ни одного заговора, который мог бы сейчас спасти.
– Жива, помоги, – пробормотала она и отвалила камень. Будь, что будет.
От кладовых до речки было ближе, нежели до её лачуги, и решение пришло само собой. Огняна отбежала в сторону, так, чтобы казалось, будто она держит путь от лачуги, и, ни от кого не таясь, бросилась со всех ног к воде, согнувшись пополам и тяжело, надсадно кашляя.
– Эй, куда это ты до подъёма, юродивая? – крикнул вслед вартовой, но Решетовская только руку подняла – мол, да не сбегаю я, и закашлялась ещё сильнее, почти задыхаясь.
Она вбежала в холодную осеннюю воду, зачерпнула горстями прозрачные струи и вылила себе на темную макушку. Плеснула на лицо и снова тяжело закашлялась.
– Скоро, кажись, и эту зарывать придётся, – бросил вартовой подбежавшему на его крик товарищу. – Да оставь ты, куда она побежит-то такая…
Тьма серела, и молнии таяли в светлеющем небе. Труба сыграла подъем. Огняна дрожала в ледяной воде, вытирая ладонями бледное лицо с острыми размашистыми чертами. Волшба, или, как ещё говорили, утробный огонь, берёг волшебных от мелких хворей и холода, и потому каторжане умирали не часто. Но всё же доходящая девица не была здесь диковинкой, и вартовые ушли каждый в свою сторону, оставив Решетовскую без присмотра.
На пороге хижины стоял Жихарь. Глядел на идущую к нему мокрую Огняну и качал седой головой. Наклонился, по-отечески одёрнул её мокрую растрепавшуюся рубаху.
– Решетовская, – угрожающе прогремело над их головами. – Долго бегала. Поплохело-то тебе ещё затемно.
Её сосед по соломе, косой на один глаз Чеслав стащил с плеча старенький засаленный рушник – невиданное здесь богатство! – и поднял с земли немаленький камень. Завернул в полотенце, покрутил в руке на манер кистеня.
– Я тебя покрывать не стану, – сказал, усмехаясь, Чеслав, поглядев на остальных каторжан, что толпились в лачуге за его спиной. – Ни тебя, ни старичка твоего. А проучить возьмусь.
Решетовская даже удивилась – он и вправду задумал испугать душегубку таким нехитрым оружием? Или, удачливо снасильничав дюжину девиц, что были без волшбы и ратной науки, обманулся росточком да тонкостью Огняны? Да среди душегубов и мельче её встречаются. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто думает быстрее и лучше.
Ведьма засмеялась – звонко, нахально. И прыгнула первая, вырывая полотенце из руки Чеслава раньше, чем он закончил замах. Ударила ногой по коленям, увернулась от пудового кулака, подсекла тяжелого противника под колени с другой стороны, ударила в живот и, наконец, уронила каторжанина на землю, прыгнув сверху ему на спину. Закрутила полотенце круг шеи Чеслава и натянула. Пусть не так сильно, как могла прежде, и всё же достаточно, чтобы напугать своего поединщика.
– Только тявкни, – предупредила она его на ухо ласковым злобным шепотом. – Ты не первый у меня будешь. Я умею убивать долго и тихо.
Не справившись с накатившей яростью, Огняна ударила Чеслава лбом о каменистую землю и поднялась, горделиво расправив плечи. Длинный меч вартового остановил её, прижавшись острой кромкой к горлу.
Лихое упоение слетело с Огняны разом, одно упрямство осталось в сверкающих глазах да вскинутом подбородке. Её лицо всегда упрямым бывало, даже когда она печалилась.
– Гляди-ка, Тихомир Богданович, рано мы с тобой девочку хороним, – недобро сказал вартовой.
– И кашлять позабыла, – вздохнул второй. – И чего её теперь, к начальству, что ли?
– Не, глядеть на неё будем, – рыкнул первый. – Ну что, своими ножками пойдёшь, али помочь?
Она хмуро отвела от своего горла меч, не порезав обветренную ладонь. Неуверенно улыбнулась Жихарю и пошла с вартовыми.
Тотчас на рудники влетели всадники, разогнав кучку каторжан, что шла к реке умываться. Осадили лошадей, прогарцевали по кругу.
– Шельма Ростислав Изяславович! Решетовская Огняна Елизаровна! Викулич Велеслава Ершовна! Яблоков Иван Никитич! – прокричал гонец во главе конников. – В Трибунал!
Радостный, светлый смех Огняны Решетовской звонким эхом рассыпался над приисками.
В столичном Трибунале было тихо и торжественно. Светлые занавески, которые то и дело задувал в зал теплый ветерок первых осенних дней, отвлекли судью, но необъяснимо радовали подсудимую. Огняна сидела на непокрытой скамье, и внутри у неё клокотало предчувствие свободы. Плевать на страшное обвинение, на навет, на послухов, что оговорили её и не запнулись. Пришёл час спросить у Смарги, виновна ли Огняна Елизаровна Решетовская. Она виновной не была. А Смарга никогда не ошибается.
Никто не мог сказать доподлинно, что есть Смарга. «Смарга суть справедливость», – говорили летописи. Созданная волхвами тысячу лет тому назад, она вобрала в себя искры от огнищ всех склавинских племён, и потому считалась непреклонной и безгрешной. Весь волшебный мир держался на вере в непогрешимость Смарги. Великое пламя, волшебная сущность, невидимая и непостижимая, она вершила правосудие руками судейских волхвов, проявляя свою волю через цвет огня и камней, полотна или воды. По-разному можно вопрошать Смаргу о том, виновен ли подсудимый, но ответ её неумолимо точен.
Ветер подул особенно сильно, взметнув занавесь до самого потолка. Глава Трибунала, длинноволосый старый волхв с цепкими глазами, махнул стражникам задёрнуть тяжелые полотняные занавеси. Те послушались, и музыкой для Огниного уха звякнули кольчуги. Решетовская едва заметно дёрнула уголками губ и опустила долу глаза. Исцарапанные мозолистые руки разгладили мягкую кожу заношенных душегубских штанов, заправленных в её единственные сапоги. Скудная одежда и тусклые волосы, некогда криво отрезанные, а ныне отросшие почти до плеч рваными прядями, придавали ей вид калики перехожей, и это обмануло бы всякого, кто не глядел ей в очи. Потому как чёрные глаза Огняны Решетовской горели так непокорно и дико, что от них можно было поджигать костры.
Согласно правилам Трибунала, в первый день волхвы выслушали объяснения подсудимой и рассказы послухов. Во второй, сегодня, полагалось в полной тишине вопрошать Смаргу и выносить приговор.
Дважды уже воззвали к её безусловной справедливости, и дважды Смарга не ответила. Решетовская молчала. Смотрела на огонь в руках волхва и молчала. Белое пламя – свободна, черное – виновна, наказание определять волхву. Огонь в ладонях судьи был солнечно-желтым. Смарга почему-то никак не могла решить, виновна душегубка Огняна Елизаровна или нет.
Огняна все рассказала. Из какой дружины, кто воевода, как воевала, когда и сколько была в плену, как была освобождена и как добралась до столицы через четыре дня после победы и ещё у ворот была задержана дозорными. Ничего не утаила, нигде не солгала.
Волхв отряхнул с пальцев почти погасший желтый огонёк. Скривился, глядя на обвиняемую. Она не нравилась ему – неприятная, жестокая девочка. Девятнадцать лет, сорок мертвяков на счету, ни на маковое зерно совести. Вчерашняя юнка, выкормыш Глинского. Безжалостный, кровожадный ребенок с нахальными глазами. Огняна, не дрогнув, рассказала Трибуналу о том, как резала горло спящим ифритам и упорно отрицала, что могла поднять руку на мирного. Судья этот вынес много приговоров, ратных на скамье перед собой повидал всяких, и знал – могла. Ничто не ломает так, как война.
Волхв посмотрел на свои пустые ладони, сделал быстрое движение пальцами, и костерок зажёгся вновь. Снова жёлтый. Третий раз за сегодняшнее заседание. Подумал и кивнул писарчуку:
– Зачитывай приговор.
На третий раз будет решение. Не бывает так, чтобы не было. Писарчук схватился за бумаги и затянул хриплым голосом:
– Душегубка Огняна Елизаровна Решетовская обвиняется в ослушании приказу и убийстве мирных поселян из деревни Стрижовки.
Солнечный луч, протолкнувшийся в зашторенное окно, озолотил копья стражников, замерших у стен, посеребрил их кольчуги, сверкнул на гарде короткого меча и пополз дальше по залу под заунывное чтение:
– Было установлено, что на второй год войны в месяце лютом душегубка Огняна Решетовская самовольно оставила дружину Елисея Ивановича…
Темные Огнины ресницы взлетели над чёрными глазами. Гордость и ненависть схлестнулись, и, будь они мечом, писарчуку снесло бы голову. На второй год войны в месяце лютом Решетовская попала в свой первый плен близ Синеграда. По чести попала, раненая не смогла удержаться верхом на разгорячённой, рвущей удила лошади. Но Елисея Ивановича не было в зале Трибунала – ни его, ни кого другого из её дружины не отыскали за пять месяцев. Некому подтвердить, что в плен взята, некому!
…Может, потому что никого не осталось?..
Тяжелая занавесь дрогнула, скамья скрипнула, копья звякнули. Огняна побледнела от страшной своей догадки. Глазами заметала, испугалась. Волхв поглядел на неё пристальнее, брови кустистые нахмурил. Писарчук прокашлялся, заговорил громче:
– В первом месяце весны того же года Решетовская присоединилась к дружине верховых Ратибора Глебовича и в бою применила волшбу о мертвой земле в деревне Стрижовке.
Огняна не знала такой волшбы и деревни не знала. С лютого и до самой победы во втором плену была. Но почему не нашли Елисея? Как можно не найти прославленного душегуба, воеводу и наставника? Нет такого ратного, кто о нём бы не слыхал!
– Как нам сообщили послухи…
Елисей пришёл бы к ней. Не мог не прийти. На рудники не пробился – туда и мышь не проскочит, но здесь, в столице, он не мог не прийти! Почему не нашли Елисея? Она оставляла его тяжело раненым в холодной избе на краю неизвестной деревни. Не выходили? Не справился?..
Володя. Есения. Любомир Волкович, так вовремя подоспевший в последнем бою?.. Нет, ни за что. Когда бы они погибли, на рудники дошла бы весть. Там с новоприбывшими осужденными дружинниками всякие рассказы приходили – и как Младлена Дамировна в плен угодила со всей дружиной, и как её выкупили, и как предательница Полянская под гибель целые отряды подводила. О том, что не стало прославленных воевод Елисея Ивановича да Любомира Волковича, кто-то да сказал бы.
Волхв покачал головой, когда подсудимая задёргалась, и пламя на его ладони дрогнуло.
– Душегубке Решетовской была отправлена весть о том, что в деревне только женщины и дети ниже тележного колеса, и принято решение не нападать. Решетовская ослушалась приказа…
Огняна презрительно бровями двинула – «отправлена весть», надо же. Будто она воевода какой. Тот, кто писал на неё навет, в бою, видать, ни разу не был. Но Смарга не ошибается. Смаргу нельзя обмануть.
На ладони у волхва все ещё желтело пламя. Рядом качались весы с белыми и черными камнями. Сейчас она должна молчать. Белое, чёрное, белое, чёрное. Огонёк в ладони судьи принялся менять цвета. На весах мелькали и исчезали камушки. Маленький камень, большой камень, белый язычок пламени, чёрный язычок пламени. Солнечный луч старательно ощупал лицо обвиняемой – скулы, брови, изломанные к вискам, чуть воспалённые глаза, ввалившиеся щеки. Огняна не отрываясь смотрела на судейскую руку. Пламя правосудия то вспыхивало в ладони судьи, то гасло. Белые и черные камни справедливости появлялись и исчезали на чашах стоящих перед ним весов. Белые, чёрные, белые, чёрные.
– Огняна Елизаровна Решетовская… – начал другим тоном писарчук, подводя итог, и ведьма подобралась, вцепилась в лавку пальцами. Ноги напряглись, готовые нести её прочь отсюда, лишь только огонёк станет белым. Домой, в казармы – искать его, искать их всех.
Ладони судьи сверкнули ярко-черным пламенем.
– Признается виновной…
Пламя вскинулось выше, ещё выше. На Огняну дохнуло тошнотворно-сладким запахом, и пляшущая чернота обвинительного пламени отразилась в испуганных глазах душегубки.
– И приговаривается к высшей мере наказания.
Черный булыжник перетянул белый на весах. Хмурый стражник взял из угла чёрную секиру и воткнул в стену – дабы все видели, какое было принято решение. Девчонку, прошедшую войну с луком в руках, признали виновной и выволокли из зала навстречу приговору.
Глава 3. Высшая мера
Её вели по темным, узким, петляющим переходам. Чадили факелы, шуршали пауки на потолке, метались крысы по углам. Звенели кольчуги и мечи, стучали сапоги. Героиня едва отгремевшей войны, душегубка Огняна Елизаровна Решетовская шла навстречу своему приговору. Ей вернули кольчугу – на ту жалкую горсть минут, пока не приведут в исполнение приговор.
Взбесившееся сердце больно толкало кровь ко всем шрамам сразу и сбивало дыхание. Долгие седьмицы в ожидании суда Огняна жила одной мыслью – не виновна, ошибка, бывает, исправят, вернут всё обратно. Её поведут в Трибунал, великое пламя – Смарга – оправдает невиновную, Огня найдёт своих и станет с ними в один строй. За тысячу лет Смарга ни разу не ошиблась.
Ни разу. До сегодняшнего дня. До черного пламени в руках великого волхва. До приговора к высшей мере наказания за убийство полутора десятка поселян в деревне Стрижовке, которой она в глаза не видела. Обидно умирать в девятнадцать, выжив на поле брани, в плену и в холоде княжеских рудников. Жалко умирать, не узнав ничего, кроме войны и каторги. И страшно. Чудовищно, по-звериному страшно.
Дурак может смерти не бояться, не глядевший в глаза её пустые – может смерти не бояться. Но она видала уже свою погибель, лицом к лицу встречалась. И знала, как это, когда мир уплывает, рассыпается на мелкие звонкие бусинки, когда гаснет разум, когда рвутся жилы в последних неистовых попытках вырваться. Как это, когда неведомые, нечеловеческие силы подымаются из самой утробы не желающего умирать тела – а их не хватает, даже их не хватает. Всё это знала и помнила душегубка Огняна Елизаровна – в плену её дважды вешали и дважды вынимали из петли. Просто так, для забавы.
Свои не вынут. Свои на ногах повиснут, чтобы мучилась меньше.
Ей до тумана в голове хотелось, чтобы вот сейчас живой и невредимый Елисей появился в узком переходе, отбил у витязей свою Огняну и поцеловал. Не косы – не было у неё кос, обрезала. Пусть целует разбитые, поеденные жаром губы. Она бы позволила.
Точно позволила.
Но Елисей не придёт, Решетовская понимала это совершенно ясно. Душегубы не явились в Трибунал на зов волхвов, не сказали, что Огняна Елизаровна не покидала самовольно дружину, что была взята в плен в месяце лютом и потому не могла выжечь дотла никакую Стрижовку. Они не пришли – ни Елисей, ни Володя, ни Есения, ни Любомир Волкович. Стало быть, не осталось никого. Стало быть – одна.
Ещё два коридора, три поворота, ещё несколько шагов, и Решетовскую вывели во двор, где исполняли приговоры. Осеннее солнце ударило в глаза, осветило размашистые черты её совсем юного измождённого лица. Огняна горделиво вскинула голову и полыхнула на витязей непокорными черными глазами.
Двор был маленький, вымощенный камнем, укрытый трибунальскими стенами. Справа – виселица. Слева – яма с кольями, пропитанными бурой кровью. Прямо – Колодец. Обычный колодец, круглый, каменный, с ведром и цепью, на крыше соколы с ястребами расселись – неподкупные, своенравные духи воздуха, гарцуки.
За эти Колодцы дружинники умирали два года. За них погиб Ратмир и десятки тех, кого Огняна любила. Тысячи тех, кого она даже не знала.
За эти Колодцы ифриты положили людей больше, нежели рождается за десять лет.
Потому что Колодцы – право, гордость, честь. Будущее. Благоденствие и склавинов, и ненашей. Потому в минувшей войне лучшие из ненашенских спецназовцев стали плечом к плечу с душегубами.
Не так надеялась их увидеть Огняна.
– Явилась!!! – закричали гарцуки на крыше Колодца, и вместе с яростным криком поднялся ветер, закружил по дворику пыль.
У Огняны похолодело сердце. Она крутнулась на месте, вцепилась несчастными глазами в мрачные лица витязей.
– К-колодец?..
Колодцы должны были стать для неё наградой, а не гибелью. Это было жестоко, нечестно и в тысячу раз хуже висельной петли.
Она глотнула пыльный, раздирающий горло воздух. Лучше виселица. Пожалуйста, лучше виселица. Она не боится, честно-честно.
– Нет… – жалко, моляще. Огняна Решетовская ни разу не просила пощады у врагов, но у своих, у своих же можно?
– Прости, милая.
Кто они – спорить с приговорами Смарги?
У Решетовской мелко, противно задрожал подбородок. Виселица – мучительная четверть часа. Колья – несколько часов. Колодец – месяцы, может, даже годы, день за днём лишающие рассудка. И никто не придёт за ней – некому. Колья! Пускай, она согласна на колья. Она прыгнет сама, так, чтобы наверняка сломать шею. Бросьте её на колья!
Полагалось содрать с осуждённой кольчугу – последнее унижение, изгнание из славного ратного братства. Витязи подступили к Огняне, нахмурились, но глаз не отвели. Им было жаль её – конечно, жаль, ратный ратного всегда поймёт. Решетовская вскинула уже не дрожащий подбородок. И улыбнулась вдруг – лихо, нахально. Руки в стороны развела – рвите, дескать. С чужого плеча кольчуга, хоть не так обидно. За свою, отобранную в первом плену, она, наверное, и подралась бы.
Витязи переглянулись, покачали головами. Бережно распоясали её, расстегнули все ремни и осторожно стянули с осужденной кольчугу, не задев и волоса на криво остриженной темно-русой голове. У ног сложили.
В рвущейся от старости полотняной рубахе да кожаных душегубских портах, без привычной тяжести металла на плечах Огняна казалась себе нагой. Глядела на витязей разудалым чёртом, тянула спесивую улыбку, и чернопламенные глаза были совершенно сухими. Отныне она не была более дружинницей, но душегубкой – душегубкой Решетовская осталась. Её собратья присягают не князю, как прочие ратные. Душегуб колено склоняет лишь перед своим воеводой да своим народом. Она же не предала никого – ни честной люд, ни Елисея.
– Входи! Входи! Входи! – закричали гарцуки.
Решетовской сунули в руки наплечник. Почти пустой – не так много вещей нажила в своей жизни дочка бражников, в семнадцать лет ушедшая на войну и пережившая два плена. Она взяла котомку в охапку, почувствовала сквозь ткань большие пучки лекарских трав – кто-то положил их, презрев все возможные правила. В другой раз Огняна порадовалась бы ратному братству, да теперь не могла. Все силы уходили на то, чтобы высоко держать голову.
Один из витязей вынул ведро, поставил его на край опалубки, протянул руку к Решетовской, но Огняна горделиво мотнула головой. Душегубы не нуждаются в том, чтобы их бережно спускали вниз. Она поглядела по сторонам, закинула голову к чуть сероватому осеннему небу и с силой потёрла лицо руками, прогоняя так и не потёкшие слёзы. Закинула на плечи свою котомку, стала на край опалубки, лихо свистнула гарцукам и бросилась вниз.
Огняна пролетела ледяную воду, больно ударилась коленом, в полной темноте схватилась за какую-то тряпку, приложилась плечом, упала, покатилась вперед и врезалась во что-то большое и относительно мягкое.
– Твою ж кикимору налево! – рявкнула темнота над ухом, и обескураженную, сбитую с толку душегубку с силой оттолкнули в сторону.
Огняна, промахнувшись мимо пнувшей её ноги, не стала хватать темноту наугад. Вскочила, тяжело дыша и пытаясь понять сразу всё: где находится, откуда ждать нападения и как, леший разбери, как она могла не устоять, а потом не ухватить ударившую её ногу?
Юнка Огняна Решетовская и в душегубском стане, и на войне прославилась девицей ловкой: могла верхом, на полном скаку уклониться от стрелы, меж мечами проскальзывала, только локон волос об острую сталь потеряв, из-под секиры в последний миг откатывалась, поединщика за колени подсекая. И всё смеялась. Теперь же – будто погасло что-то внутри, остыло, забралось холодом под рёбра, к рукам-ногам потянулось и жилы в них заморозило.
Она замерла, не решаясь двинуться. Закрыла не привыкшие к темноте глаза, прислушалась, принюхалась. Пахло жилой комнатой, с примесью чего-то слабого, но муторно-острого. Где-то – видимо, за стенами – глухо ругались трое или четверо. Рядом с Огней громко дышал кто-то один – что, в общем, не значило, что больше здесь никого не было. Решетовская открыла глаза в ставшей чуть милосерднее тьме, нашарила взглядом двигающееся пятно, которое казалось чуть светлее густой черноты вокруг. Пятно обижено засопело, тяжко вздохнуло и обреченно поинтересовалось:
– Из Колодца, что ли?
Голос женский, взрослый, усталый. Тон был такой, словно пятно мечтало в эту же секунду затолкать Огняну обратно в Колодец. Ни на маковое зерно угрозы.
– Огняна Елизаровна, душегубка отряда Елисея Ивановича, – представилась Решетовская по уставу.
Темнота проглотила вырвавшийся смешок.
– Зоряна Ростиславовна Лешак, старшая ведьма волшебного каземата номер пять сотен тринадцать, – с едва заметной издёвкой пропела она и добавила задумчиво:
– А ратный – это, знать по всему, не ремесло… Это хворь такая.
– Что? – вскинулась Огняна. О холоде в жилах она и думать забыла.
– Говорю, не имею чести знать Елисея Ивановича, – так до крайности вежливо, что несомненно ехидно ответила старшая ведьма. – А чего заявилась-то ближе к ночи, душегубка?
– Ужель ждала меня утречком, с киселем да караваем? – спесиво фыркнула Огняна, снимая со спины наплечник. – Здесь всегда так темно?
Темнота скрипнула – три шага влево. Запахло печёным мясом и яблоками, и у Огни свело утробу голодом. Она не ела вдосталь страшно вспомнить, сколько. С зимы, должно быть, а нынче была осень.
– Ждали милая, как не ждать – поддразнила Зоряна Ростиславовна вредненько. – Ночей не спали, глаза сломали, столы накрыли, рушники постелили. Престол вот только запаздывает, прости убогих великодушно. Но слово даю, как начистят, так к нам на шестой этаж дотащат.
Голос переливался искренним удовольствием, издеваясь над Решетовской. Душегубка дёрнула плечом, опустила наплечник к холодным ногам. Она мёрзла, непонятно, изнутри как-то мёрзла.
– Лучины, стало быть, не держите?
– Стало быть, – радостно закивал голос Зоряны. – Так во тьме и прозябаем. День за днем. Месяц за месяцем.
Решетовская дёрнула другим плечом, вытянула перед собой руки – вокруг едва проявлялись тёмные пятна: то ли стол, то ли печь. Огняна повела рукой, дабы нащупать это тёмное нечто и немедленно получила удар чем-то острым по пальцам.
– Н-не трож-ж-шь! – рявкнула рядом неведомая тварь вроде и человечьим голосом, но все равно не по-людски.
Решетовская ответила ударом, но попала в воздух. Перья прошуршали над лицом, обдав теплым воздухом с прелым птичьим запахом. Всё-таки старшая ведьма была здесь не одна.
– Ты что, к столу полезла? – издевку из голоса Лешак смыло подчистую, один страх остался. – Эй, как тебя? Сиди, не дергайся! У него столешница все вещи затягивает, даже те, что надеты. Он, паскуда, все мои кроссовки сожрал. А на нас наверняка злой как аспид, мы ему мусор скармливаем, чтоб на улицу не выносить.
Огняна нащупала стену рядом со столом и едва не застонала от облегчения, садясь на пол и прижимаясь к ней спиной. Бросила рядом наплечник, руки на коленях сложила. Вгляделась пятна, что были мебелью и Зоряной, прищурилась, да так и не разобрала.
Ничего. Она подышит немного и обязательно разберётся, как здесь жить надобно. И – чем черт не шутит! – может, даже выживет.
Она всегда выживает. Лет с двенадцати. Дружки родителей-бражников не обидели её ни разу – сбегала, из рук, почитай, вырывалась. Её не забили нагайками купцы, у которых она украла хорошенький кожушок, – увернулась, расхохоталась, схоронилась в лесах. На большой дороге, куда Огняна пошла от голода да злости, её всё-таки поймал молодой воевода Елисей Иванович, но вместо того, чтобы отправить в околоток, забрал с собой в душегубский стан – учиться. И из плена она тоже выбралась почти что целой. Что ей какая-то темнота со спорыми на язык ведьмами и неведомыми птицами! Что ей холод около сердца и неверные ноги? Она выживет. Она получит всё обратно. Тысячу лет душегубы ходят через Колодцы к ненашим – с помощью и за помощью. Не может быть, чтобы ни один без волшбы не оставался, и чтобы ни один из того не выбрался.
За стенками перестали ругаться, смеяться начали. Крылья снова прошуршали над ухом, и птица села где-то неподалёку.
– Ж-ж-р-р-а-ть? – поинтересовался все тот же страшный и непонятный голос прямо над ухом.
Решетовская дёрнулась и рявкнула:
– Отзови свою тварь, не то шею ей сверну ненароком.
– Уйди от нее, Воробей, девочка дикая, – вздохнула Зоряна. – Небось, в своей стае всех волков перекусала.
– Кам-м-м-амбер-р? – гневно проскрежетало теперь уже сверху. – Р-р-рать пер-р-р-рекатная!
– Яська сыру принесет, обещала.
Справа что-то гулко ударило и противно прогудело. Вроде далеко, но Огняна подобралась, насторожилась. За спиной ухнуло и грохнуло.
– Что это?
– Соседи, – ответила Лешак. – Патимат свой велик бросает где попало, об него все спотыкаются.
Снова что-то грюкнуло, потом затарабанили совсем близко, и повисла тишина.
– Что примолкла, престольная? – неожиданно мирно поинтересовалась Зоряна. – Электричество должны отремонтировать через часик, аварийку вызвали. Но Яська свечи раньше принесет, у нее работа до девяти. Дольше работать нам нельзя – повесят.
– За работу повесят? – уточнила Решетовская, не слишком удивившись. Отчего-то же живут осужденные не дольше дюжины лет.
Воробей где-то в темноте встрепенулся, заскрежетал, зацарапал. За стенкой зашелестело, и дверь распахнулась.
– Зорюш, ты как? Чего темень такая? Снова по телефону мультики без зарядки смотрела? – ласково-весело пропел новый голос.
Появился огонек. Бледно-голубой, как те, что блуждают по погостам и мучают людей. В посветлевшей темени в каземат скользнула девичья фигура – тонкая, легкая. Мелькнул подол платья, длинные косы. Здоровенная сумка, звякнув, упала на пол. На миг запахло сосной, от чего у Огняны перехватило горло.
– Ясь! – обрадовалась Зоряна. – Свечи принесла? И спички? Моя ты красавица! А камамбер? Воробей уже весь мозг вынес своим нытьем!
– Кл-л-л-евета! – рявкнула птица. – Нав-е-е-т! Бр-р-р-и!
– Ты еще мюнстерский попроси, – хмыкнул тот же веселый голос. – Я пироги купила, давай…
Косы метнулась в Огнянину сторону, легкая фигурка шагнула за косами, споткнулась о душегубку и рухнула прямо на Решетовскую. Обе вскрикнули.
– Прости, прости, пожалуйста, тебе больно? Извини, я тебя не увидела! – ласковые руки немедленно схватили Огню за плечи и были крепко, но не больно перехвачены сильными ладонями.
– Не нужно ко мне касаться… – сказала Решетовская ровным голосом.
– А то без пальцев можно остаться… – ядовито пропела Зоряна, шебурша сумкой.
– …особливо в темноте и со спины, – закончила душегубка и отпустила невозможно тонкие руки.
– Со спины никто не любит, – очень мягко сказала упавшая на нее ведьма и слегка отодвинулась.
Чиркнула спичка, зажглась свеча. Потом вторая, третья. Пятна стали мебелью и людьми. Невнятная пернатая тварь – попугаем на люстре. Каземат – простой ненашинской комнатой, какие Огняна видела на картинках.
Перед Огняной на коленях стояла девчонка немногим старше ее. Лицо тонкое, как тенями нарисованное. Глаза темные и странные, к вискам словно вздернутые. На грудь переброшены две медные косы. Так у волшебных полагалось носить незамужним. Девчонка посмотрела на обрезанные волосы Решетовской, но с колен не встала. Улыбнулась как-то прозрачно, или, может, это в полутьме показалось. Сказала ласково:
– Меня Ясна зовут. А тебя?
– Огняна, – ответила душегубка мирно.
– Из Колодца? – в нежно-веселом голосе трепыхнулось тоска, будто Ясна скучала по Колодцу.
– Да.
– Голодная, наверное? Садись, ужинать будем! – рыжая легко вскочила на ноги и кинулась к своей сумке. – Зорюш, что у нас со светом? Гарум счетчик ремонтировал?
– Семицветик интернет улучшала, – буркнула Зоряна, расставляя на столе тарелки и двигая свечи. – Нож принесешь? И воду поставь на чай, горячего хочется.
Ясна взяла в руки тот самый голубоватый огонек – мобильный телефон – и выскользнула из комнаты, оставив Огню с Зоряной.
Зоряна принялась накрывать на стол, а Огняна быстрыми, внимательными глазами осмотрела свой новый каземат. Просторный, полутемный, полусветлый. Две койки, две тумбочки. Один громадный шкаф. В углу – сучковатый стол, к которому она едва не коснулась. У окна – другой стол, в клетку. За распахнутым окном – высоченный тополь, ветками в каземат просится. Большая белая тумба, уставленная посудой, холодильник. На полу – потертый ковер, на стене – жуткая картинка с лысой кошкой. Здоровенный попугай качался на люстре, рискуя оторвать. Серый, с красным хвостом и громадным клювом, он перебирал устрашающего вида когтями по изогнутым рожкам лампы и совсем по-человечески щурился.
Старшая ведьма на новенькую не глядела, всё сновала у стола. В ней не было совершенно ничего волшебного, разве только речь, и то не всегда: Зоряна говорила, густо пересыпая привычные обороты ненашинскими словами. Была она не юна, лет под сорок, а выглядела точно скоморох. Светлые волосы с одной стороны обкромсаны рвано, с другой – по висок. Ногти на руках длинные, загребущие, как у Кощея, и разноцветные, что у покойника. Перстни чуть не на каждом пальце. Вкривь и вкось натянуты две кофты, а порты в обтяжку, так еще и с дырками. Душегубка вздохнула, глядя на голые колени соседки. Ну ладно, живут они бедно, но могла бы и заплаты поставить, невелика премудрость.
– Садись, престольная, – усмехнулась Лешак и подтолкнула к Огне табурет со спинкой. – Поужинаешь с нами?
– Я не престольная, я ратная, – спокойно ответила Решетовская.
– Ве-е-е-с-ш-ш-ш-ело! – рявкнуло с люстры.
– Огняна Елизаровна, это Воробей, – представила Зоряна все с той же издевкой. – Воробей, это Огняна Елизаровна.
Душегубка уставилась на три колечка в ухе у Зоряны и неожиданно спросила:
– Почему повесят за работу после девяти?
– А у нас комендантский час, солнышко ты ласковое. С десяти вечера до шести утра из дому не выходить. Ежели надзиратель заглянет неурочно, повесят тебя высоко и быстро. А нам батогов пожалуют, коль не донесем. Но вообще, надзиратель здесь – душа-человек. Заглядывает по четвергам. Тебе чай с малиной или смородиной? Зовут его Мирослав Игоревич. Разговаривает бровями, видать, боится на нас слова расходовать. Меда нет, сахар только. Яблоко возьми, душегубка Елисея Ивановича. Уверена, там где-то, среди твоих, он человек известный. А тут мне на него плевать с покатой крыши.
Решетовская прикрыла глаза, подбородком дёрнула. Надо было уточнить, что ли, что не трогать – это не только руками? Она ж и ударить может, в самом-то деле.
В комнату вошла Ясна: в одной руке – тарелка, в другой – чашка, в зубах – нож. Лешак вмиг рядом оказалась, нож забрала, на подругу рыкнула. Та засмеялась, Зорю в щеку поцеловала, ткнула пироги с чашкой на стол. Повернулась к душегубке, заговорила радостно и ярко, словно ручьем по камням ударила:
– Ешь, пожалуйста, ты ведь голодная. Яичницу мо гу сделать, хочешь? Или вареники сварить, с картошкой и грибами они вполне съедобные. У нас еще колбаса была. Зоря тебе мяту заварит, если любишь, вода скоро согреется.
Ясна, в отличие от Зоряны, была удивительно волшебная. И нет, дело было не в синем и длинном платье или рыжих косах. В ней было что-то такое прозрачно-легкое, словно темная вода под ивами. И Огняне вдруг очень захотелось узнать, что у Ясны за волшба была – там, до Колодца. И что за отметины виднеются на сгибе локтя.
– Колбасы? Вареников? – повторила она.
Решетовская моргнула, Воробей свистнул, Зоряна вздохнула, хмыкнула и молвила чуть ли не ласково, на Ясну глядя:
– Не стоит волшебного с первого дня ненашенской колбасой кормить, птица моя. Пусть познаёт радости этого мира понемногу, с пирогов начиная. Поешь, Огняна Елизаровна. А то уж больно ты стройная, того и гляди – переломишься.
Огняна откусила пирог, огляделась еще раз, ничего не понимая. Каземат страшным не выглядел. Да только всякий ведал – по ту сторону Колодца без волшбы никто не выживал. Смелые с ума сходили, умные из окон прыгали, сильные чуть не на коленях умоляли забрать – хоть на рудники, хоть в яму с кольями. А эти девчонки, бледные и хилые, здесь смеются, зубоскалят и пироги едят. Скрывают что? Обманывают?
– Огняна, бульон пей, – прошелестела Ясна. – У Самиры просила, она у нас тут лучше всех готовит. А тебе полезно. И пирог еще возьми. С грибами.
– Надеюсь, ты, Огняна Елизаровна, пироги с грибами уважаешь, – вздохнула Зоряна, – а то ни я, ни Яся их не едим, но она вечно хоть один, да покупает. Вообще, должна тебе сказать, что жить здесь почти сносно, особенно, ежели жить по правилам. Нарушать их – вольному воля, но коль поймают тебя – сразу вздернут. Расскажешь кому про жизнь волшебную – немедленная смерть. За черту города – немедленная смерть, в Колодец прыгнешь – немедленная смерть, а лекарства ненашинские при хвори какой решишь попробовать – тоже смерть, но уже медленная. Потому за здоровьем следи, как за кольчугой своей, одевайся тепло, под дождем не бегай, в лужах не плавай. Принесешь сюда хворь – все сляжем.
– Что значит – сляжем? – нахмурилась Огняна. – А лекари наши на что?
Испокон веков послы, лекари и душегубы тайно ходили через колодцы в неволшебный мир. Послы договаривались с ненашинскими правителями о торговле и помощи, душегубы отправлялись на задания со спецотрядами силовиков, а лекари, не показывая волшбы, врачевали сложные болезни.
– А, ты об этих, – Лешак сняла с большого пальца широкое серебряное кольцо.
– Каких таких «этих»?
Улыбка Лешак искривилась.
– Чистая ты душа, которая верит всему, что ей в уши нашепчут. Колодцы они, конечно, наша честь, и гордость, что там вам еще воеводы говорили? Да вот только лекари…
– Зоря, – тихо уронила Ясна, глядя на Воробья.
– …плевали на осужденных, которые здесь без волшбы в горячке бьются. У Ясны Владимировны поинтересуйся, коль не веришь.
– Зоря! – громче и жестче позвала рыжая.
– А все потому что осужденные Верви не заплатят, а ведь…
– Зоря! – рявкнули в один голос подруга и попугай, и Лешак рот захлопнула так, что зубы щёлкнули.
– Прости, Огняна Елизаровна. Не слушай меня, здесь боль сердечная с лекарями этими. Потом, коль интересно будет, растолкую.
Решетовская коротко кивнула – в ворохе её новых бед и забот лекари были далеко не главной печалью. Рыжая меж тем споро ломала хлеб по тарелкам, нарезала сыр и яблоки. Насыпала конфеты в ярких обёртках – Огняна улыбнулась даже. Любомир Волкович приносил такие юнкам, когда возвращался из командировок к ненашам – наставники то и дело уходили на задания. И Елисей Иванович уходил чаще других. Но подарков ей не приносил. А иногда ещё и не глядел.
Меж тем Яся села за стол и очень мягко сказала:
– У тебя дня три-четыре есть, пока сны кошмарные присылать не начнут. Гадость они редкая: и когда сама смотришь, и когда тем, кто рядом, показывают. Но зато стены зачарованы так, что неволшебным соседям почти не слышно, что у нас в каземате делается. Удобно очень, когда кричать хочется.
– Я от кошмаров не кричу, – не без бравады сообщила Огняна и откусила ещё пирог.
– Дак таких ты ещё не видала, смелая ты наша, – вздохнула Лешак. – Для нас анчутки стараются, а они твари злобнючие. Самое страшное показывают из того, что ты в жизни повидала.
Огняна удержалась и не хмыкнула.
– Ничего, придумаем, что делать, – пообещала Ясна и ободряюще улыбнулась Решетовской. – Пока темно, может, помыться хочешь? Ванна вроде свободная, свечи возьмешь в собой. Пока одёжу твою явят, никто и не приметит, что в ратном.
В темном, тусклом коридоре не было, пожалуй, только парочки рогатых чертей, а так всё имелось – мусор, сломанная мебель, развешанная стирка, обувь, горшки с цветами, какие-то ненашинские вещи, на которые скудные знания Огняны Решетовской не распространялись. Откуда-то пахло горелым, жареным и удушающе-ядовитым. Оттуда же говорили и смеялись.
– Знакомься, Огняна, это – коммунальная квартира, – без капли издёвки очень грустно сказала Лешак.
В ту же минуту по глазам ярко и больно ударил свет, по ушам – крик попугая «Пол-у-у-у-у-ндра!», и Зоряна немедля втолкнула Огню обратно в каземат.
Глава 4. Коммунальный каземат
Едва Ясна с Зоряной втолкнули Решетовскую в комнату, как в каземате заскрежетало, заскрипело и затрещало. Запахло полынью, свежим хлебом и жжеными перьями. Лешак, торопливо отпустив локоть душегубки, скомандовала:
– Ясь, затворяй скорее.
Рыжая захлопнула дверь так, что стены задрожали, Зоряна повернулась к Огне и уже собиралась всё объяснить, как Решетовская, не удержав между ведьмами равновесия, споткнулась и упала грудью на волшебный стол. Тот радостно хмыкнул, чавкнул, подцепил сучком драную рубаху, что была на душегубке, и потянул в себя. Послышался треск ткани.
Ей повезло, что упала не навзничь – тогда бы одежда придушила сразу, не дав и повернуться. Огняна нашла ногами пол, ухватила руками льняные тесёмки на вороте и рванула что было сил. Оторвала, выиграв себе ещё немного времени и ловя ртом воздух. Паника толкнулась к горлу. Хорошо знакомая, каждой её жиле известная.
Ясна бросилась к Огне – ухватила за плечи, потянула сколько могла сильно.
– Уйди, тебя затянет, – рыкнула Решетовская, не тратя время, чтобы оттолкнуть рыжую.
Сражаясь одновременно со столом и животным ужасом, она обеими руками изо всех сил тянула в разные стороны душащий ворот и проигрывала – стол был явно сильнее оголодавшей девчонки. Изношенная ткань рубахи трещала и рвалась, столешница жадно проглатывала куски, но отделанный тесьмой ворот был ещё достаточно плотным, чтобы сломать душегубке шею.
Зоря дернула Ясю на себя, и, оторвав, наконец, от душегубки, злобно рявкнула:
– Не лезь, ты ей мешаешь!
Прежде чем Ясна успела рот открыть, а Зоряна – объяснить, Огняна потянула на себя столешницу, опрокинула стол на бок и упала вместе с ним. Уперлась сапогами в проклятое дерево, вонзившее сучковатые ножки в стену каземата, вдохнула поглубже и с громким криком выровнялась, всё-таки выдрав из чавкающих недр свой ворот. Ударилась головой об пол, скорее вытянула ноги из почти утонувших сапог и откатилась подальше от деревянного чудовища, смачно дожёвывавшего её одежду. Стол выдал неприличный звук и прыгнул вверх, становясь на ножки. Замер, застыл, будто ничего и не было.
Решетовская сидела на полу, тяжело дыша. Босая и почти нагая, мокрая от пота, Огня была ярко-алой – ткань натерла иссохшую на рудниках кожу. И тем ярче белели на её выступающих рёбрах белые бугорки и прожилки шрамов. Нелепые, невероятные на совсем юном теле, пугающие и, что греха таить, некрасивые. Зоряна на душегубку не глянула. Неохотно выпустила Ясю из рук. Рыжая отступила от подруги, и, глядя на Огняну во все глаза, схватилась за косы. Тотчас в каземате снова заскрежетало, затрещало, и все трое дернулись на звук.
У стенки напротив окна из распахнувшегося паркета медленно, качаясь и постанывая, поползла железная койка. Зловредный стол приветственно вздыбил доски на столешнице и заскрипел в унисон. Койка ржавой ножкой пнула сундук, безуспешно попыталась расправить провисшую сетку, хрустнула, выплюнула комковатый матрас, на него – серую застиранную простынь, вытертое одеяло, вылинявшее полотенце, джинсы, футболку, куртку. Качнулась, фыркнула, и, наконец, застыла.
– Я, между прочим, хотела сюда тумбу передвинуть, – тускло сказала Зоря и скорчила гримасу койке, словно та живая была.
Потом вдруг будто очнулась – станом даже изменилась, выровнялась, закаменела. Все еще не глядя на соседок, обхватила себя руками и отошла к окну. К ней метнулся Воробей, сел на плечо, затрещал что-то на ухо – тихонько да ласково. Старшая ведьма выдохнула громко и дико как-то, зашептала в такт с пернатым.
– Это моя, стало быть? – просипела Огняна, указывая подбородком на койку, всё ещё мелко подрагивающую сильно провисшей сеткой. – Ну хоть не второй стол, и то слава богам.
Не дожидаясь ответа, душегубка стянула через голову остатки ворота, потёрла горло холодной ладонью. Шея у неё и без того болела частенько – развлечения ифритов с виселицей даром не прошли. Теперь же седьмицы две беспрестанно мучить станет.
Медленно поднявшись с пола, Рештовская столкнулась взглядом с Ясной. Рыжая смотрела ей в глаза, но как-то так смотрела, что душегубка поняла – эта, в отличие от Лешак, которая по тумбе убивается, все шрамы разглядела. И от меча, что через всю грудь шёл. И два от стрелы на левой руке. И, может статься, даже отметину от петли под ухом. Огняна в ответ грустно улыбнулась поджатыми губами и покачала головой – не нужно, пожалуйста. Она ненавидела, когда её жалеют.
Ясна прикусила губу, отвернулась, перекинула Огне казённую футболку с койки. Та поймала, невольно порадовавшись, что хоть здесь справилась, принялась крутить в руках. Нашла горловину, неумело всунула голову. Рыжая меж тем нырнула в шкаф, достала одеяло и пушистые тапочки. Тапочки положила перед душегубкой, пристроила одеяло на ее кровать. Сказала тихо очень:
– Сапоги жалко.
– Любит он обувку, тварь сучковатая, – странным голосом ответила Зоряна. Совсем странным, словно плакать собиралась. Потом злобно прищурилась, подошла к столу, подхватила из угла и перевернула над ним мусорное ведро. Ошметки, огрызки, обрывки рассыпались по столешнице и засосались внутрь. Старшая ведьма вослед злобно рыкнула:
– Приятного! – и от души долбанула по столу ведром.
Ведро, ясное дело, доски тоже немедля затянули. Зоряна глубоко вдохнула, повернулась, уставила глаза на душегубку и продолжила уже твердо и жестко:
– Не подходи к нему, не смотри, даже не дыши рядом! Слышишь, Решетовская? Не желаю о твоем бездыханном теле надзорщику докладывать!
– А то он, как придёт, так и не заметит, – фыркнула Огняна, и обе расхохотались.
Ясна закатила глаза, подошла к двери и прислушалась к коммуналке. Еще послушала, вздохнула:
– Ну всё, ванну Теф занял, поёт.
Старшая ведьма скрестила на груди руки и принялась изображать из себя наставника:
– Значит так, Огняна, внимай: если Воробей «Полундра» вопит – волшебное что-то будет, делай что хочешь, но от соседей закрывай.
– С соседями не ссорься, если что – мне скажи. Нам положено с неволшебными в мире и благости жить, – поддержала рыжая.
– Подарки принимай осторожно, нам можно только то, на что заработали, или нам от чистого сердца подарили.
– Не вздумай есть ту гадость, которой эта тварюшка кормит, – Ясна кивнула на волшебный стол. – Мы сами готовим.
– Надзорщику не перечь, он…
– Мо-о-о-лчать! – рявкнул со шкафа Воробей совсем человеческим голосом.
Девчонки весело переглянулись, но послушно умолкли. Решетовская улыбнулась – уж больно знакомо птичка приказы отдает, почти по-ратному. Попугай перепорхнул на подоконник, оглядел Огню с ног до головы сначала одним глазом, потом другим и припечатал сурово:
– С-с-ыр-р-р-р. Ба-а-ан-а-нан. Ор-р-ехи.
Яся почесала птичку под брюхом, тотчас напряглась, кинулась к двери, лязгнула замком:
– Девочки, мигом! Освободилась!
Коммуналка рухнула на Огняну грохотом, скрежетом, непонятными запахами и каким-то безумным кавардаком. Полутемный коридор радовал глаз невыносимо. Стены темнели дырами, хрустели лыжами, шуршали странными душегреями, которых Огняна не видала даже на картинках, а ещё были густо обмотаны толстыми проводами. С потолка струилось постельное – сохло. Торчащие там и тут белые коробки щетинились распахнутыми круглыми дверками – зацепишься, упадешь, шею свернешь. Между досок пола щели были небольшими – так, в пару пальцев. И везде двери. И все разные.
Ясна махнула рукой, намереваясь ещё что-то сказать, как тут под ноги девчонкам бросился ярко-белый кот, выгнулся, злобно зашипел. Огняна через него перепрыгнула – легко, красиво. Да только споткнулась, на подкосившейся ноге повалилась в сторону. Грохот, звон, стон – и некогда самая ловкая душегубка Елисея Ивановича лежит в грязном углу, плечом в громадное ведро со щеткой упирается, глазами потолок прожигает.
Зоряна прищурилась, отвернулась. Ясна взглянула на душегубку чуть ли не с ужасом, снова за косы схватилась. Спросила тоскливо, словно о покойнике говорила:
– Ловкость, да? Волшба была твоя утробная?
– Пустое, – натянуто улыбнулась Решетовская, вставая. – Не так и велика потеря.
Она тяжело, горячо дышала, тонкие губы едва заметно подрагивали от обиды. Душегубка показала на виднеющийся в вырезе футболки шрам и горделиво добавила:
– Знать по всему, и хуже бывало.
– Ага. А я вчера покрывало жевала, – мрачно отбила подпирающая стену Зоряна.
Решетовская в ответ только глаза сощурила – справится, сильная. Будет полагать, что ранена – да мало ли она сотворила раненая! И убивала, и спасала, и в дружину в бой вела. Побеждает не тот, кто гибкий или быстрый, побеждает умный. Она будет упражняться, вернёт силу исхудавшему телу, и это заменит ей ловкость. Под рёбрами да в руках-ногах холодно? Потерпит – в снегу ночевала, но полах каменных да соломе жиденькой. А ещё найдёт отсюда выход. Сотни дорог, что для других непроходимы, для душегуба – лёгкая горная тропка.
Когда-то Огняна пришла в душегубский стан слабой и неумелой, в половине наук три года последней числилась. Дочка презренных бражников, скотина бессловесная, она из жил вывернулась, чтобы стать душегубом – человеком, чтимым наравне с княжичами. И сдюжила: одной из лучших юнок была, когда на войну пошла, а с войны вернулась славой по макушку укрытая. И теперь сможет. Справится!
Решетовская улыбнулась шире да самоувереннее, лихо тряхнула головой. Ясна отвела глаза на эту улыбку. Зоряна улыбнулась в ответ широко, издевательски. Буйно-горько-понимающе. И фыркнула снисходительно:
– Само собой, птица наша подстреленая. Верь, надейся, жди. Да только, когда бы то помогало.
Ясна, будто не слыша обеих, заговорила очень весело, заметала вокруг себя пальцами, объясняя:
– Там кухня, тут ванна, вон выход, ручку вниз и от себя… здесь наш свет, эта Викина дверь, к ней не стучи, когда она шьёт. Синяя – Самира с семьей, там дети и музыка всегда. Черная дверь – это Семцветик, никогда с ней о муже не говори, а если спросит, Тефа только хвали. Вот это – наша стиралка, потом расскажу как включать, вот там вешалка… Направо пойдешь – на кухню придешь, только в коридоре свет на левой стороне сразу включай, не ходи в темноте. Патимат вечно свой велик бросает где ни попадя… На кухне наш стол у двери слева, плита у окна справа, и черный ход там есть, покажу потом. А, вот ещё…
В коридоре затрещало и зазвонило, тарахтя колесами, въехала ржавая двухколесная повозка, замотанная ленточками – велосипед. Верхом на велосипеде восседала круглая, как головка сыра, девочка лет трёх с яркими глазами и неприбранным стогом на голове. Залопотала что-то непонятное, подхватила с пола шипящего белого кота, ломанулась колесом в синюю дверь. Та со скрежетом распахнулась, и в коридор вползла заунывная тягучая музыка и звон тарелок.
На то, что юнцы в стане учили о ненашах, коммуналка походила мало.
Яся толкнула другую дверь, грязно-белую – в ванную. Огняна переступила порог и застыла, уткнувшись глазами в стену. Стена была странная, неровная, в густых белых потеках, из-под которых просвечивали треснутые плитки. Лавок не было, вёдер с водой не было, зато из двери торчали пять или шесть солнц в клетушках – лампочек. Ещё на толстой ножке располагалась маленькая лохань. Как она называется, Огняна не помнила.
– Яська, пусти, очень надо! – рявкнул из коридора чуть сипловатый женский голос.
Огняна обернулась и на всякий случай моргнула. Перед ведьмами нетерпеливо подпрыгивала девица в прозрачной короткой рубашке с лицом, вымазанным не иначе как болотной тиной, и волосами, густо испачканными чем-то ярко-синим.
– Ванну не забудь потом от краски оттереть, – неожиданно хмуро отозвалась рыжая, но сделала Огняне знак отойти.
Грязнолицая нырнула в ванную, послала Ясну к черту. Она одновременно включала воду, сдирала с себя рубашку и пинала ногой дверь, закрывая.
– Это надолго, – вздохнула Зоряна. – Пока наша Каринушка маску смоет, пока волосы выполощет, пока крем подберет, пока брови пощипает. Пошли, в коридоре подождем.
Коридор, вернее, тот его кусок, откуда можно было попасть в ванную, был вполне себе просторный. По центру стояли всего две стремянки, а на ступеньках у них красовалась обувь. Зато наличествовал старенький диванчик и кривой стул. Там ведьмы и расселись, там и умолкли надолго, каждая о своём думая. В квартире звенело, гудело и топало, носились коты и иногда пробегали люди, а потом снова пустело. Устав от невесёлого молчания, Яся повернулась на стуле, обратилась к душегубке:
– Без волшбы ломает дико. Вдруг кричать захочешь – кричи. Мы с Зорей и так на работе обычно, а в каземате стены зачарованы, соседям не слышно будет, только как что-то глухое и очень далеко. Ты кальян куришь? Давай, одолжу у Тефа? Отвлекает.
– Огняна у нас девица ратная, из душегубов будет, – хмыкнула Лешак. – А потому, ясное дело, в лесах-горах своих каждый вечер кальян покуривала.
Решетовская подняла бровь, но промолчала. Про кальяны никто из наставников как-то не упоминал. Но кричать она не собиралась, потому уточнять не стала.
Ясна на Огняну посмотрела вдруг странно, лоб запястьем потерла. Совсем тихо ответила:
– Прости, глупость ляпнула. Тут через три улицы сосна растет. Лохматая, корявая. И пахнет. Здесь вообще ничего не пахнет. Ни яблоки, ни цветы… А эта смолой и… Нам с Зорей там полегче становится. Когда уж совсем невмоготу.
– Кстати, и правда, отпускает слегка, – серьезно сказала старшая, снимая с пальцев резные кольца и тут же надевая их обратно, – минут, эдак, на пять перестаю себя жуткой дурой чувствовать. Я, Огняна Елизаровна, должна признаться, тоскую по волшбе своей премудрой. Второй год уж тоскую, пока тут в казематах почиваю.
– А ты? – Огняна повернулась к Ясне, и вопрос гадкий едва в зубах не застрял.
– Волшба моя? Яснознание, – улыбнулась та слишком весело. – Наперёд знала, заранее ведала.
– Добрая волшба, редкая, – почти очарованно проговорила душегубка. – Я не встречала прежде.
– Так, почитай, и не встретила, – ответила Яся и снова как-то особо на Огняну взглянула, положив Зоряне на плечо нежную голову.
– Я-а-а-ась! – пробормотало рядом, и пред очи ведьм непонятно откуда предстал дивный молодец. Худой, длинный, лохматый. В майке, порванной на груди, изукрашенный разноцветными картинками по рукам и шее. Он качался как берёза под ветром, на вытянутых руках держал прозрачную коробку. В коробке было горой навалено что-то жирно-красное, свеже-зеленое и сине-белое. Ясна вскинулась со стула, забрала из рук коробку.
– Рыба, укроп, сыр, – оттарабанил молодец и повернулся уходить.
– Боги, и что ж только лень с людьми делает! Теофилушка, солнышко, следующую седьмицу, тьфу! неделю, дежурю за тебя! – радостно пропела рыжая, с восторгом глядя на коробку. И тут же нахмурилась:
– Теф! А Зоре? Зоря сладкое любит!
– А Зоря, че, тоже дежурит? – Теф свел к переносице странно переломанные брови.
Ясна легко улыбнулась и кивнула. Дежурит, дескать, а ты чего хотел? Перекинула взгляд на Решетовскую. Повела рукой между душегубкой и соседом.
– Огняна, это Теофил. Теф, это Огняна, моя племянница. Приехала сегодня, жить с нами будет. И дежурить тоже будет, – последние слова рыжая особо подчеркнула, стреляя глазами не хуже лучника.
Разрисованный парень закатил очи горе. Вдохнул. Выдохнул. Махнул нестриженными волосами. Протянул с тоской в голосе:
– Здравствуй, племянница. Что тебе нравится? Сладкое? Соленое?
– Ягодное, – хитро прищурилась Решетовская.
Татуированный кивнул и убрел без слов за черную дверь. Душегубка проводила его взглядом, качнула ногой и безмятежно поинтересовалась:
– Так что ты там, Зоряна Ростиславовна, про лекарей говорила?
Ясна глянула на подругу с прищуром, и та отвела глаза.
– Зоряна Ростиславовна? – настойчиво и очень ласково повторила Решетовская.
В коммунальном коридоре вдруг стало очень тихо. Совсем тихо, как на погосте.
– Не будут тебя лечить, Огняна Елизаровна, – наконец, в тон ей ответила старшая ведьма. – У меня муж лекарем был, первым из лучших. Он через эти проклятые колодцы мотался столько раз, что я со счета сбилась, сыновей укачивая. Мы на золото, что ему Вервь за то лечение от своих щедрот отсыпала, дом резной выстроили, конюшню, коней купили. Коней… Коней, твою кикимору налево… – с дикой тоской в голосе повторила Зоряна.
Ясна мгновенно стекла со стула, села перед Зорей на грязный пол, взяла подругу за руки. Лешак вцепилась рыжей в ладони, всхлипнула. Пробормотала глухо: «Это ж я мальчиков верхом учила…» Замолчала и уставилась сквозь Огняну. По щекам у нее ливнем хлынули слезы.
– Осуждённых волшебные не лечат, Огняна, – неожиданно жестко сказала Яся. – И детей, от тяжких хворей умирающих, тоже. И не учат ненашинских лекарей травничеству. И не сеют семена волшебных растений, что могут сойти за неволшебные. Ничего из того, что века назад обещано было. Лекарей сюда отправляет Вервь и только к богатым, очень богатым. Деньги с них получает огромные, и когда бы только деньги! А с лекарей клятву берет, чтоб в тайне все держали. Или правды им не говорит, особенно, пока горячи да молоды и во всё верят.
– Но душегубы… – начала Огняна, чувствуя, как жаркий протест сдавливает грудь. – Они…
– Нет, что ты, – поспешила уверить её Ясна. – Вервь же себе не враг. Душегубы, если узнают, с чем лекари ходят, с чем послы – они Вервь на ниточки распустят. Их работа честная. С ними тоже лекарей посылают иногда – других. Которые не замарались ещё. И всё крыто…
Это был удар – сильный, болезненный.
Ради колодцев ифриты, не договорившись с великим князем Игорем, затеяли войну. У них не было своих путей к ненашам.
Ради колодцев сгорели города и деревни. Для великого благого дела, что должны нести в неволшебный мир лекари и душегубы.
Ради колодцев Огняна хоронила друзей в мёрзлой земле. Чтобы к склавинам по-прежнему шло всё лучшее, что есть у неволшебных.
Ради колодцев. Или ради богатств Верви?
Огняна не хотела верить. Не имела права. Она поднялась, упираясь рукой в стену. Посмотрела на притихших соседок.
Нет, конечно, нет. Даже если и правда, даже если и Вервь – всё было не зря. Не ради колодцев – ради жизни. Ифриты залили земли склавинов смертью. Колодцы или не колодцы, Вервь или великий князь – не важно. Война, Огнина война была о другом. О людях.
– Свободно! – прогудел противный голос той, что звалась Кариной.
Она показалась пороге ванной всё в том же прозрачном халате. Но теперь волосы у нее были чернее воронова крыла, лицо – белее снега, да и сама она без тины на лице оказалась писаной красавицей. Правда, злобной, что голодный барсук. И немедля с визгами прицепилась к Ясне:
– Яся! Кто снова мое масло брал? И свет мой в ванной вчера не выключил? И почему куревом тут так воняет – Теф, что ли, вернулся?
– Кариночка, ты такая умница, такая красавица, такая милая, такая ласковая, – счастливо заулыбалась Яся и радостно захлопала ресницами. – Смотрю на тебя – аж сердце радуется.
– Пошла ты, – буркнула Карина, но чуть тише, опасливо покосилась на Зоряну, будто та её сейчас ударит.
– Иду милая, иду, – Ясна закивала и сочувственно языком зацокала. – Жалко только, что ты волосы толком не докрасила, и со спины полосатая, как та тряпка грязная, что на полу валяется.
Карина покраснела, открыла рот, но тут Зоря предупредительно вскинула брови, и склочница немедля рот захлопнула. Осмотрела Решетовскую с ног до головы, приосанилась даже. Улыбнулась надменно и криво. Против мелкого, замученного, голодного полуребенка с криво обрезанными волосами Карина казалась ещё краше. Будто цвет в Купалову ночь – и мерцает, и переливается, и манит. Ей проигрывала даже нежно-прозрачная Ясна.
– Спокойной ночи, Карин, – вежливо пожелала старшая и рукой отодвинула соседку с Огняниной дороги, а Решетовскую, напротив, подтолкнула в ванную.
Карина отошла прочь самой красивой походкой, на которую была способна, намеренно покачивая бёдрами. Огняна с облегчением вздохнула, мечтая запереться в ванной от всего на свете – от усталости, боли, разочарования. Но Карина уже скрипела несмазанной телегой:
– Ты мне, Лешак, тут не говори, что делать, не королева тут! Ты, между прочим, вчера форточку не закрыла на кухне, а твоя Полянская, когда дежурит, пыль по углам распихивает и под моим ковриком не метет. Скажи ей, чтоб…
Огняна крутнулась на месте, не слушая больше соседку и забыв и ванной, и о Верви с колодцами. И даже не упав.
– Полянская?.. – очень тихо уронила Решетовская, неверяще глядя на рыжую. – Ты – переводчица Полянская?
В ответ Ясна замерла. Выпрямилась. Не отпуская взгляд Огняны, шагнула к душегубке. Сказала тихо и твердо:
– Полянская. Ясна Владимировна. Измена державе, пожизненное заключение.
Двери с грохотом закрылись перед Огняной, отгораживая её от светлого лица Ясны.
Полянская. Предательница. Лиходейка. Блудница бесова.
Дыхание клокотало в груди, а Решетовская беспомощно хватала ртом воздух и никак не могла вдохнуть. Безвольно вскидывала к лицу ослабшие руки и давилась нерождённым рыданием. Тянула себя за волосы и сжимала зубы до скрипа, лишь бы не закричать.
Три дружины. Четыре города. Витязи с душегубами, бабы с детьми, старики, девицы – все, все её милостью загублены, повешены, зарезаны! Потому что Полянская на своих доносила. Потому что с есаулом ифритским блудила и на своих доносила.
Предательница!
Огня крутнулась вокруг своей оси, занесла руку, чтобы толкнуть дверь, за которой осталась предательница – душегубы предателей убивают. И очень медленно отступила. Полянская ратной не была и закону душегубскому не подчинялась.
Но с её полупрозрачных рук капала кровь сотен и сотен тех, кто был для Решетовской своим.
Огняне было двенадцать, когда Елисей привёл её в душегубский стан и сказал – это свои, за своих на смерть. Ей было семнадцать, когда она действительно пошла за них умирать, и когда десятки приняли гибель за неё. На страшных ратных дорогах мир навек раскололся для Огняны Решетовской на белое и черное – своих и чужих.
Своих можно не любить. Со своими не обязательно дружить. Можно даже не знать лиц и имён. Но с ними – кусок хлеба пополам. И две последние стрелы из колчана. Им – доверить жизнь, в них – никогда не сомневаться. Их кровь – ближе, чем родная.
Алая, теплая, пахнущая металлом кровь. Умирать будешь – запах этот не забыть. Умирать будешь – лиц их не забыть!
Огняна бросилась к крану, не с первого раза открыла. Набрала пригоршни ледяной воды, плеснула на лицо. Засмеялась – горько, навзрыд. Как ей посмотреть в спокойное лицо предательницы и удержать руки, так славно умеющие ломать шею?
Хотелось домой, обратно в пахнущие еловой смолой светлицы, к огню, который зажигался одним дыханием, к дождю, который можно было вызвать одним лишь заговором. В стан душегубов, где было хорошо, даже когда было погано. К Елисею, который всегда знал, как правильно.
Огняна намочила холодной водой рушник, оттёрла шею и руки. Раздеваться донага, мыться здесь казалось ей теперь немыслимой беспечностью. Отбросив полотенце, душегубка упёрлась лбом в скользкую влажную стенку.
Лица погибших друзей снились ей почти каждую ночь. Как объяснить им, что нельзя отомстить предательнице – ни по одному закону нельзя, она не ратная? Как оправдаться?
Огняна резко выровнялась. Слабая недобрая улыбка зазмеилась по губам.
Душегубы убивают не только предателей. Они убивают врагов.
Ясна Полянская была врагом.
Глава 5. Елисей
Когда Решетовская вернулась в каземат, соседок в комнате не оказалось. Что было, впрочем, к лучшему. Огняне нужно было подумать, очень хорошо подумать. Сгубить предательницу и не подставиться самой – задачка не так, чтобы сложная, но, поди, надзорщиком тут тоже не дубина стоеросовая, вычислит. Но Огняна Елизаровна Решетовская, лучшая душегубка дружины Елисея Ивановича, обязательно найдет способ – хитроумный и тонкий, как учили. Только не спешить, только не спугнуть предательницу. Корней Велесович учил, что терпение суть величайшая добродетель, а для душегуба особенно. У Решетовской, правда, терпения практически не водилось, но ради такого дела она его наскребёт. Хоть сколько есть – всё положит на погибель Полянской.
Огняна махнула короткими волосами, выглянула в темное окно – не видать ничего, только тополь в стекло ветками бьётся. Но окно широкое и открывается, и лететь вниз с шестого этажа долго, но насмерть ли – только засветло можно будет рассчитать. На притихшего попугая душегубка посмотрела почти что весело – и не придушить же птичку. А он явно волшебный, много видит, много знает, всё рассмотрит. Воробей от её взгляда заворчал, зашипел, повернулся к ведьме красным хвостом.
Огняна пнула под кровать свой наплечник, откинула с казённой койки одеяло и обмерла. На жиденькой застиранной простынке, будто так и надо, лежал наконечник душегубской стрелы.
Она быстро ухватила наконечник и так сильно сжала его в ладони, будто кто-то должен был отнять. Крутнулась вокруг себя, с жадной надеждой оглядывая облезлые стены каземата. Разжала ладонь и вгляделась в острый кусочек металла. Кованый по старинному обычаю четырехгранный наконечник был знаком ей каждым изгибом.
Никто, кроме них с Елисеем, не знал об этом условном знаке – «Выйди на улицу, я жду».
Не может быть. Не может быть, чтобы Елисей нашёл её в первый же вечер. Он не пришёл к ней в Трибунал, стало быть – мертв. Наконечник – это подлог. Ловушка. Способ сманить Решетовскую на улицу. Без особого витого колечка, что сохраняет волшбу в мире ненашей, ведьмак много слабее, его взять проще.
Леший знает, кому могла понадобиться осужденная душегубка. Войны заканчиваются, а жажда мести живет десятилетиями. Да, мало ли дружинников край родной боронили, но таких, как Решетовская, и вправду было мало. От её стрелы, да меча, да безжалостного ножа полегли сотни ифритов, и не для всякого гибель была такой, как подобает воину. Огняна видела немало врагов. Видела достаточно близко и долго, чтобы понимать – в безопасности она не будет уже никогда. Никто, по сути, никогда не бывает в безопасности, просто блажен, кто не ведает. Она же знала.
Решетовская сунула наконечник в карман неудобных узких джинсов. Он обжег кожу сквозь ткань, а холод под рёбрами разгладился и стал чуть терпимее. Нет, это не ловушка. Это Елисей. Он под пыткой никому не рассказал бы о том, как можно выманить Решетовскую. Это Елисей, он жив, и ему плевать, что нельзя быть рядом с осужденной под страхом Трибунала. Наставнику всегда было всё равно, когда дело касалось Огняны.
По ступенькам – непривычным, невысоким и очень скользким – Огняна почти бежала, натягивая на ходу казённую куртку. Грязные деревянные перила с десятью слоями краски, нанесенной поверх старых сколов, царапали ей ладонь, тапочки слетали с неловких ног. Огняна дважды упала, сильно ушибла колено и едва не сломала палец, пока, наконец, выскочила на плохо освещённое крыльцо. Завертела головой, отчаянно пытаясь понять, где может быть наставник.
– Огняна, – тихо позвал кто-то слева, и она бросилась на звук его голоса и его шагов, в тень огромных тополей, в каменные руки Елисея.
Глинский так спешил к ней, что не потрудился снять меч и переодеть кольчужную рубаху. Она немедленно оцарапала ухо о нагрудник, но всё равно прижалась к нему изо всех сил, не успев разглядеть лица, узнавая Елисея по запаху и голосу, по широким плечам, за которыми никогда не было страшно.
– Пришёл, – всхлипнула она в спаянные колечки холодной кольчуги.
– Живая… живая, мавка моя, ты живая, – его шепот сорвался на что-то судорожное.
Он всегда так звал её – за буйный нрав и за то, что встретил на большой дороге, как беспутную мавку.
Горячие губы прижались к встрепанной макушке, а руки обняли Огняну настолько сильно, что и орда ифритов не вырвала бы её сейчас из рук Елисея Ивановича. Холод под рёбрами душегубки потеплел ещё немного.
– Ты… – повторил Елисей и похоронил лицо в коротких волосах.
Огняна подняла голову. Тон наставника был для неё новым, а прикосновения губ – пугающими. Елисей никогда прежде так к ней не касался. От смятения и неловкости она немедленно выпустила иголки:
– Вы думали, Елисей Иванович, меня тут сожрали, что ли? – спросила Огняна ехидным голосом, ещё звенящим от подбирающихся слез.
Елисей глядел так близко, так странно, а в полутьме – ещё и жутко, что её ехидство испарилось, пришло непонимание. На мгновение она опечалилась – когда объятия его рук вдруг распались, и без них спине и плечам стало холодно. Но Елисей немедленно запустил большие жадные ладони в её короткие волосы и глядел так, будто Огняна и вправду воскресла из мертвых.
За полгода с их разлуки Елисей Иванович изменился – первые морщины были видны даже в слабом свете далекого фонаря. Когда они расставались, ему едва минуло двадцать восемь, а теперь казалось – за считанные месяцы воевода прожил десять лет. Черты лица загрубели и ожесточились, губы стали строже и тоньше, но длинные прямые волосы оставались светлыми, короткая щетина бороды – темной. Широкие плечи, крепкий стан. Всё тот же Елисей Иванович, да только глаза – страшные.
– Что? Елисей, что? – Решетовской стало неуверенно и тревожно от его молчания и тяжёлого взгляда. – Говори же.
Елисей Иванович попытался ободряюще улыбнуться, да не вышло. Он так боялся, что Кошма ошиблась, и трибунальские ошиблись, и какая-то другая, не его Огняна Решетовская осуждена жить в этом каземате, что весь долгий путь до неё не разрешал себе думать. Не думал, когда мчался в столицу, когда едва не подрался в Трибунале, когда чудом и Любомиром Волковичем вызнал, кто у осужденной надзорщик, когда добывал у него адрес и даже когда лез в окно и договаривался с попугаем вместо того, чтобы просто свернуть тому шею и припрятать тушку. И всё равно бестрепетный душегуб и славный воевода боялся так, как в жизни бояться ему не доводилось.
– Мне сказали, что Решетовскую замучили насмерть в плену, – сказал он глухо и прижался лбом к её лбу.
Длинные русые волосы коснулись лица Огняны. Горячие ладони на впалых пламенеющих щеках. Зелёные глаза против черных. Лёгкие пропустили выдох. Очень близко. Огня глотнула обжигающий воздух, но стало только хуже и волнительнее. Она бы сдалась сейчас. Он любил её давно и горько, и пусть она ничего не знает о любви, у Огняны никого ближе Елисея все равно не было. Но он сказал – Решетовскую замучили насмерть, и холодная волна боли заставила отступить на шаг.
– Решетовскую действительно убили в плену, – сказала она тихо, убирая его неожиданно безвольные руки и отходя ещё на шаг в густую тень тополей, чтобы ему не было видно лица. – Но Решетовских было двое.
Он не понимал её целое мгновение, пока память строила картинку семилетней давности – покосившийся дом с разрушенным дымоходом на окраине леса, вёрткая двенадцатилетняя девица, которую он забирает у бражников-родителей в обучение, и девица постарше, которую учить уже поздно и придется оставить.
– У тебя была сестра, – сказал Елисей с жалостью.
– Лада, – кивнула душегубка и отвела глаза. – Тебе сказали правду, Ладу… убили. Вместе с мужем. В моем первом плену.
– Первом?..
Она ответила долгим горделивым взглядом. Глинский сжал рукоять меча и промолчал.
Огняна сунула руки в карманы куртки, пнула проношенным сапогом камушки под ногами. Заговорила едко:
– Никто не пришёл в Трибунал. Никто не сказал обо мне правды. Значит… – выдох. – Хоть кто-нибудь… Кто-нибудь остался, Елисей Иванович?
– Многие, – пожал плечами Глинский, разглядывая Огню с такой откровенной нежностью, что она только и могла, что глаза отводить. – Девчонки твои благополучны.
– Богумил? Любомир Волкович?
– Богумила с победы не видел, собирался к своим в деревню. А Любомир велел кланяться. Огня, я…
– Почему тогда никто не пришёл? – вдруг зло, обвиняюще спросила она, перебивая Елисея и отходя от него ещё дальше. – Никто не пришёл в Трибунал и не сказал, что я не виновата. Где были все, когда так нужны мне? Где был ты, Елисей?!
– Никто не знал о твоем суде, мавка, – тихо ответил княжич тяжело дышащей Огняне, готовой немедля не то подраться, не то всё-таки разрыдаться. – Никто не ведал, что ты жива. Дружина оплакивает тебя с лета. А я искал твоих убийц.
Жажда мести всё-таки живёт ещё долго после войны. Елисей решительно шагнул к упрямой, потерянной Огняне. Взглядом прожёг насквозь.
– Огня, послушай, – начал он, едва заметно заволновавшись. – Это не годное время и место, но я должен был сказать уже давно.
– Нет, – отрезала Огняна, вдруг осознав, что он сейчас скажет.
Она давно понимала Елисея с полувзгляда, а глаза его сейчас были чересчур красноречивы. Ещё не хватало сегодня признаний, с которыми она не знает, что делать. Глинский замер, повёл подбородком в немом вопросе.
– Не смей, – не то попросила, не то велела Огня.
Елисей кивнул, болезненно дёрнул уголком губ. Не сказать, чтобы слишком уж удивился – поди, не даром дружина Огняну кличет костром да пожаром степным. И своенравна, и упряма, и обжигает легко, не думая. Сам виноват, коль подступился близко.
Совершенно не логичная Огняна нырнула в его объятия, изо всех сил прижавшись щекой к металлическому нагруднику. Ей очень хотелось не думать о том, что он собирался сказать, и ещё больше хотелось задать самый главный вопрос, но она молчала. И так ясно. Когда бы Елисей мог забрать её обратно домой, он не разговоры бы разговаривал, а схватил за руку и утащил подальше отсюда. Он всегда так поступал.
– Я добьюсь отмены приговора, – жарко зашептал Елисей Иванович в спутанные волосы Огняны. – Ты вернёшься домой. Если это не поможет…
– Я хочу обратно, Елисей. Я так хочу обратно…
И всё-таки заплакала, вынув из Елисея душу тихими жалобными всхлипами.
Глинский обнимал Огняну – изможденную, зато живую. Гладил большой ладонью встрепанную макушку и чувствовал себя буйно счастливым – живая, нашлась, чудо. И ужасно виноватым – всё из-за него. Это он, Елисей, забрал её из семьи. Он, Елисей, научил её убивать. Это он был слишком далеко, чтобы защитить, когда Огняну держали в плену и когда судили. И если она даже не думала обвинять его во всех грехах, сам Глинский справлялся с этой задачей на ура. Если бы он только мог всё вернуть на круги своя!
– Если это не поможет, я найду способ выкрасть тебя, – сказал он, когда Огня перестала всхлипывать и принялась утирать рукавом лицом.
– И жить здесь? – тихо спросила она. – Среди ненашей?
– Мы слишком заметны, радость моя. Если схоронимся среди волшебных, найдут и убьют, – Елисей пожал плечами, и согретая дыханием кольчуга скользнула по щеке Огняны.
– Мы? – переспросила она, будто не знала, что Елисей Иванович для себя всё решил давно – до войны.
Глинский не ответил. Два года назад, едва началась война, Елисей Иванович решил Огняну не трогать. Думал: случись что, наставника оплакивать проще, нежели жениха или, того пуще, супруга. Но больше такой ошибки он допускать не намеревался. Чуть отстранился, поднял обеими ладонями голову Огняны и бережно прикоснулся губами к её обветренным губам.
Елисей рисковал – поцелуй Огня могла воспринять как неподобающую вольность или даже оскорбление. Он, конечно, никогда не давал повода усомниться в его преданности и честности, и надёжности, но это ведь Огняна, дикая как лесная мавка. Опомниться не успеешь – ногтями лицо располосует и в жизни к нему больше не подойдёт. Это Огняна, которая только что не дала ему признаться в любви, и которой, наверное, всё это не нужно. Но на то несказанное мгновение, пока их губы соприкасались, Елисею стало совершенно наплевать, что она о нём подумает.
Решетовская отпрянула и испуганно втянула воздух. Посмотрела на Елисея огромными глазами, пытаясь понять, что произошло – что на самом деле произошло. Наставник глаз не отводил – пусть видит и знает, ему сожалеть не о чем. Пусть наконец-то видит и знает – она нужна ему, больше, чем нужна.
Очень медленно, едва заметно, не отводя напряжённого взгляда, Огняна кивнула. Выдохнув улыбку, душегуб припал к её губам с плохо сдерживаемым жаром.
Поднялся ветер, разметал волосы, выстудил едва одетую Решетовскую, лишенную жара утробной волшбы. Елисей прижался губами к её виску и зашептал горячо, сжимая сильными ладонями её озябшие плечи:
– Мавка, тебе пора, время. Дождись меня и никого не покалечь. Вот, возьми, – он сунул ей кошель, совсем такой, как тот, который она когда-то безуспешно пыталась у него стащить. – Местные деньги, тебе пригодятся. Не спорь, правда, нет времени. Нужно прощаться. Скоро Мир очухается и к вам с проверкой заявится.
– Ты что с ним сделал, бессовестный душегуб? – Огняна подняла голову, и сквозь непросохшие ещё слёзы пробилась улыбка.
– Споил, – беззаботно улыбнулся в ответ Елисей.
Она не дала ещё раз поцеловать себя и отдёрнула руку, когда Глинский попытался перехватить исхудавшие быстрые пальцы. Елисей прошёл с ней последние шаги до входной двери, открыл замок какой-то неведомой Огняне волшбой. Ухватил душегубку за шиворот и все-таки поцеловал сухие потрескавшиеся губы.
– Ступай.
Когда Огняна, довольная до безобразия, перешагнула порог коммуналки, она поняла, что попала – из их комнаты, приглушенный волшебными стенами, грохотал голос надзорщика.
Решетовская ввалилась в каземат с мокрыми волосами, замотанная в одно лишь огромное чужое полотенце, сдёрнутое с верёвки в коридоре. В другой раз такой срам и в голову бы ей не пришёл, но Елисей напоил надзорщика. И если этот Мирослав Игоревич умел складывать аз и буки, то легко заподозрит сговор, когда выяснится, что Огняна не была в квартире в урочный час. Потому Решетовская, изо всех сил борясь с румянцем, перехватила удобнее полотенце, вздёрнула подбородок и прикрыла за собой дверь в комнату.
Первым, что она увидела, была широкая спина мужчины со светлыми в золото волосами почти до самых лопаток. На затылке верхняя часть самую малость вьющихся волос была собрана в короткую, особым образом заплетённую косу. Такие косицы имели право носить лишь душегубы, доказавшие мужество в бою. Так когда-то давно заплетал волосы ей Елисей: после первого убитого полагалось обрезать и собрать в косу, завязывая воинское счастье. Вероятно, счастья надсмотрщику нынче не хватало. Зато понятно, откуда Елисей Иванович знает их надзирателя. Не понятно, что душегуб делает на гадкой должности надзорщика.
– Ну вот же, Мирослав Игоревич, мылся человек, – бодро и радостно заявила стоящая перед ним Лешак.
Ясны в комнате не было. Попугай, примостившись на люстре, чесал когтистой лапой голову и молчал.
Надзорщик развернулся к Решетовской, и ей понадобилась вся выдержка, чтобы не дрогнуть. Потому что глаза у Мирослава Игоревича были настолько яркими, прямыми и требовательными, что, казалось, глядят в самоё душу. Всё ещё непонятно, зачем пошел в надзорщики, но совершенно ясно, почему взяли. Лгать таким глазам было делом непростым.
Соколович был ни стар, ни молод, высок и крепок, одет как ненаш – кожаные штаны непривычного кроя с цепями и клёпками, свободная рубаха. Стан крепко, хорошо сложенный. Кожа загорелая, борода редкая и короткая, выгоревшая настолько, что сливалась с кожей цветом. На щеках и лбу – шрамы, старые, затянувшиеся. Очень живые глаза и совершенно неподвижные черты. Мужественное лицо, честное. Убивать он будет тоже честно – в ведьмаке сквозила звериная жестокость, не ведающая пощады. Было в Мирославе Игоревиче что-то от медведя – тяжёлого, молчаливого, хмурого.
– А что, после десяти мыться нельзя? – спросила Огняна невинным голосом и поправила полотенце. Холодная вода капала с волос на обнажённые плечи и бело-розовые бороздки шрамов.
В ответ Мирослав и бровью не повёл. Положил руки на пояс, наклонил голову. Решетовская невольно отметила: на правой руке – золотой перстень, такой же, как у Елисея. На левой – тонкое витое кольцо, сохраняющее волшбу в мире ненашей. Душегубам и надзорщикам выдавали, когда шли в неволшебный мир. Огняна такое не получила, не успела.
– Не одна мыться изволила, Решетовская? – спросил Соколович спокойно, а голос всё равно громыхнул.
Она растерялась всего на долю секунды, но Мирослав заметил.
– Где ты была? – повторил он ровно и грозно.
– Сказано – мылась, – Огняна показательно тряхнула мокрой головой.
– Одёжа где? – спросил он безжалостно, кивая на койку, где среди неразобранных вещей не хватало казённой куртки, джинсов и футболки.
– В сенях, на вешалке, – не солгала Огняна.
– Нет там, я проверял.
Слова у Мирослава были пудовые и квадратные, как бывает у людей, которые говорят редко и мало. Решетовская повела плечами – я здесь причем, коль ты, добрый молодец, на зрение жалуешься? Полотенце затянула поплотнее, поёжилась – холод пробирал и изнутри, и снаружи.
– Коли мылась, то что ж с тобой в ванной делал молодец? Тот, который мне ответил, когда я постучал к вам, – надзиратель резко повернулся к Огняне и снова обжёг её страшными глазами. Душегубка заалела, мучительно осознала свою наготу под срамным нарядом, но не сдалась.
– А не возбраняется, – ответила она нагло и прошла к койке, почти задев надзирателя обнаженным плечом и едва не всхлипнув от стыда. Откинула одеяло, повернулась к Мирославу с непобедимым выражением лица. – Али как?
Соколович прищурил глаза, сделал шаг к Решетовской. Надо же, она думала, он так с места и не сдвинется. Мирослав Игоревич казался скалой, зачем-то обращённой в человека.
– А если я его поищу? Милого твоего? – спросил он тихо, и громыхающий голос стал угрожающим.
Совершенно внезапно в повисшей тишине послышался смех Зоряны.
– А кто ж признается-то, Мирослав Игоревич! Никто из квартиры нагим да мокрым не пошёл, стало быть – сосед это был. А тут все молодцы-то женаты!
– Мирослав Игоревич, вы что-то ещё хотели? – спросила Решетовская и хамски улыбнулась. – А то мне бы одеться…
В комнату едва слышно скользнула Ясна. Надзиратель обернулся на неё через плечо, а рыжая, чем поздороваться, мгновенно скрестила руки на груди и захлопала ресницами. Пропела приторно и как-то совершенно издевательски:
– О, Мирослав Игоревич! Радость-то какая! Опять в неурочный час пожаловали. Что вам подать-принести, чем услужить гостю дорогому?
Зоряна едва удержала возмущение – никогда прежде такого нахальства они себе с надзорщиком не позволяли. Оно, конечно, верно – Соколович сейчас об Огне забудет. Да только и Ясне голову снимет, не побрезгует.
Надзорщик посмотрел на Ясю тяжело, пристально. Ближе подошёл. Спрятал руки в карманы и, не отводя взгляда, уронил спокойно очень:
– Не дерзи.
– Не буду, – послушно прошептала ведьма в ответ, тоже глаз не опуская. – За дерзость пять батогов полагается, я правильно помню? Сами бить станете, али помощников позовете?
У Лешак горлом прошла судорога, Огняна едва не уронила полотенце. Воробей вздохнул – громко и совсем по-человечьи. Мирослав Игоревич враз оледенел, резко, плечом отодвинул рыжую с дороги и пошёл к двери. У самого выхода вдруг остановился и, убедившись что Зоряна с Ясной на него не глядят лишний раз, поймал взгляд Решетовской. Сделал четыре коротких жеста: ладонью на Полянскую, пальцем к горлу, на Огняну, ладонью к полу качнул. Так быстро, что, когда и видели соседки, разобрать бы не успели, а понять – и подавно.
Решетовская с трудом удержалась, чтобы не удивиться. То были тайные знаки душегубов, и послание Соколовича означало: «Тронешь её – убью». Огняна в ответ плечами пожала и поглядела на него совершенно непонимающе. Надзорщик устало коснулся щеки указательным пальцем: «Это приказ».
Сжав губы и сцепив зубы, ни на кого не глядя, Огняна приложила кулак к плечу. Приказ есть приказ, нравится он тебе или нет.
Мирослав кивнул и был таков. Едва он хлопнул дверьми, как Ясна отмерла, щёлкнула замком и сползла на пол – ноги не держали. Решетовская проследила за этим движением с любопытством.
– Что это было, радость моя рыжая? – неожиданно сурово поинтересовалась Зоряна.
– Ничего не было, – глухо пробормотала Яся, вставая на ноги. Посмотрела на подругу, покачала головой, спросила устало:
– Бумаги приносил?
Огняне полагалось по прибытию подписать, ознакомиться и далее по уставу.
– Нет… – протянула Зоряна. – И зачем являлся тогда?..
…Во дворе коммунального каземата Мирослав Игоревич Соколович смял в широкой ладони сигарету, которую так и не сумел закурить.
– Будь по-твоему, Елисей Иванович, – хмыкнул он в пустоту.
Оглянулся по сторонам, бросился оземь и взмыл в небо ширококрылым орланом.
Глава 6. Свара
Ранним утром коммунальная кухня была на диво тиха. В окне желтело тускло-осеннее солнце, на подоконнике зевал ярко-рыжий кот, густо пахло хлоркой и яблоками. За стеной бубнила музыка, в глубине коридора что-то скрежетало, в ванной шумела вода. Полянская и Лешак готовили завтрак, честно поделив обязанности: Зоряна жарила гренки, взбивала яйца и резала сыр, а Ясна крутила в ладонях вилку и рассматривала трещины на стенке.
Зоряна, старательно тыча перед собой пальцем, пересчитала нарезанные куски черного хлеба, которые собралась жарить на троих. Разделила в пятый раз, и опять получила новое число. Лишенная волшбы ведьма бросила нож на стол, сморгнула слезы. Она всегда легко плакала, а в такие минуты и вовсе хотелось реветь медведем. Как же, премудрая Зоряна Ростиславовна теперь два и два сложить не может, читает по слогам, пишет что дитятко пятилетнее: вкривь, вкось да с ошибками. Сколько ни билась, ни училась – лучше не выходило. Иногда думала – хоть бы вовсе скудоумной стала или память утратила, чем изо дня в день терпеть такое унижение: детские книжки по слогам читать и бояться, что малограмотную дуру выгонят с очередной работы.
Зоряна потеряла столько работ, что и вспомнить уже не могла. Жили ведьмы по большей мере на Ясину зарплату: Полянская в ресторане и в ночном клубе плясала ифритские танцы – здесь их именовали восточными. А Лешак, бывшая ученая ведьма, чья слава когда-то гремела на весь волшебный мир, перебивалась случайными приработками. Собак выгуливала, флаеры раздавала, пиццу разносила.
– Зорь, ты что? – Полянская дернула за плечо застывшую подругу. – Опять считаешь? Семь кусков здесь, по два – нам с Огняной, три – тебе.
Зоряна чуть слышно всхлипнула, поправила ремень на любимых серых джинсах и сердито спросила:
– Что это вчера с Соколовичем было?
Рыжая глазом не моргнула. Достала с полки прозрачные банки со специями, насыпала на белое блюдце красную паприку, поверх украсила желтой куркумой и принялась пальцем рисовать цветочки.
Лешак глянула на подругу задумчиво. Когда Яся отвечать не желала, то руки на груди скрещивала и улыбаться начинала так любезно, что Зоряне сразу на стенку лезть хотелось. Но сейчас рыжая просто молчала, глаз не подымала.
– Тебя ж по казематам сперва метали, прежде чем ко мне перевели. Это он постарался? – уточнила Лешак, выливая на сковороду яйца.
Яся стерла цветочек, нарисовала лохматую тучку.
– Вы с ним знакомы были?
Из тучки закапал косой дождик.
– Он тебя бросил?
По белому блюдцу запорхали оранжевые снежинки.
– Ты его?
Лешак сгрузила гренки на тарелку, посолила, присыпала тертым сыром. Под сковородой с омлетом огонь уменьшила. Сказала мягко, чуть насмешливо:
– А теперь, когда девчонку рядом увидела, снова к нему хочешь?
Полянская сбросила приправы в раковину, помыла блюдце, медленно вытерла руки полотенцем. Посмотрела очень прямо, ответила очень тихо:
– «Снова» не бывает, Зоря, не верю я в такое. И непростая это девчонка, что для нас, что для него. И сама девчонка в том не виновата. – Яся помолчала и спросила уже привычно-ласково:
– Лучше ты мне другое скажи. Кто с Огняной о снах поговорит? Нам повезло, что ночь спокойная была. А как тебе сегодня покажут? Зачем её пугать?
– Пугать? – хмыкнула Лешак, доставая вилки. – Душегубку? Ясь, ты что! Она сама кого хочешь напугает. А скажи, неглупая вроде девчонка? Даром, что ратная.
Рыжая усмехнулась и спросила странным голосом:
– Да кто ж тебе сказал, Зорюш, что ратные – ребята глупые? Чай, чтоб дружинами командовать и в боях побеждать, разум совсем не лишний.
– Так то воеводы, что приказы отдают, – Лешак махнула ножом в сторону окна, – а остальные – мелочевка медная. Упал, отжался, подрался. Не смотри на меня сурово так, птица моя, расскажу я ей про сны наши любимые, расскажу. И постараюсь поласковей. Ну что, тарелки – твои, сковорода – моя, пошагали?
Решетовская лежала на своей койке поверх одеяла, уставив глаза в потолок. Зоряна с Ясной расставили тарелки, разделили омлет, насыпали корма Воробью. Огняна не шевельнулась. Попугай окинул ведьм недовольным взглядом и продолжил долбить клювом раму.
– Садись завтракать, ратная, – вздохнула Зоря, покосившись на безучастную Решетовскую.
Огняна не ответила. Даже, кажется, лишний раз не моргнула.
– Яичница, – как-то чересчур радостно сообщила Ясна. – С сыром, ветчиной и зеленью.
На лице душегубки не дрогнула ни одна черта. Зоряна взмахом руки остановила подругу от попыток разговорить их новую соседку. Головой помотала – не трожь, мол, сама встанет.
Но Огняна не встала – ни пока ведьмы ели, ни когда унесли посуду на кухню, ни когда опять вернулись в комнату. Полянская, не выдержав, села на краешек провисшей койки, протянула руку.
– Огнян, совсем плохо, да?
Дотянуться, куда собиралась, Ясна не успела. Твёрдые пальцы сжали её ладонь с неожиданной силой. Полянская трепыхнулась, попыталась освободиться, да тщетно. Огняна – собранная, напряженная, яростная – села на кровати, ухитрившись при этом не дёрнуть ни саму Ясю, ни её руку.
– Мне нельзя тебя убивать, – злобно зашипела Решетовская. – Но если хочешь ходить с целыми пальцами, никогда со мной больше не заговаривай и не касайся меня. Предательница.
И отшвырнула от себя руку побелевшей Ясны, точно гадюку. Рыжая замерла, дышать перестала. Попугай бросил раму, немедля перелетел поближе к Решетовской и наставил на неё клюв. Огняна окинула всех недобрым взглядом, хмыкнула.
– Значит, не получится у нас по-хорошему, Огняна Елизаровна, – протянула Лешак, возвращая на стол нож, в который вцепилась, лишь только душегубка подала голос.
– Получится, – отрезала Огняна, не сводя взгляда с предательницы. – Обе меня не трогайте – и все хорошо будет.
– Спаси Жива тебя тронуть, княжна ратная, – вскинула брови старшая ведьма. Подошла к койке, заговорила нараспев, насмешливо:
– Как решишь на Ясну косой взгляд бросить, ты вспомни – я здесь за двадцать загубленных душ, среди которых трое деточек было. Поверь, тебя извести не погнушаюсь, отребье мелкое.
– Покойниками меряться станем, Зоряна Ростиславовна? – во все зубы улыбнулась Огняна. – Мне для тебя которых посчитать – тех, что в честном бою жизни лишила, что стрелой из-за угла, или тем, что ночью в постелях горло перерезала?
Полянская побелела ещё больше, Лешак презрительно захохотала:
– Что ты о постелях знаешь, девчонка зелёная?
– Куда уж мне до блудницы бесовой, – согласилась Огняна, кивнув на рыжую.
Та не двинулась, лицом не дрогнула, руки на груди скрестила и любезно улыбнулась. Той улыбкой, которую Зоря так яростно ненавидела, что окончательно взбеленилась:
– Душегубка и есть – ни на маковое зерно совести! Все вы, ратные, одного теста – кислого.
Решетовская медленно встала с койки, не отпуская с лица надменного выражения. Стала напротив Лешак, чересчур близко.
– Кислого, говоришь, – гневно усмехнулась она. И заговорила вдруг тихо, почти по-доброму, почти спокойно, но так, что Воробей вздыбил перья на макушке:
– Как скажешь, детоубийца клятая. Только когда мы на войне два года умирали – за деточек ваших, за матушек с батюшками… вам не шибко-то и кисло было. Тогда, поди, нравились. А как вернулись – кто без ног, кто без разума, кто в шрамах по горло – уже не особо. Когда врагов убивать там – так герои, как здесь слово против предателя молвить – гляди ж ты, отребье.
Зоряна зло скривила рот:
– Красиво ты говоришь, спору нет. Да только кто вас в дружину гнал-то? Сначала пошли – теперь жалуетесь да хвалитесь.
– Так нам теперь ещё и в уголочек встать да помолчать прикажешь?
– Думаешь, одних ратных заслуга, что ифритов победили? – закатила глаза Зоря. – Хочешь знать, я перед войной в страдном терему старшей была. Это мы оружие да кольчуги вашим витязям заговаривали, яды для ваших стрел волшебничали, отвары вам целебные варили. Не спали седьмицами, руки-ноги до костей резали, в горячке валялись, потому как всё, всё на себе пробовали, прежде чем вам отправить!
– В глаза не видывала никаких ядов с отварами, – горделиво фыркнула Огняна и продолжила с весёлой злобой:
– Только когда бы не дружинники, паче того – дружинницы, не пускали бы тебя, Зоряна Ростиславовна, в страдные терема к мужам учёным. Когда бы не наша вольница, чем бы отбивались от ваших батюшек, когда вас замуж в шестнадцать гнали? На кого бы кивали, как ни на дев ратных, которые сами за себя решают? Благодаря нам вы волосы под повоем не прячете, глаза долу не держите! А когда бы душегубы к ненашам не ходили, ты бы на телячьей коже имя своё едва-едва выцарапать умела, окна пузырём бычьим затягивала и мужу старому твердила покорно: «Да, голубь мой, как изволишь!»
– Поклон тебе, девица ратная! – Зоряна прижала руки к груди и в пояс издевательски поклонилась. – Как коса отрастет – приходи, поцелую! Но запомни, Огняна Елизаровна, что когда б ваши душегубы к ненашам не хаживали туда-обратно и не хвалились этим беспрестанно, ифриты бы на колодцы наши не позарились, и войны бы не было! Не было, слышишь?!
– Зоря, отойди, – очень тихо попросила не существовавшая до этого Ясна. – Она ударит сейчас.
Лицо у Решетовской и вправду было страшное, и дышала она тяжело, но всё равно повернула голову к Ясне. В ответ услышала:
– Не тронь Зорю, Решетовская, тебе ведь не Зоря нужна.
Тотчас предательница сорвалась с койки, шагнула вперед, детоубийцу собой закрыла. Растянула губы в шальной улыбке, зажурчала реченькой:
– Знай, всё что ты обо мне слышала – всё неправда.
Выглядела Полянская странно, диковато даже. Губу прикусила и продолжила очень весело:
– Тебе, верно, говорили, что Полянская четыре города врагу сдала? Не верь, шесть их было. Я не три дружины в засаду отправила, а четыре, и всех дружинников под корень вырезали. А еще травы лекарские ифритам возила, одеяла теплые, обувку да еду.
Огняна вскинула подбородок, обуздывая чёрную злобу, а губы от гадливой усмешки не удержала. Ухватилась за спинку койки, испугав Воробья. Стиснула железо так, что, казалось, переломит. Попугай втянул голову, клювом защелкал. Зоря снова схватилась в ужасе за нож, не зная, что наперво делать – на душегубку кидаться или подруге, враз обезумевшей, рот закрывать.
Рыжая меж тем перебросила назад косы, заложила за спину руки. Глаза у нее стали совсем шалые, а в голосе птицы запели:
– О том не жалею, и никогда не пожалею. Я в войну белый хлеб жевала, чаем с шоколадом запивала, да на простынях шелковых с есаулом ифритовским лежала. А он мне плечи целовал, и губы, и…
Ясна вдруг замолчала, застыла, словно почувствовала что-то, и обернулась к шкафу. Там стоял надзорщик – спокойный, как из глыбы вытесанный. Глядел на всех троих бесстрастно, ровно, будто ничего перед собой не видел особенного. Судя по злорадству в глазах Огняны, стоял он там долго.
Лицо у Яси сразу стало жалким. Она глянула на Соколовича затравлено, прижала ладони к груди, скривила губы. К нему шагнула – как с обрыва прыгнула. Пролепетала с отчаяньем:
– Мир, я…
– Пошла вон, – сквозь зубы протолкнул надзорщик, не двигаясь с места.
Полянская глянула гневно и решительно, но тут у Мирослава сапоги увидела. Старые, сбитые да вытертые. Те самые, в которых Решетовская была вчера, и которые скормила столу. Ясна немедля сложила руки на груди, почтительно заулыбалась и стала похожа на увешанную замками дверь:
– Как скажете, Мирослав Игоревич. Пройти позвольте, сделайте такую милость.
Соколович, не глядя, шагнул в сторону. Зоряне кивком указал дорогу след за Полянской, дескать, и ты ступай за драгоценной подружкой. Щёлкнул замком за обеими, прислонился к дверям и окаменел. Не шевелился, не дышал, не смотрел. Стоял истуканом ровно там, где Ясна вчера на пол сползала, и сжимал в руке сапоги. Попугай перемахнул на люстру и там замер, боясь моргнуть.
Памятуя, что терпение суть величайшая добродетель, Решетовская надзорщику не мешала. Но коль скоро терпения у нее наличествовало не много, выдержала Огняна не долго. Не остыв ещё от свары, горькая и раздраженная, она с бессовестной насмешкой спросила Соколовича:
– Мирослав Игоревич, сапоги отдадите, али так, показать принесли?
Тот моргнул, заметил Огняну. Не сразу вспомнил, о каких сапогах речь. Поглядел на маленькую в его кулаке обувку, бросил у ног Решетовской. Дождался, когда она обуется, и только потом сказал:
– Подпиши.
На клетчатый стол легли перо с чернильницей и три грамоты – те, что ей полагалось подписать ещё вчера. О порядке жизни в каземате, о наказаниях за провинности и о сроке заключения.
– Что значит – «срок заключения не определён»? – скрипучим голосом поинтересовалась Огняна, и клякса сорвалась с кончика пера на зелёную клетку стола. – Кто определит и когда?
Она поглядела на надзорщика злющими глазами, но ему, казалось, не было до того никакого дела.
– Подписывай, – обронил он ровно.
– Не стану!
Душегубка бросила перо, и чернила брызнули на бумагу.
– Как определят срок – так и приносите, хоть слезами своими горькими подпишу, хоть кровью.
– Страх потеряла? – пока ещё спокойно спросил Мирослав Игоревич.
– Больше и терять-то особо нечего, – кивнула Решетовская, отодвигая стул, дабы встать.
Надзорщик опустил на её плечо пудовую ладонь и вдавил обратно в стул. Пересилить истощенную ведьму было не трудно.
– Повесят.
– Правда?! – обрадовалась Огняна, и выдержка, наконец, изменила ей. Душегубка вскинула к надзорщику голову и зачастила обвиняющие:
– А почему сразу-то нельзя было? К чему вот эти прыжки в колодец, казематы: туда не стань – сюда не ступи? Предатели с детоубийцами на соседних койках, а их не тронь! Зачем?! Чтобы чуть что – петля? Батоги? Так не страшно, не впервой!
При упоминании предателей ладонь Мирослава Игоревича самой собой разжалась, а пронизывающие глаза сделались морозными.
– Душегубка Огняна Елизаровна! – рявкнул он, перебивая. – Села, подписала, свободна!
– Да западись ты, – прошипела Решетовская, подписывая все три бумаги быстрыми путанными росчерками.
Соколович собрал грамоты, раздраженно бросил стопку ненашенских документов на её имя, три ключа на кольце и стремительным шагом вышел из комнаты.
– Не за просто так, знать, из душегубов погнали, – зловредно плюнула Огняна ему вослед.
Решетовская подхватилась из-за стола и рванула из шкафа джинсовую куртку. Не будет она сидеть и ждать. Найдёт колодец – пусть через него Вервь хоть обозами торгует! – и вернётся назад.
Дома ей сподручнее будет доказывать, что невиновна. Дома Елисей. Дома волшба. Дома Огняна Елизаровна, хоть триста раз осужденная, а всё же – славная душегубка. Не то, что здесь.
На кухне ведьмы услышали, как хлопнула входная дверь. Один раз, за ним почти сразу – второй. Как только стало ясно, что Огняна и надзорщик ушли, Зоряна бросила терзать кольца на пальцах, а Ясна – отдирать пуговицы с любимого зеленого платья. Лешак вскинула на подругу темно-гневные глаза и зашипела не хуже полоза:
– Ты что там творила, золотая моя, совсем разум потеряла? Наша душегубка, может, ловкость и утратила, да искалечить всё ещё сможет!
– А тебе-то что? – неожиданно резко вскинулась рыжая. – Вы там обе своими подвигами ратными похвалялись, вот и мне захотелось не отстать. Чем богата – уж прости, коль не понравилось!
Зоряна глаза вытаращила, неловко повернулась – так, что с соседнего стола со звоном полетели на пол ложки:
– Яся, ты что? – хрипло спросила она. Закашлялась, оставшиеся ложки на пол смахнула, повторила решительно:
– Ты что говоришь? Мне до кривой сосны, чем ты в ту бесову войну богата была. Мне страшно, что она тебе шею свернуть могла! Ты ведь там словно грудью на колья кидалась!
– Бес попутал. Прости, – глухо ответила Яся. Уперлась кулаками в стол, низко опустила голову. Медные волосы рассыпались до пояса. Сухо, коротко рассмеялась и зашептала истово:
– Не могу больше, Зоря, не могу с этими ратными! Все время нужно думать – там не обидь, здесь не задень, тут не огорчи! Не хочу я, не хочу! Не хочу больше! Какой черт её принес, хорошо ведь мы с тобой жили!
Полянская еще что-то шептала быстро, невнятно, путая слова и глотая звуки. А Зоря смотрела и думала, что за те месяцы, которые они с Ясной живут здесь, подруга ни разу не подала виду, что к Соколовичу неровно дышит или что с ратными у нее какие-то дела были. Да что там, Лешак, почитай, ничего о ней не знала – ни откуда, ни кто родители. Коробило Зорю это ужасно. Она-то все о себе рассказала: и про мужа, и про сыновей, и про приговор. А Ясна слова по капле выжимала.
Зоряна знала лишь статью, по которой подругу приговорили. Яся, как о своем приговоре сказала, на соседку глянула так, словно ждала – ее сейчас бить станут. Да только Зоря, что загубила двадцать душ, глазом не моргнула. И в тон рыжей ответила: «О боги, страсти какие, измена державе! Да плевала я на сие с кипариса зелёного высокого. Чаю со мной, детоубийцей, попьешь? Конфеты есть вкусные».
Заскрипела дверь в кухню, на пороге появился Теф в обнимку с кальяном.
– Девчо-о-о-нки! – радостно махнул сосед немытыми-нечесанными патлами. – Заходите в гости, Светка к маме поехала! – и, не дожидаясь ответа, потопал в другую дверь, что вела на черную лестницу.
Ведьмы переглянулись, тоскливо-насмешливо вздохнули и неожиданно рассмеялись.
– Яська, – весело подмигнула подруге Зоря. – А сапоги-то её у Соколовича! Видать, столу невкусными показались. Зато мои кроссовки лопал, не привередничал! Как думаешь, мои слаще будут?
Полянская расправила плечи, обняла подругу и поцеловала в волосы.
– Все хорошо, Зоренька. Справимся. Чаю сделай мне. С медом и мятой.
Рыжая провела ладонями по лицу, будто стирая что-то. Достала мобильный телефон, забегала пальцами по кнопкам:
«Все, как договорились».
Глава 7. Драка
Подгоняемая громокипящей яростью, Огняна вывалилась на крыльцо, жадно глотнула холодный утренний воздух. Ненашинский мир – чужой, грязный, жуткий – резанул по глазам насмешкой над её печалями. Гнев схлынул потоком, и растерянность толкнулась к глазам и рукам, слабостью прокатилась по телу и замерла под сердцем.
Дома были справа и слева от неё – огромные, безликие, закрывающие далёкое небо. Безнадежно тусклые, они давили на маленькую ведьму непомерной высотой, пронзали разум одинаковостью, сминали душу серостью. Земля, схваченная за горло бетоном, жалкий розовый куст в удушающей тени тополей, жухлая трава – всё было не таким, чужим и насильным. Сбежав из одной темницы, Огняна оказалась в следующей, да только у этой стен не было, и конца ей тоже не было, и искать здесь колодец было все равно, что веретёнце в гиблом болоте.
Город без волшбы разворачивался безжалостно и неотвратимо, очень быстро становясь всё больше и сильнее, а застывшая посреди него Огняна так же быстро уменьшалась и слабела, пока не ослабла вовсе, не потеряла всё, что выгрызла себе за годы обучения и сражений. Маленькая и слабая перед домами и асфальтом, продрогшая без волшбы, она больше не была почитаемой душегубкой, любимицей дружины и защитницей волшебного мира – в лужах облезлого ненашенского двора стояла жалкая Огнянка, нелюбимая дочь пропащих бражников. Ни силы, ни ловкости. Ни друзей, ни уважения. Ужас, голод и страх, и пробирающий до костей холод, и самое страшное – беспомощность. Она слаба и беззащитна, нага и повержена. Брошена под ноги неумолимому врагу, у которого даже нет лица.
Решетовская не выдержала и закрыла голову руками, как в плену закрывала от тяжёлых сапог, метивших в виски и лицо. Завыла тихо, тонко и жалобно.
Её не победили ифриты, но её почти победила родина. Лишила волшбы, силы и смысла. Убила за три колодца, после войны отданные в пользование ифритам.
– Ты смари, какая стрёмная… – послышался развязный голос. – У нас тут такие не ходят, у нас это, налог на кислую рожу. Улыбнись, кукушка, с тобой приличные люди говорят!
Сзади справа согласно заржали. Решетовская опустила руки, выровнялась, какой-то миг не понимая, что происходит. Обернулась, сверкнув дикими глазами.
Четверо парней подходили к ней с разных сторон. Они шли вразвалочку, пряча руки в карманах и нахально улыбаясь. Что-то радостно екнуло в груди у Огняны, и всё отступило перед восхитительной возможностью пустить в ход кулаки. Она душегубка, она воин, и докажет это. Не этим нелепым в нарочитой угрозе ненашам, нет. Ей было, кому доказывать.
С неё могли снять кольчугу. Её могли бросить в каземат с предательницей. У неё могли забрать хоть всю волшбу, хоть саму душу, но железную выучку Елисея Ивановича отнять было невозможно.
Решетовская очень медленно засунула руки в карманы, нащупала наконечник стрелы – зажатый в кулаке, он многократно усилит её удар. Оценила каждого из ненашей – каков сложением, как стал, куда полетит его кулак, когда начнётся. Без волшбы нужно быть осторожной как раненой. Да разве ей впервые-то?
Чуть развернувшись, Решетовская сделала несколько шагов назад, чтобы не быть окруженной. Отметила все лужи, в которые могла попасть ногой, грязь на обочине, где могла поскользнуться. Бросила короткий взгляд на человека за спиной. Повела ноющей шеей.
– Чё, малая, страшненько? – загыгыкал сзади ещё один ненаш, отрезая ей путь.
Огняна молчала. Ждала. Чего греха таить, предвкушала. Ощущала, как в груди разворачивается знакомый сладкий трепет. Как уменьшается город, сворачиваясь до четырёх человек. Как предавшая её родина подходит к ней с четырёх сторон, надеясь испугать и загнать в угол. Как бегут по мышцам крошечные молнии.
На плечо душегубки опустилась воняющая рыбой рука, но она не пошевелилась.
– Да она ща струю от страха пустит. Ты не боись, мы пацаны конкретные, того… Ласковые… Тебе понравится, отвечаю!
Ненаши всё ещё стояли неудобно, и Огняна повернулась к тому, что был сзади, сделала к нему несколько уверенных шагов, вынуждая отступить.
– Слышь, к Костяну сама пошла, это, сознательная, прикинь!
– Эй, ты так не газуй, малая, тут свои порядки, кто первый!
Решетовская остановилась перед кривой рожей хохочущего Костяна. Вот теперь ей было гораздо удобнее. «Только не убить», – приказала себе она и сбила его с ног подсечкой, так, чтобы повалил за собой ещё одного. Покачнулась, но удержала равновесие, перепрыгнув с одной ноги на другую, и это стоило Огне захвата сзади. Сильно мотнув головой назад, Решетовская разбила своему противнику нос. Тот с воем выронил её на асфальт, а Огняна всё-таки не смогла удержаться на ногах и покатилась по земле. Выпустила наконечник, ухватила занесенную для удара по ней ногу и вывернула. Ненаш заорал, Решетовская немедля получила от кого-то по почкам, но успела перекатиться и прыгнуть на ноги до того, как её положение на земле стало безысходным. По-хорошему явно не получалось, а раззадоренные ненаши даже не думали останавливаться. Их было, в конце концов, четверо против худющей девчонки. Заклиная себя: «Не убей!», Решетовская сгребла с земли наконечник и нанесла первый опасный удар – в голову. Ненаш покачнулся, не устоял и стал заваливаться на бок. Она вмиг оказалась за его спиной, надеясь толкнуть на остальных.
Расчёт оказался неверен. Ноги запутались сами собой, толчок получился слабым. Потерявший сознание упал у ног душегубки, а у её противников появилось время подумать.
И вынуть ножи.
Зато одним ненашем меньше. И тремя клинками больше. Огняна оскалилась кривой улыбкой и попятилась, чтобы все трое были ей хорошо видны. Стянула с плеч неудобную джинсовую куртку и резко стеганула ею по глазам того, кто был справа, рождая крик боли. Прыгнула, ударила, не справилась с прыжком и почувствовала, как горячо скользит по рёбрам острое лезвие ножа.
Поломанной она была душегубкой.
– Ты чё сделал, дебил?.. Ты чё сделал?! – заорали над головой, когда она рухнула на землю, едва не раздробив колени.
– Валим отсюда! Валим!!!
Ненаши подобрали двоих бесчувственных товарищей и убрались прочь, оставив на земле раненую Решетовскую.
Кровь капала в лужу и расходилась причудливыми завитушками.
…Ей было пятнадцать, и в первый день зимы юнка душегубского стана Огняна Решетовская насмерть сцепилась с юнцом Ратмиром. Он был на несколько лет старше нее и в два раза сильнее, но Огняна была слишком разъярена, чтобы это могло ей помешать. В ход шла волшба, комья заснеженной земли и захваченные с землёй камни. Юнцы катались по снегу в костоломных захватах, и густое алое марево волшбы спаяло их намертво, не давая растащить. Прибежавший на шум наставник Елисей Иванович, не мудрствуя лукаво, вылил на них огромную дежу с водой – из тех, что были приготовлены для кухни. Дерущийся клубок закричал и распался.
Огняна откинула за плечи едва не задушившую её косу, перекатилась на бок и попыталась встать. Не вышло – подвела перешибленная в драке стопа. Из разбитого носа в лужу стекала густая тёмная кровь и расходилась причудливыми завитушками.
Длинные волнистые волосы Ратмира стали почти дыбом, и бесстыжая Владимира не выдержала и захохотала. За ней засмеялись другие юнцы, под неодобрительным взглядом Елисея загоготал наставник Любомир Волкович. Было больно, обидно и стыдно, но Огняна криво улыбнулась и стёрла ладонью кровь.
– В лечебницу! Оба! – заверещала злобная чередница Кошма, раздавая подзатыльники – и тем, кто дрался, и тем, кто смеялся. До Любомира Волковича она не допрыгнула. – Это ж надо!.. Это ж удумать!..
До своей светлицы в девичьем терему Решетовская добралась уже в густых сумерках, добросовестно пролечившись у чередниц. Сдёрнула с кровати расшитое покрывало и опешила. На простынях лежал наконечник стрелы, одной из тех, что принадлежали Елисею Ивановичу. Наставник был в её светлице и хотел, чтобы она об этом знала.
Недоумённо хмыкнув, Огняна накинула полушубок и вышла на улицу. Светила почти полная луна, обережные костры на окраинах стана давали ещё немного света. Потерев занывшую на морозе разбитую губу, юнка пошла по спящему стану.
– Огняна, – позвал Елисей Иванович от молодых густых елей.
Решетовская невольно поджала губы, готовясь слушать гневную отповедь наставника. Елисей Иванович славился крутым нравом, а драк юнцам вовек не прощали.
– Ты чего дрожишь? – строго спросил он, подходя ближе.
Суровый, неулыбчивый Елисей Иванович, светлоглазый сын древлянских лесов, вызывал у юнок смешанные чувства страха и обожания. Ни тем, ни другим Решетовская не грешила, и с Елисеем Ивановичем, как, впрочем, и с другими наставниками, частенько держала себя дерзко.
– Показалось вам, Елисей Иванович, – ответила она вызывающе.
– Пойдём, разговор есть.
В большой беседке, где проводились летние занятия по грамоте волшбы и общие собрания, Елисей расчистил от снега длинную лавку. Кивком велел Решетовской садиться, и вдруг со всей ясностью Огняна поняла, что он нервничает. Наставник по-прежнему был строг лицом и уверен поступью, но что-то в движении больших ладоней выдавало его. Без кольчуги, в простом полушубке, без очелья на расплетенных волосах он выглядел непривычно.
– Причина свары? – спросил Елисей резко, так и не найдя себе места.
– Сказал, что мои родители – бражники, – колко ответила Решетовская, скрестив руки на груди и низко опустив голову, чтобы скрыть упрямство.
– Разве солгал?
– Нет. Но не ему решать…
– И не тебе, – оборвал наставник. – Будешь о всякую колкость терять самообладание – славным воином тебе не стать.
Огняна вскинулась со своего места и встала напротив Елисея. Она всё равно была ниже его на целую голову, и ей неудобно было смотреть на него свысока, но она истово пыталась. Мало что могло так вывести из себя Решетовскую, как упоминание о её презренном происхождении. Она из жил рвалась, чтобы стать душегубкой, почитаемой и уважаемой. Чтобы навек смыть с себя клеймо дочери бражников.
– Вы меня вызвали поучать да отчитывать, Елисей Иванович? Могли и завтра, перед всеми, в назидание! Огняна Решетовская посмела быть дочерью бражников и посмела не желать, чтобы об этом трепали по всему стану! – фыркнула она гордо, но обида в голосе всё равно звенела близкими слезами.
