Река на север
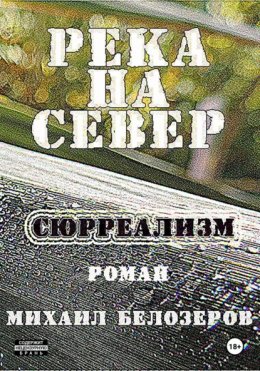
Посвящается Крыловой Наталье Николаевне
Предисловие
Вот присланные мне аккуратные кирпичики файлов: Ivanov1.doc, Ivanov2.doc, Ivanov3.doc… Начало: слог «дно». Ладно? На дно? Приятие всего, что творится на свете, или попытка залечь на дно, скрыться, уйти? Или, возможно, главный герой Иванов, загнанный мыслями о заговорах и преследованиях, будто шпиком, в тупик, мычит туповатое английское «не знаю» – «dunno»? Читатель, как и герой, – пешка в чьей-то игре – в самом начале романа тоже мало что знает, но по всей глади текста раскиданы блесны, на которые ловится интерес: куда пропал сын Иванова, кто убил его друга, с какой женщиной разделить жизнь (множество изумительных Изюминок – да, да, так и зовут одну героиню – понатыкано вокруг него). Первая жена умирает – и ты навсегда становишься фаталистом.
Начало фрагментарное. Хваткая хроника. Пульс новостей. Музыка «Время, вперед!» Фортиссимо спрыгивающих с клавиш атакующих авторских фраз. Действие происходит в «последнее лето тысячелетия» – границы стерты, один эон сменяет другой – и в лицо жарко дышит надвигающийся волкодав – новый век.
Заглавные кадры: Иванов, господин Трубочист, доктор Е.Во., богатей Ли Цой, обожающий всласть окунуться во власть. Чем не комедия дель’арте? Аппаратчики, кадровики, армейские офицеры. Описание каждого – умелая зарисовка. Белозеров сродни Чехову (у которого, кстати, есть пьеса под названием «Иванов») – абсурдно, гротескно описывает провинциальных персонажей, живущих в «Великой стране».
Идея «Реки на север» проста: поиски сына. Иванов ищет сына, а в то же самое время – метафизически – и себя. Если было бы только о сыне, богемном художнике, – получился бы роман воспитания. А тут – роман-искание, или, лучше, роман-взыскание: что делать, какие существуют в современном обществе ценности, кто виноват, что почем?
Эпоха походя. Перемена ветра, ветер в башке, страна без руля и ветрил. Вешки времени: повествование чередуется непонятными, но грозными событиями, высовывающимися из-за страниц, будто военный сапог из-за театрального занавеса: «со времен Первого Армейского Бунта…» Мужчины здраво интересуются политикой и войной, но политика эта имеет мало здравого смысла. Кто, с кем воюет – неясно, однако во время борьбы карьеры крушатся, как кариесные зубы во рту. Загадочный Бунт (Первый, Второй…) бессмысленно и беспощадно бушует за кадром, будто гроза (или это работа монтажеров по звуку?). Тягаются друг с другом лисьи закулисные силы. Развенчиваются громкие фальшивые идеалы всегдашних времен.
На громадной подмалевке романа-эпохи виднеются мужчина и женщина. «Его дикие запои. Ее блеск среди городских чиновников, которому она вдруг, в одночасье, научилась – естественные установки общества – красиво, выставив вначале ноги, а затем прямые плечи, выйти из машины». Вокруг них – кордебалет из смешных и страшных героев: «медвежий угол, где думают и пишут с тугомордой крестьянской хваткой»; «семеро обнаженных девиц, вполне довольных собой. Маленькие кареглазые зверьки, ищущие встречного взгляда»; мормоны, расставляющие силки на заблудшие души – «образцовые губастые мальчики со щенячьими шеями».
Попутно ловя «заблудшие души», писатель Белозёров при помощи недосказанности (которая свойственна не только литературе, но и политике) превращает роман в вечный, во вневременной.
Герой автору вторит. И действительно, романы должны писаться желчными, жилистыми, недовольными жизнью и окружающей их литературой людьми. Всех остальных культуртрегеров автор ставит на плац. Выкликает по одному, держа автомат на весу. Недостаточных тяжеловесов («сомнительно-пресные авторы типа Олега П., которого кто-то очень старательно правил») надлежит расстрелять. Анфас авторучки. Нажимаешь на поршень, и наружу вылезает чернильный кругленький шарик – пуля из дула. А вот дуля с маком тебе! Расквитаться и восстановить статус кво.
Кому интересно, что думает человек, мягко посапывающий на диване? Кого занимает укутанный в вату событий пузан? Нас завораживает человек, разрывающий кокон! «Куда его тянет? Вовремя остановиться. Если бы не это проклятое тело и привычка питаться три раза в день». Автор, как и его герой, – мизантроп, но это такая мизантропия, которую хочется пить из мензурки, будто лекарство.
Сюжет порой равен растеканию мыслей. «Романы пишутся со скоростью жизни». Мир – это текст, а главный герой – редактор этого мира. Небольшой, переносной, но невыносимый литературный бедлам. Все что-то пишут. Упомянуты: писатель Савицкий, «добряк Гунин, которого связывала с Бродским какая-то тайна», «дружище Веллер», покончивший с собой поэт Борис Рыжий, умершая от рака поэтесса Нина Искренко. Походя касаемся Нарбиковой, Синявского, «метафизических заблуждений Мамлеева». Пытаясь отыскать сына, Иванов приходит к гадалке и по иронии судьбы узнает в ней «редактора разорившегося издательства». Сам Иванов тоже редактор. Как говорится, не умеешь продавать книги – пялься на звезды.
Мысли балансируют на грани безумия и зауми. «Пространство нельзя обидеть, решил Иванов». Алчность, подхалимство, похоть, мещанство, вещизм – все с любовной тщательностью подмечено и размечено на аксиологической карте для того, чтобы потом разгромить.
«– Можно, я с ним поговорю, – предпринял попытку Иванов и вдруг почувствовал, как сквозь замочную скважину за ним наблюдают. Дергающийся, как паралитик, зрачок, и явно налегающее с той стороны петушиное тело (язва или застарелый колит)».
Мужское отношение к женщинам, к жизни. Попытка философии: «прагматизм Пирса», «теория кентавризма». О чем же думают женатые, но, по сущности, так и оставшиеся холостыми мужчины (ласка и нежность всеми силами запрятаны вглубь)? О Саскии, о Королеве, о Гане, о Радмиле, об Изюминке-Ю.
О, Изюминка-Ю! О, Королева!
Феминисты не полюбили бы этих вот строк: «конечно, Губарь женился из-за ее ног. Ноги стоили этого. Длинные и гладкие, Иванову они всегда напоминали лощеных тюленей».
Женщина создана для мужчины, и она же является отражением его комплексов – в этом убежден Иванов. «Тихая постельная война – кто кого?»Война в постели, война на посту. Война полов и полков. Все эти Саскии, Ганы, Радмилы – это, в сущности, комплексы Иванова, неосуществленные креативные планы. Книги, которые он не издал. Стихи, которые не написал. Солдаты, которых не спас (в прошлом он военврач). Если верить статистике, мужья начинают изменять женам, когда на работе у них нелады. Иванов мечется, и глаз его начинает блуждать. В ход идут ровесницы сына.
«Самые приятные женщины те, которые существуют для единиц, которые не всем говорят «да» и взгляд их не дерзок, а тверд». В мужчину с такими воззрениями, как Иванов, можно влюбиться. Вот он танцует с тобой на балу, а потом не раздумывая стеком лупит по лицу лупоглазого мужика «с туповатою хваткой». Это терпкий мужской роман, из-за дыма страниц на нас глядит едкий писатель.
Роман, при всем наличии в нем сентиментальных историй, еще и политический триллер. «Кот, вылетающий, шерсть дыбом, из квартиры покойника». Иногда Белозёров так увлекается террором и неразорвавшимися бомбами дурных подозрений, что начинает давиться словами. На ум приходит роман Андрея Белого «Петербург».
«…профессионалы… – Сердито захлебывался. Выпученные глаза загадочно блестели, – мастера зубочисток… острого пера… (можно еще добавить: пижамы, мыла, просторванцы, делающие под козырек ради килограмма вермишели или бутылки «Каберне»).
Чудовищный уровень обобщений. Наш маленький Армагеддон. Иногда, впрочем, появляются местные краевые детали. Украина украдкой. Без нее, как бы ни скрывал он свою «малую родину», автору не обойтись. Есть странный русский современный писатель по фамилии «Иванiв». Вот и наш Иванов, как тот Вiктор Иванiв, живет на стыке двух культур, украинской и русской. В романе, например, присутствуют Леся Кухта и Вета, объединенные однополой любовью. Леся Кухта – чем не отсыл к знаменитой украинской писательнице Лесе Украинке? «Угол Драйзера и Шнитке» – что это за таинственная литературно-музыкальная топография? Где эта улица, где этот дом? Город, в котором происходят события? – вымышленный монстр, или улица, на которой живем и на которой все до боли знакомо?
Кассета, за которую убили Сашку Губаря. Вторая Коммунистическая война. Какой-то немыслимый план, в соответствии с которым уже распределены портфели будущего правительства. Героини с по-саше-соколовски звучащими именами: Вета Марковна Барс («Школа дураков» упомянута тоже). Автор выучил литературный урок.
Его любовь к деталям похвальна: «вентилятор вяло разматывал жару бесконечно-ленивым шарфом», «отрывала наклеенные ногти цвета воспаленной плоти», «он не стал гением, но там, где ступал, порой в воздухе возникали вихри». Вихри действительно возникают. Текст намагничен и в то же время магичен. Это прекрасная проза, которую стоит читать.
Маргарита Меклина, США.
Глава I
…дно, – произнес Иванов, предваряя следующий вопрос и во многом ставя себя в неловкое положение.
– Нет, все-таки?.. – настаивал оппонент, слегка раздражаясь и ничего не скрывая в своих намерениях, – … прав… – и недовольно морщился.
«Ах, шельма, – думал Иванов, отводя взгляд от худого иноземного лица и мельтешащих за ушами бабочек, – словно я тебе дурак, словно на мне воду можно возить…»
Извечная проблема – предполагать, что у собеседника больше ума, чем на самом деле. Рано или поздно кто-то на этом ловился, словно за красивой вывеской обнаруживалась пустота выветренных мозгов или ослиные уши.
– …Мне будет крайне непри… – напористо говорил человек, проглатывая слова, – если…
Что «если»: найдут поутру зарезанным или – сунут головой в бетономешалку?
– …если наши мнения не совпадут… – Крутил шеей в жестком воротничке.
Второй, одетый в стиле «милитари», позевывая, смотрел в окно и делал вид, что находится в комнате случайно – весь, по частям, – калека, с протезами для совести и вставной челюстью для душевного равновесия. Каждый раз он молча приходил и садился в угол, как великий созерцатель, и напомаженные кончики усов свисали над жующей губой, как щетина у моржа.
Не представленный доктор Е.Во. Сподвижник трубочиста. Может быть, насильственный материалист? А-а-а… – понял Иванов, – чиновник из Министерства Первичной пропаганды. Иногда он забывался и проглатывал жвачку, но чаще любопытства ради оставлял ее приклеенной к днищу стула, на котором сидел.
«Будет, будет… – снова думал Иванов, глядя на них обоих, – трясти всяким шибздикам своими ручками перед моим прекрасным носом…»
По коридору бегали, и каждые пять минут кто-то с хваткой папарацци совался в дверь: «Шеф! Я так не могу… гы-гы-гы… облысею…» и протягивал бумаги на подпись.
Вентилятор вяло разматывал жару бесконечно-ленивым шарфом.
– Но разве я не пра?.. – загадочно вопрошал человек, двигаясь по серой комнате, как по минному полю. – Здраво рассудив, по логике вещей?.. В концепции общих направле… в динамике мне… – и чуть незаметно, словно советуясь, адресовал вопрос к окну, так что Иванову хотелось подойти и похлопать щетиноусого по вислым, надутым щечкам, не боясь уколоться и стряхнуть траурную пыльцу с разлетающихся бабочек, – как духи Диша[1], они возвращались на не заращенную тонзуру.
По пятницам и вторникам ему всегда так отвечали, воображая, что значительны от рождения, от ассирийского начала, что ли? Со своими ужимками, чубчиком и обгрызенными ногтями. Со своей новоявленной логикой, большими деньгами, запахом пота и трубочного табака. «Если у тебя длинные рукава, носи резинки, – хотелось добавить вслух. – Вот здесь, на гребне третьего тысячелетия, перед человеческим самодовольством, его свинством… прав, прав Ипполит Тэн[2]: «Философия подразумевает и стиль жизни», – думал Иванов, – и снова кто-то решает, пользуясь властью обстоятельств, и так будет всегда и никогда не изменится, потому что… потому что…»
– Существуют же какие-то принципы, в конце концов… – Бабочки взвивались укоризненным роем, как мыльные пузыри над горячим асфальтом.
«…потому что – трубочисты-полукровки… выхолощенные извилины до седьмого израильского колена, безвольные подбородки, спрятанные в перхотные бороды. Деньги, которые делали их хамами с теми, у кого их нет… Потому что на вопрос, что они знают об Олби, не задумываясь, ответят: «Реклама фирмы», и будут формально правы».
– Совесть, мораль… – Маленький человек, потеряв осторожность, обращался в забавной умозрительности к собственным мыслям – каждый раз: ручеек по сомнительному ложу (дохлая раздутая кошка, край ржавой банки, скользкие бутылочные осколки), – общепринятые ограничения нравственности к тому же… – замашки мандарина – почти неподдельные, искренние, как святое причастие, как облатка на язык, – чувство меры хотя бы…
Пауза, вставленная для эффекта или позы, палец, указующий в облупившейся потолок. Давно ли чванство и циничность возведены в ранг добродетели?
– …Мы все должны… заботиться о… превыше соблюдать пра… работать на одного дя… – проговорился на выдохе.
«Ух ты!» – восклицаете вы, но ничего не поймете, ибо собеседник давно поднаторел на лжи.
– Я понимаю, что вы мне просто выворачиваете руки, – сказал Иванов, пытаясь в столь завуалированной форме воспротивиться и нежно взывая к совести собеседника. В присутствии других он безнадежно глупел.
Испепеляющая мимика в диапазоне от гневливости до презрения (суетливая паника вокруг макушки). Вместо ответа поволок по комнатам. Тайная гордость новоявленных. По-хозяйски желая произвести впечатление, словно подгоняя под мерку проеденных рецептов.
Доктор Е.Во. сопроводил равнодушным взглядом. Сунул за щеку порцию жвачки. Согбенная спина приросла к спинке стула, как тело черепахи к панцирю. Лицо, застывшее посмертной маской скудоумия.
Чаще за многозначительностью кроется спесивость, а не ум.
Отрывались от экранов. Недоуменными тенями постных лиц витали под потолками, избегая взгляда нанимателя. Белые рубашки тех, кто никогда не привыкнет к ним и для кого они так и останутся ненавистной частью одежды от былого величия империи.
– …все они тоже пишут… – распространяя запах набриолиненной головы, скороговоркой сообщил человечек, – здесь, здесь и здесь… – За дирижирующей ручкой скрывалась привычка раздражаться.
«Сравнил… – думал Иванов, – палец с этим, как его…»
– …профессионалы… – сердито захлебывался. Выпученные глаза загадочно блестели, – мастера зубочисток… острого пера… (можно еще добавить: пижамы, мыла, простокваши, делающие под козырек ради килограмма вермишели или бутылки «Каберне»).
Вероятно, господин Ли Цой забыл, с кем имеет дело: в литературных кругах Иванов давно чувствовал себя белой вороной. Впрочем, его уже перестали удивлять потуги в стиле Карелина или вторичность форм Бродского, журналистские романы, в беглости которых не стоило сомневаться, вырождение мыслей еще до первого вздоха. Взращено серостью школ и провинциальных университетов, кичащихся рассуждениями какого-нибудь профессора-словесника и поклонников Юза Алешковского по форме и в худшем варианте языка – без помысла проникновения в суть, (да и возможно ли?), демонстрирующих полную творческую беспомощность. Филологически грамотно писать – еще не значит быть художником. Свобода не существует вне автора. Подобострастие перед любым заезжим литератором-иностранцем или чеховедом… Пренебрежительное похлопывание великих на литературных скопищах: А. А. А[3]и И. А. Б[4](вокруг каждого имени кормится своя банда борзописцев), рассчитанное на эффект приобщения хотя бы таким образом. Восторги с придыханием: «О-о-о!..» Медвежий угол, где думают и пишут с тугомордой крестьянской хваткой… Разжевывают преснятину от «а» до «я», не помышляя выскочить за флажки – бивуачная литература. Жалят друг друга с хитростью комаров, топят друг друга в одной и той же луже. Старо, старо…
Брюки волнами сползали на туфли. Рубашка пузырилась на тщедушном теле. Так и хотелось сказать: «Подберитесь… подберитесь… пора перейти к делу, как вам не надоело…» Сколько раз давал себе слово не унижаться.
Машины были новенькими, но уже с захватанными клавиатурами и пыльными экранами.
– …и здесь тоже… – говорил маленький человек, не глядя ни на кого, врываясь в следующую комнату, в которой поспешно прятали глаза и пахло свежей баклажанной икрой, – шестьдесят миллионов…
В общем-то, Иванову было наплевать. Стоило повесить на пуп лишнюю звезду Давида, чтобы трясти ею перед себе же подобными, но не перед забитыми служащими.
– …основных фондов на…
«Поди ты, поди ты…» – снова думал Иванов. Цифры он пропускал мимо ушей. Скотский уголок. Все люди равны, только некоторые равнее.
Лет этак… назад, во времена тщеславия и наивностей (касательно – клериканской «Вiдрижки» и заграничного «Винилового наркомана»), его комната была завалена романами, пьесами и стихами. Камерный андеграунд, словно под печатью сжатых пространств (борьба со словом и за слово, «крайние» призывы, взваливание пирамид, чтобы уронить кому-нибудь на ногу), романтично-сентиментальные опыты начинающих и тех, кто пытался пришиться белыми нитками и священно, с придыханием, восклицал: «Ах! Это же поток!..», действуя по принципу «алгоритма Британского музея», когда, упражняясь на печатных машинках, группа обезьян за миллион лет наряду с множеством бессмысленных вариаций создаст копии всех книг, хранящихся в Британском музее, – «старые» и «новые» сенсуалисты. Отрицание форм – ради собственно отрицания, в силу неразорванной пуповины и забытых рецептов. Дисморфомания. Третья дорожка между концептуализмом и метареализмом. Что там насчет дырки в холсте?[5]Ха-ха! Возраст непережеванных пустышек и использованных презервативов. Авангардное течение: осознанно авангардное и туманные, неясные желания изменений. Маленький человек (господин Ли Цой) не унимался. Ручки крыльями мелькали в воздухе. Глаза казались сухими и властными – не останавливающиеся ни на чем. Не задумываясь, отправил бы на кол или в каменоломни – во имя трезвого расчета и политической дальновидности (за понюшку табака) – не высовываться! Не хватало вместимости для пива, водки и помидоров. Тридцать три главных козыря – и все выложены ежемоментно, в течение двадцати минут. Забытая трубка, не успев догореть на столе, была снова засунута между гнилыми зубами. Фтора местная промышленность не выпускала.
Знакомо до мелочей, за исключением незначительных деталей в перестановке междометий и восклицаний. Во имя высших целей, понятных избранным. Ради достижения. Роста. Плеврита, судя по чахлой груди. И процветания. И здесь и там – все одно и то же.
«Кто всех этих женщин?.. – думал Иванов, – тошно ведь за гривны. Не хватает, не хватает – веса и ражести, а так бы я согласился…» В одной комнате с удивлением узнал свою старую знакомую. В прошлом миниатюрная, она выглядела настоящей толстухой, словно налилась соком. Смутилась. Делаться вещью человек тоже должен уметь. Однажды в подпитии он провожал ее домой с какой-то киношной вечеринки, куда попал совершенно случайно, и где они оба, оказывается, знали: она – только главного режиссера, он – только его заместительницу, с которой умудрился тихо, но верно поссориться, и чем ближе они подходили к ее дому, тем более длинными становились паузы, возникающие в разговоре. Ему хватило выдержки подняться к ней и отделаться тем, что прихватил какую-то книгу, которую вернул затем по случаю. На лице у нее застыло вечное разочарование.
– Хорошо, – невпопад ответил Иванов – лишь бы что-нибудь ответить, лишь бы только не ходить в русле сладковатого запаха то ли бриолина, то ли немытых волос, лишь бы только доктор Е.Во., оторвавшись наконец от панорамы верхушек тополей и серых крыш за окном, молвил слово, лишь бы бабочки с пергаментно гнущимися крыльями прекратили свое недвусмысленное мельтешение.
Все надоело, хотелось пойти домой и прилечь на диван. Почему-то вспомнил услышанный накануне разговор в магазине: «А зачем?.. Работать? Я уже привыкла крутиться на свою пенсию. Не хочу!» Вторая с обреченной покорностью сочувственно кивала. «На свою пенсию, – подумал Иванов, – знать ничего не знают и знать не желают. Когда-нибудь все это гавкнется вместе с…»
– Мне не надо, чтобы вы согласились из-под палки, мне вы нужны целиком!.. – оборотив к окну лицо недомерка на петушиной шее, непристойно фальцетом выкрикнул господин Ли Цой.
Казалось, стоило добавить: «с потрохами…» Глаза закатились от восторга и бессмысленности фразы. Культурный человек ведет монолог только внутри себя.
С минуту буравил взглядом стену. Может быть, он упивался собственным величием? Непреодоленная инфантильность маленького человека, в одночасье пытающегося стать взрослым в мире, который ему не по меркам, не по силам. Груз, который будет давить всю жизнь и однажды приведет к бутылке или игле.
– Господин Ли Цой, а также… – Иванов повернулся в сторону окна, – мне хотелось бы подумать.
Он беспомощно замер, как школяр, чувствуя свою ненужность. Порой ему снится один и тот же сон, в котором он вечно, страдая от неполноценности, сдает экзамены или ищет аудитории, забывая расписание, опаздывая, – получает свой «неуд». Примерно то же самое он испытывал сейчас.
Доктор Е.Во. смотрелся манекеном. В свое время защитившись по теме: «Эвристическая закономерность распределения блох на теле млекопитающих», считался специалистом по избирательным кампаниям и подбору курортных жен боссам города. Угождатель, наивно решивший, что смысл жизни в политике, любящий бахвалиться легкими доходами и таинственными связями.
Господин Ли Цой в самостоянии аиста перешагивал через невидимые преграды. Бабочки выражали скрытое неудовольствие.
– Думайте! Думайте!.. – Ножка, независимая, как ступень эскалатора, как убегающие в туннель рельсы (модельные туфли, подошва на микропоре, лаковый квадратный верх), повисла в воздухе. – Возьмите лист бумаги и распишите плюсы и минусы. – Глаза уперлись бескомпромиссно и плоско, как у соленого леща.
«Слава богу, он и так справится, – думал Иванов о себе в третьем лице. – Плюсы и минусы! Ясно, что я сюда больше не явлюсь. Господи, как тяжко с ними!»
– Мы заинтересованы в сотрудничестве, – в очередной раз удивил его господин Ли Цой, – очень… – Вероятно, еще бы раз с удовольствием посмотрел бы на ноги Листьева из-под простыни, чтобы извлечь тайную выгоду. Ботинки человека, которые стали просто ботинками. Вещь (всегда вторична?), уже отделенная от живого невидимой гранью. Или поковырялся бы в кухонных отбросах на задворках города. Что и делал в своих газетах, метя куда выше. Ощущение безнаказанности из-за обезличенности толпы, не умеющей выбирать своих лидеров, наивно путающей их с апостолами. Стать депутатом городского парламента на всякий случай, авось выгорит. Вполне привычные и родные – полууголовные сферы.
Вторая серия смутила окончательно. За потоком слов ничего не стояло. Завуалированная угроза? Он не мог понять. Словесная шелуха с проскальзыванием «гурманных» словечек, свойственная новой волне. Или новое миропонимание, недоступное никому иному. Иногда казалось, что перед ним годовалый козел, у которого чешутся рожки: «Бе-бе-бе… бед-да-да с нами…» «Все красивое кроваво…» Гипноз денег или пустого живота?
Решился:
– Господин Ли Цой… то ли я дурак, то ли вы так сложно выражаетесь? Говорите прямо.
Если бы опешил, улыбнулся, было бы легче, – как у насекомого, напрочь отсутствовала память. Осталась лишь оскомина, словно от кислого яблока. Ген интеллекта шестой хромосомы явно скатился куда-то в мошонку. Не прерывая разглагольствования, перешел: на тему стоимости бумаги – пересыпание подробностями; на нерадивость подчиненных – высокомерная блистательность; на отсутствие хороших кадров – болезненное сетование. Хотелось ответить: «Ешьте побольше сметаны, отрастите живот и думайте о павлинах… Солидности… солидности… В прошлый раз…»
Перебили:
– Вопрос решен?! – спросил господин Трубочист так, словно не интересовался этим при каждой встрече, словно стоит выйти за дверь, как у них здесь все забудется, съедет куда-то за шиворот, чтобы размазаться по спине.
Неизвестный у окна (доктор Е.Во.) наблюдал исподтишка. Недостающая извилина Аода? Тайный каменщик или советник? Обладатель гуттаперчевого позвоночника или прирожденный исполнитель? Человек, решивший, что умеет протаскивать к власти, трижды на день вываливаемый в перьях и репьях, но слишком любящий деньги и отделения для невротиков.
«Все шито-крыто этими самыми…»
– Незаменимых людей нет… – высказался Иванов в ответ на свои мысли. Какое ему дело до их странного меркантилизма?
– Ну, вот видите! – почему-то обрадовался господин Ли Цой. – Наконец-то… Значит так, о собачках, примерно… – в сосредоточенности пошевелил пальчиками под обшлагами рубашки, – страниц этак… на триста пятьдесят. – Даже не поморщился, не вспомнил о своем синдроме «хоботка», прогнусавил: «…Гвоздь программы, гвоздь программы – съесть три литра килограммы…»[6]А потом, возможно, нас заинтересует даже энциклопедия… Еще один боец? Честность – не самый лучший капитал (декларированный для простаков), впрочем, и бесчестность тоже. Интересно, за кого голосовал? Ах, да… За нынешнего губернатора, шоколадного короля, разумеется, не за религию «китайских мудрецов»[7].
– До свидания… господа, – попрощался Иванов.
Непривычное обращение еле слетело с губ. Если бы не эти дурацкие указы. Но по-старому тоже не назовешь: тюрьма, общественные работы. «Разве… разве можно оборвать мысль, привычку семидесяти семи лет. Как его там… то… това… Стало забываться, как, впрочем, и советск… советск…» Память – удобная штука, жизнь по указке иногда спасает от застревания.
– До свидания… – Иванов поклонился в угол, – гос… панове… «Тьфу ты, господи!»
Незнакомый человек (доктор Е.Во.) даже не повел усами. Уткнулся в окно, перекатывая за щекой жвачку. Новый визонер?[8]Или новый клериканин?
Пальцем – в тухлое яйцо, и испачкаться.
Господин Ли Цой сунул трубку в рот и усиленно втягивал щеки. «Спичечкой, спичечкой…», – едва не подсказал Иванов.
Без году неделя, совершенно незаядлый курильщик, понял: не умеет, для солидности – обгрызенный чубук, коричневая вязкая слюна – сомнительный подарок пищеводу и раздраженной печени.
Не делая паузы, в силу внутреннего уважения, дурных привычек (чтобы только собеседник не раздражался) – поднялся. Вытянул тело из кресла, руки – с подлокотников ненавистно взлетели и отодрали прилипшую рубашку. Как он не любил себя в своей униженности. Беззащитность принципов, обиды. Обнаженность чувств – для отфутболивания. Никакой политики. Складка живота, которому не дают расти. Абстрактность самого существования. Куда его тянет? Вовремя остановиться? Если бы не это проклятое тело и привычка питаться три раза в день. Ясно, его имя нужно задаром. Прошлое – вот что их интересует. Прошлое и настоящее. О будущем не задумываются. Будущее – похмелье, которое не всегда вытекает из настоящего. Но на прошлом можно делать деньги, и они это понимают.
Вчера господин Ли Цой позволил себе вольность: вытащил из кармана пачку зеленых банкнот (антипод беседующих в магазине женщин) и долго тряс ею в воздухе, распространяя тонкий запах краски и, как всегда, нервируя бабочек. Пытался поймать на том, в чем сам давно и крепко засел.
– До встречи. – Ничего не обязывающий ответ на немые вопросы, забытые еще до того, как он покинет кабинет.
Как их подбирают, коротышек, для начальственных кресел. Взгляд так и тянется – пальчики с траурной каемкой торчат из слишком длинных рукавов. Видели бы избиратели. На фотографии лучше – застывший, как марионетка, со вздернутыми руками и приплясывающими чреслами, но в белоснежном костюме. В реальности на денди не тянет.
В забранном решетками вестибюле охранники тупо смотрели телевизор. Открыли дверь, даже не оторвав взглядов от экрана.
Черные бабочки сопровождали до самого выхода, словно извиняясь за нелепых хозяев.
Вне издательства царило пекло. И только река, угадываемая за кварталами в пышной зелени парков и спешащая на север, дышала надеждой и прохладой. Захотелось искупаться, очиститься от дешевых, рвотных разговоров.
***
Если делать вид, что не замечаешь двух человек в защитной форме с дубинками и наручниками у пояса, то жара переносится даже совсем легко. Не поймешь, День Героя? Ура-патриоты с вилами в руках под желтыми паучьими знаменами? UA-уа-уа… Клерикане или нет? А, может, свои, – санкюлоты? Судя по возрасту, нет. Третья сила? Хотя… На всякий случай стоит обойти. На углу улицы тоже толпятся подозрительные личности. Бритые стальные затылки над квадратными плечами. Руки в карманах. Явно организованы. Перекресток заблокирован потными автоматчиками в бронежилетах и зеленых масках.
Человек в машине тайком показал блестящий нож. Нога придерживает распахнутую дверцу. Не хватает двух передних зубов. Шея в красных прыщах, содержимое которых с оглядкой перекочевывает в рот. Тонкие губы насильника, и золотой медальон садиста на безволосой груди. Убивают из-за лени думать.
Мальчишка, пробегая, бросил под ноги петарду. Пес поднял лапу на урну. Нищий подобрал окурок. Старьевщик проехал на телеге.
Государство рухнуло – прорвало канализацию, на поверхности болтаются одни щепки. Время, когда ты начинаешь чувствовать, что старые фильмы, по общечеловеческим меркам, не так уж и фальшивы, а их режиссеры так уж бездарны. Еще один лопнувший миф. Время, когда закатилась звезда обещанного счастья. Напрасно верили.
Перешел на другую сторону, под витрины шикарных магазинов и кафе («Элита», «ШаломЪ», «Берлога» и т.п. – однобокость роста и времени, продавцы, похожие на баобабов и торгующие трансгенной едой), в которые страшно входить (все низведено к желудку), под бахрому выгорающих листовок и разноцветные призывы: «…у старшины Андрея, китового детектива, в подворотне направо, за углом, можно приобрести прекрасный саван». …«И после того, как Бог назначил, чтобы все это постигло человека, вот, Он тогда увидел, что необходимо, чтобы человек знал все, предназначенное ему»[9]. Часть общества, которая чувствует себя оскорбленной. Создали еще одного двухтысячелетнего монстра, а теперь мучаются. Не стоило оглядываться – не из-за страха, а из экономии мыслей и эмоций. Республика, где все живут в ожидании Второго Армейского Бунта – или пришествия Мессии? Что лучше? Вопль на бумаге: «Подарите мне, подарите… билет до Парижа, я хочу уехать из этой чертовой страны!..» Взгляд изнутри, полный ужаса за плоть: заподозрят в ереси, которая не начертана на лице. Смелым перед самим собой тоже надо родиться. Стало так модно упрощаться и чувствовать себя несчастным, что осталось только пренебрегать. …«Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха»[10].
Слишком разношерстная паства, возникшая из серого безверия. Наносная кротость без традиций, без душевного равновесия, на слепом энтузиазме всемирных романтиков. Все в одночасье стали верующими. «…това… (оборвано) не бросай ору… перед лицом всемир… (издевательски зачеркнуто рыжей помадой)…» Со времени Первого Армейского Бунта больше никто не нагибал головы под пулями и не целовал мостовой, хотя привычки зародились и висели в воздухе. «Когда мы, мертвые, проснемся…» – вдруг вспомнил Иванов слова великого норвежца.
Где-то по соседству завыла сирена. Пронеслись машины. Грохнул то ли выстрел, то ли хлопушка. За ветвистой оградой палисадника, в глубине, стоял большой зеленый танк. Люди, сидя на броне, пили молоко из бумажных пакетов. Позеленевший Владимир, сняв шапку, с тоской взирал в сторону России. Город казался съежившимся, как заяц под кустом, лишь река спокойно и мудро, обвивая его, петляла среди холмов.
Глава II
Дома ждали. Пахло лекарством и подгорелой кашей.
Вторая и третья любовь – никогда не станет первой, даже если ты пытаешься жить по-иному – вытравить из памяти, даже если у каждой из женщин своя терминология любви.
Саския – та, которой всегда мешал пол. (Некоторые женщины забываются в конце концов. Встретив на улице, спохватываешься лишь через пару шагов – рабство памяти.) Не столько верующая, сколько суеверная, оценивающая по двоичной системе: «ласков–неласков»; в старом расписном халате (сексуальный стиль), нелепый парчовый передник с множеством складок, подчеркивающих лепной стан; рыжие ленты в нечто похожем на чепец – голландские фантазии; прядь спереди выкрашена хной – экономия на краске и мастере.
Накинулась с расспросами.
Что мог ответить – сам ничего не понял. Заставить работать за мизерную плату? Разговора не было. Попробовал бы кто-нибудь прожить день на пять единиц национальной волюты (громко звучит). Валюты, которую по привычке называют рублями. Если бы не эти неискоренимые привычки жизни, на борьбу с которыми тратится столько сил, сколько бы он сделал. Кто знает?
– Давно пора написать этому Битову, Соколову или Кураеву! А Пьер?! Париж!
Словно ошпарила презрением. Маленькая прелюдия к большой симфонии. Минутные ссоры переходили в хронические состояния неприязни. Эволюционировала к матриархату с помощью грубых слов и циничных жестов. Молча слушал. Даже через столько лет все еще эпатировала: «жрачка» или «облом». «Собака» – любимейшее выражение в диапазоне от нежности до ярости. Порой он находил в своих куртках зло скомканные платки и обломки раскрошенных сигарет. Хорошо еще, что там не было ампул с цианистым калием. Может быть только – за подкладкой?
– Я не хочу туда уезжать, – ответил, привычно сдерживаясь.
Россия стала далекой, как Америка. Куда уж дальше?
Подался, чтобы спрятаться в комнату. Втягивал под себя, как улитка, пятки и подбородок, но прежде она успела пару раз всадить в него вилки ненависти – нервозность, проистекающая от лености шевелить мозгами. Ей трудно было сосредоточиться и держать себя ровно весь день – легче разгонять облака и пыхтеть над кроссвордами. Недостаток натуры, обернувшийся достоинством в семейной жизни с точки зрения выворачивания рук мужу – старая песня.
– А тебя никто и не приглашает…
Женщина, которая всегда подчеркивает, что ты плебей. Выдержала паузу, как профессиональная скандалистка:
– Потому что ты вечно ляпаешь что-нибудь такое… – Покрутила ладонями, как ловкий фокусник, из рукавов которого выпадают самые неожиданные предметы, и вам это кажется естественным в силу стечения привычных обстоятельств, которые вы не можете или не хотите менять, и вы знаете, что вслед за красной лентой всегда появляется заяц с ослиными ушами, – и вам это тоже нравится, пожалуй, даже больше, чем собственный здравый смысл.
– Какая ты пошлая, – весело удивился он.
Может быть, его удерживала пустая могила? Верил и не верил себе – в свою странную верность. Знал, что все равно сдастся во имя семейного спокойствия и работы. Второй Жанны Эбютерн из нее явно не выйдет[11].
– Фу, какая я пошлая! Фу, какая я пошлая! – уперла руки в бока. – Но жизнь заставляет! – На лице запечатлелась торжествующая уничижительность, и вслед: – Позвони своей очередной девице, телефон оборвала… – Прекрасно умела менять тон: с презрительного на равнодушный.
– Она такая же моя, как и твоя… – Почувствовал, что достойно огрызнулся.
Впрочем, к его чести, он даже не догадывался, кто звонил. Может быть, из секретариата местечкового «Братства писателей», которым нужна рекомендация на собрата, или Королева, хотя навряд ли, потому что голос Королевы Саския прекрасно знает, и, конечно же, не Гд. И слава богу. Неужели вернулась? На момент отвлекся от ссоры – не ждал, не готовился. Отогнал соблазнительную мысль навестить, вот бы где расправиться, выплеснуть накопившуюся энергию из живота. Впрочем, это только в голове. Умозрительность не имеет характера гарантированной точности, пока не реализуется зримо.
Проверил: лицо осталось непроницаемым, как маска, – настолько непроницаемым, что он не понравился самому себе; тылы, прикрытые любимой комнатой.
– Знаем… знаем… – (многозначительно) Женщины, которых она не может простить только потому, что они сами с ним знакомились. – Позвони, гений!
Провинция не любит таланты. Вредно для пищеварения. Хорошо быть толстокожим, строкогоном в конце концов, писать литературные гаммы. Жениться исключительно на салонных дамах (на первой, второй, третьей… по закону больших чисел), сублимировать на этом с важностью открывателя звезд, быть патетиком и ловцом литературных блох.
Не выдавая чувств (апатический синдром? тайком улыбался в предвкушении работы), рассматривал выцветшие лимонные обои (не путайте с Лимоновской «Лимонкой»). Ремонт, к которому готовился пятый год. «Бедные греки! Бедный я!» Гд. оказалась бы весьма кстати. Не многие обладали ее талантом расхолаживать тело и душу. Заводить любовников, искусно храня все в тайне. Давно не ревнует. Но испытать жалость к себе – нет хуже наказания. Сравнивать себя с Киром Ксенофонта из Анабазиса? – слишком далекая параллель.
– Поеду в Северный Брабанд, – ответил вяло, как оглушенный, и подмигнул зеркалу, откуда на него глянуло незнакомое бородатое лицо. Вряд ли и она могла узнать его таким. Углы рта трагически опустились вниз, под глазами набухли мешки.
Созвучно пробанду[12]. Пусть догадывается. Спросить не хватит гордости. В худшем случае оставит упрек на утро.
Огромный торжественный зал, который он выигрывал два раза подряд. Топос[13]. И слепая курица раз в жизни находит зерно. Два года славы. В одном из которых – премия и антипремия. Кормушка для местной элиты. Приятное отвлечение. Всякая суета вокруг литературы кое для кого имеет пошловатый запашок скандала, а не таинственности. Провинциальный выскочка – как его поначалу считали. Чужак. Впрочем, он таким и остался. Косые бачки, косые взгляды. Разве это когда-то было? С тех пор власть в издательствах захватили бухгалтеры. Терпение – лучшая приправа для амбиций. Где-то на задворках всплыло грустное лицо Савицкого, одетого во что-то похожее на косоворотку. «Неужели ностальгия?» – спросил он. Кажется, их только представили, но они так и не поговорили. «Только запомни: я не живописатель и не картинщик…» Что он имел в виду? То, что за всех выразил Довлатов? По крайней мере, по честности один из них попал в десятку, а ощущение потерянности у обоих одно и то же. Добряк Гунин, которого связывала с Бродским какая-то тайна и который однажды сравнил его с незнакомым Мигелем Ламиэлем. Мелькнул на горизонте дружище Веллер. В издательствах почему-то думают, что все люди, покупающие в булочной хлеб, – писатели. Не стоит во всех случаях кивать на гены. У всех одни и те же, только качеством разные. ПЕН-клуб и метафизические заблуждения Мамлеева. Круговорот представленных замыкался какими-то второстепенными авторами, жаждущими познакомиться в те два дня, которые они были в Париже, и одним крайне обозленным писателем, который через фразу вставлял слово «жопа». Интервью же для прессы заключали в себе некий элемент циничности, ибо часто художественные приемы принимаются за натуру автора. Читающая публика не разбирается в тонкостях – за редким исключением. Новый сентиментализм. Ха! Нашли над чем вздыхать! Столько воды утекло. Даже Саския по его рассказам помнила больше – то, над чем они вечно спорили: формальная общность «Школы дураков» и рассказов Казакова, чем страшно был удивлен Саша. Притянул осла за уши. Безапелляционность суждений Курицына, кивающего на сомнительно-пресных авторов типа Олега П., которого кто-то очень старательно правил. Что это, конъюнктура, заказ или слепота? Время конца домовой литературы в толстых журналах. Никому не верил в суждениях, кроме себя. Давно утвердился в этом правиле. Может быть, и правда, позвонить Пьеру, который вряд ли еще на что-то способен. Да и жив ли? Принять наконец приглашение, о котором все уже забыли. Нужен ли он вообще в Париже со своими мыслями и сомнениями?
Там, в крохотном переполненном зале, с сердцебиением, как у колибри, он восемь лет назад увидел золотоочкового Бродского, читающего «Лагуну». До сих пор помнил: «И восходит в свой номер на борт по трапу… постоялец, несущий в кармане граппу, совершенно никто… человек в плаще, потерявший память, отчизну, сына, по горбу его плачет в лесах осина, если кто-то плачет о нем вообще…» И ему приходилось, стоя на цыпочках, тянуться над чьим-то плечом, благо, долговязый Пьер, тесня соседа, освободил ему на мгновение пространство. А Бродский, закинув ногу на ногу, из той книжки, что стояла и у него в библиотеке, и, не глядя в зал: «Там, за нигде, за его пределом… – черным, бесцветным, возможно, белым – есть какая-то вещь, предмет… Может быть, тело. В эпоху тренья… скорость света есть скорость тренья; даже тогда, когда света нет». И прежде чем он закончил и сунул сигарету в рот, какие-то худосочные верткие студенты числом не менее полусотни окончательно вытеснили их в коридор, и Пьер, пожалев его, пообещал: «Мы его завтра еще раз увидим…», и они ушли и больше его не видели.
– Моя работа… – начал он как всегда спонтанно от развилки мыслей и воспоминаний.
– Никому никогда просто так не помогали! – выкрикнула в сердцах. Заходясь от волнения, чаще теряла тапочки, чем находила нужный эпитет. Искала в темных углах, близоруко морщась. – Дурак! – расплескала осторожность. – Круглый, неповторимый… Боже! – Летом у нее всегда было плохое настроение из-за неизбежного сидения в бензиновом городе.
Побежала, косолапо ставя толстоватые ноги в растрепанных тапочках (помнится, купил на день рождения бог весть в каком году), – накрывать, кормить, жарить, парить. Нет, вначале, наверное, убирать, смахивать пыль, выпроваживать забредших пауков, настигать пробегающих тараканов – страсть бабушкиных корней до самого гроба. Русский кальвинизм. Ненависть к себе она превратила в целое искусство изводить мужа. Смиренная покорность, перекованная на звездно-полосатость. Копить деньги на автомобиль; прячась в туалете, любовно пересчитывать их и однажды выдать себя в постели откровением – не его стезя – не потому, что давно не было повода, а потому, что не желал этого сознательно. Не создавать прецедентов слабости, а лишь имитировать – для равновесия семейного очага – преднамеренно в силу того, что жена, кроме как о собаках, аджилити («Чем больше я наблюдаю мужчин, тем больше мне нравятся собаки» – эти ее слова он хорошо помнил. Собачий психоаналитик!) и о тряпках, ни о чем не говорит. Мужская любовь-терпение. Самодовольно ухмыляться в темноте после плотского удовлетворения – фига в кармане, и тихо ненавидеть? Есть от чего устать. С возрастом у нее пропало желание искать утешения в его ласках.
Вспомнил пьяные, со слезой, покаяния Губаря в те редкие моменты, когда он оказывался свободным от тайного посещения по роду занятий какого-нибудь очередного притона:
– Зачем я женился? Зачем, скажи?! Как я ее… как я ее!..
Единственный, кто действительно не боялся Королевы. Страстная любовь еще со школьных лет. Чем все кончилось?! Две рюмки коньяка делали из него ребенка – удачный момент признания, за который ты сам не отвечаешь. Его решимости поплакаться хватало ровно на пять минут, пока она заваривала чай, ибо в ее присутствии он всегда становился железным Губарем. Юношеская влюбленность не проходит даром. Часть души его со временем огрубела. Его ремесло – там не покраснев, сделать многозначительный акцент, здесь передернуть самую малость или не досказать – так что оппонент выглядел не совсем умным, – таким он всегда представал перед всеми, кто видел его на телевизионном экране. Вещать в одну сторону – это ведь тоже непросто, это делает человека исключением из правил, почти роботом или богом – пусть даже не без помощи кого-то – бесспорное искусство.
– Ты же был счастлив… – напомнил Иванов, будто сам знал секрет семейного единодушия.
– Вот именно что был! – Отчаявшись понять, он чуть не клюнул носом в тарелку. – Я… я-я-я… от нее всегда, всегда зависел!
– Завтра, когда ты проспишься, все переменится, поверь… – произнес он тогда.
Может быть, он сам его по-дружески обманывал. Такое ощущение, что ты понимаешь немного больше, чем твой друг, но все равно даешь глупые советы. Скверное ощущение. Всегда приятно быть умным – лишь бы у тебя хватило веры и сил для этого. На самом деле, пожалуй, только один он знал тайну Губаря: Королева – вот кто стоял за его широкой спиной, даже когда он так красиво и умно изъяснялся на экране, даже когда хаживал с большими людьми по тропинкам какой-нибудь госдачи и схватывался с каким-нибудь крикуном национал-ортодоксом в студии. Он это умел, может быть, даже иногда любил. Научился. Он не стал гением, но там, где ступал, порой в воздухе возникали вихри. Это уже кое-то значило, но не стало его второй натурой, и Королева постепенно вылепила из него то, чем он не желал быть, что стало для него противоестественным, даже последним штрихом – отстраненно рассуждая о смерти, – в конце концов она всего лишь удостоверилась в собственной почти циничной прозорливости ставить на нужных людей или делать такими людей. Иванов знал, что это никогда не спасает от одиночества в пустой квартире.
Насколько помнит, этот самый халат… царя Гороха…
Немой упрек неспособности… Не лучше ли зарабатывать хлеб мозолями, а не головой? Стало модным класть свои жалкие гроши под еще более жалкие проценты в банк.
– Подумай наконец! – крикнула из кухни.
С годами ей стало изменять чувство юмора. Литературные болтушки больше не интересовали. Мэтрство прозаиков и высокомерие поэтесс раздражало. Выставки художников казались чрезмерно нервными и суетливыми. Последние два года – приобщение к чужому языку, который понимаешь, но не чувствуешь, – сделали его в этой стране чужим и лишним.
– Все твой вселенский патриотизм! – Сверкнула глазами. – Нищие никому не нужны. Даже такие, как ты!
«Вай-вай-вай!» – воскликнул про себя. Судьба всегда выбирает только то, что есть под рукой, шансы обеих сторон не так уж велики.
Робко и с намеком на примирение жаловался кухонному косяку – не удалось, не поняла, метала молнии, сверкая желтыми коронками. Себе успел поставить новомодный кристалайн – «корявый зуб поддерживает пломба». Не терпел железа во рту. «Лучше уже не будет…» – обреченно решил, глядя на нее. Можно подумать, имела отношение к его книгам – заблуждение, питающее пророческое начало жен писателей. Уподобиться надсмотрщику, чтобы создать из него что-то по собственному усмотрению, упоение мнимыми надеждами, на которые в хорошем расположении духа сама же отвечала: «Свято место пусто не бывает!..»
– Я знаю, что тебе там нечего делать, потому что тебе нравится склочничать здесь! – приговорила к распятию.
«О господи! – отшатнулся Иванов, – жизнь, которую я сам для себя выбрал! Завистники всегда найдутся, будь ты хоть семи пядей во лбу».
– Если я не ошибаюсь, – произнесла она нараспев, сверля немигающим взглядом (он скрипел зубами), – тебя снова провожали…
Отложила на потом – накопить гнева. Как он мог попасться? Старый стреляный воробей. Вечная борьба: кто кого. Отрешенно вспомнил: «То, что невыносимо:
когда человек, по своей охоте нанявшись на службу, притворяется утомленным, – чувствуешь, что это надоедает;
когда у приемыша неприятное лицо;
против желания дочери взять в зятья человека, к которому она равнодушна;
печалиться, что не подумали как следует»[14].
Стоило добавить что-нибудь о прекрасной Саскии. Не влезало из-за обыденности ситуации и пошлого времени. Обойден, обойден женской хитростью медовоголосой певуньи с пчелиным жалом, никогда не певшей «песню новобрачной» Ду Фу[15]. (Его работа в течение двух лет, за которую он не получил ни копейки.) Добиться своего, даже если теперь ему с осторожность аптекаря приходится взвешивать каждый шаг и слово. Пустопорожние укоры, надежды, от которых он давно отучился, даже получив свои премии, на которые новоиспеченное государство сразу наложило лапу в виде пошлин и налогов, он не стал счастлив; мечты и планы? Выбила из него всю романтичность и моменты слабости, в которые он способен на какие-то чувства. Милая, прекрасная хищница. Может быть, поэтому такое ощущение, словно нечем дышать. Корчит из себя святую невинность. Забыла, все забыла – их любовь. Затаенная злоба даже в постели, даже во сне… Лично его так и распирает от тошнотворного превосходства.
– Да вон, вон… – с презрением тычет пальцем в окно меж жирных листьев сенполий.
Иногда она признавалась, что запуталась в самой себе. Тягостное безвременье ожидания. Надломленность в виде бесконечного говорения. Наивные обещания и слезы – до следующего раза. Стоило ей забыться, как злость выпирала в каждом движении или фразе. Одно время она служила ему замещением всех тех женщин, в которых он влюблялся и с которыми у него не выходило. Неизвестно, кто кому сделал одолжение в браке.
«Если бы у меня было две жизни, вторую прожил бы один с собакой», – уныло подумал он.
Прядь выбилась из-под кружев и мило упала на глаза. Профиль с камеи Гонзаго. Ничего не меняется. Все, как и два, и три года назад, когда он ее любил, когда она всегда и везде казалась неподражаемой. Губы, очерченные выпукло и твердо, скривились в усмешке. Татарские скулы, едва стертые десятком поколений. Большое тело и ноги – воплощение Рембрандта. «Да, я твердо стою на земле», – любила заявлять она. Груди – бидоны с молоком. Бритые подмышки. Соски, нарисованные великим мастером. Любовь? Привязанность? Возраст, когда еще не все потеряно, но с осознанием этого факта – печаль сорокалетних. Теперь он признавал свою Аниму, то, что питало его слабость. Всех его женщин можно перечислить на пальцах одной руки. Всегда был искренен. Трезвая голова. Размениваться по мелочам – не в его манере, хотя мысленно приноравливаешься к любой женщине из своего окружения. Двадцать раз у него была возможность поменять «обстановку».
– Да посмотри же!..
Эти ее фантазии страшно раздражали. Если бы мог ответить. Но подошел и выглянул. Действительно, этого человека он уже видел в конторе господина Ли Цоя. У него всегда была хорошая память на лица. Лысеющий, больной това… тьфу ты, господи, – господин-без цилиндра с венчиком жидких волос и воспаленными глазами. Облизывал бутылку пива на углу. Ну и что? Рядом с ним крутится авансированная личность неопределенного пола с немытыми волосами. Дальние родственники господина Е.Во.? Работают под влюбленную пару? Покосился на жену – у страха глаза велики.
Уронил:
– Обычный шизофреник…
– Он к тебе уже приходил… – копила под занавес, чтобы только уязвить его равнодушие. – Да пойми же!..
Черноротая? С удивлением – в открытую – взглянул на нее. Курносый профиль, скрадывающий или подчеркивающий одно из достоинств – чувственную угловатость впадин, сбегающую к неподдельному совершенству на лице – ярким, выписанным губам. Казалось, они только и вылеплены, чтобы обратить внимание на вторичные половые признаки. Миниатюрность созданного: ни в плюсах, ни в минусах. Упроченное в надеждах на нового, как это по-английски, – «петушка» под брючной опекой. «…Он заиграл, а я запела…», «…н-а-а-астоящий полковник!..» Порочные наклонности еще до порока, до мысли… Женщина, о которой в мужской компании по-кавказски цокают языком и говорят намеками. Как можно ходить с таким лицом всю жизнь? Почему она его ненавидит, его терпение?
Фыркнула.
Вспомнил: один из авторов с параноическими наклонностями (то ли актер, то ли поэт), преследующий уже с полгода. Тактильные стихотворения? Ах да: где-то на столе валяется рукопись (по заявлению) с подделкой под Борхеса. Вначале думал, что автор стилизует, а на третьем абзаце понял – действительно, но только, бездарно фальшивя, под самого себя. Из тех, о которых ехидно злословят редакторы. «…Она сомневалась не в его мужских способностях, а в способностях производителя…», «он обезволил ее страстным поцелуем», и еще где-то в середине первой страницы, не считая жалких нот слюногонного текста, как-то: «племенной вождь», многозначительное – «они трахались до самого утра», стоило добавить – «звонко», и «он столкнулся с нею возле сметанного стога сеголетнего сена». «Он, наверное, американский шпион, – говорили о нем, – совершенно не знает русского языка». Сам когда-то издавал журнал. Как принято, взялся не с того конца – с кадров. Поэтессы склочный народ, и некоторые – с большим задом. Солипсизм здесь явно не спасал. Съели живьем. Зачем им талант? Никто не хотел работать. Его эмпатия ни к чему не приводила – то, что срабатывало в литературе, в реальной жизни не годилось. Здесь требовалось что-то иное. Нажил кучу врагов, завысив планку. Деньги… деньги… Начал романтиком, а кончил скептиком-персевератором. Невольный повод для сравнения. Полудворовый, полубогемный стиль, многословные возлияния с пьяными откровениями: «Ты меня уважаешь?..» (Все бездарности одинаково скучны в своей величественности.) Любопытствие, а не любопытство. Застреваешь на двенадцатой странице – насилуешь или не насилуешь себя. Изобретаешь заумные объяснения, чтобы мило расшаркаться перед себе подобными. Не умеют, не умеют. Пишут, как второклассники под диктовку, словно на свете больше ничего другого не существует. Школа. Все, что отвергается, называют «новой» литературой. Лучше бы дорогу мостил, больше пользы, а впрочем, не наше дело. Почему-то вспомнил сегодняшние слова Филатова: «Огромное количество ничтожеств вопят, что они есть, что они существуют…»
По телевизору Мэр-Президент выступал с очередным посланием к нации. (Вначале сам со злорадством наблюдал, как разваливалась Великая страна, лишь бы досадить тем, наверху. В итоге проиграли, все проиграли.) Источник напряжения между Восточными и Западными провинциями, сроду друг другу не доверяли, – Армия, сконцентрированная в Карпатах, – замков не хватало. Колониальные товары. Закон об алчности – не установили критерий мздоимства, зато назначили очередную комиссию. Последняя надежда – «портфельные» инвестиции. Мертвому припарка. Десятилетнее барахтанье во лжи и казнокрадстве. Призывы затянуть пояса… Не поддаваться влияниям Востока… Быть больше не якобинцами, не бабувистами, а термидорами… Питаться дарами садов и огородов… Может быть, тоже?.. Думает, что умеет лучше и красивее других?.. Сто первый Великий Магистр или новый санкюлотский Лифшиц, умеющий все красиво и правильно объяснять… Все болезни плохо устроенного общества. В заключение: оказывается, пропили-таки муляж царь-пушки.
На обед подала кашу и чай.
– Больше ничего нет, – сказала и поджала губы: «Фефе, какие у тебя холодные ноги».
Давняя любовь к старым итальянским фильмам. Сентиментальные песенки пятидесятых и шестидесятых. Тонино Гуэрра и Феллини. А последнее время – американские фильмы: особенно ей нравилось, когда Брюс Уиллис с туповатым видом ждал конца фразы партнера и многозначительно играл губками.
Попытался помириться. Обнял и положил руку на тугой живот. Под пальцами веретеном скользнул давний шрам – то, что должно было скрепить их крепче и надежнее – «ворованный» им ребенок, до которого она сделала десяток абортов. Злополучные семь недель, в течение которых он еще мог на что-то надеяться. «Мне самой противно ходить такой, – говорила, когда ее тошнило от кухонных запахов, – завтра пойду и избавлюсь…» И он невольно думал о сокрытом в ней – живом, но обреченном. О чем он теперь должен был жалеть? Чрезмерной прагматичности? «Мораль умысла»[16]. И его вина тоже как мужчины. Вздохнул (на ее реакцию), поймал близкий зрачок ускользающих глаз: жизнь – ворох случайностей, запусти руку и вытащишь одну из них, выбор не так уж и богат. Знать или не знать – не так уж важно. Кто она больше – жена или экономка, не спят вместе этак… он прикинул… ммм… не вспомнил. Привычка обследовать ее с помощью носа и глаз, приводящая других женщин в трепет или в легкое изумление. Уж слишком он индивидуален – иногда до сомоотвращения. (Руки приберегаются для стадии готовности.) Супружеский долг не играет роли, есть занятия поинтереснее. Когда она ему изме… Даже интересно, с кем? С монтером или аккумуляторщиком? Что там у них на первом месте? То, что чешется? Впрочем, и тебя тоже касается…
Механически жевал в предчувствии работы. Готовила грубо и безвкусно, полное отсутствие воображения, все изысканное с презрением называла «еврейской едой». Хорошо, что он непритязателен и в ее присутствии склонен к сосредоточенной меланхолии. Лишь бы не свихнуться.
– Господи, как ты мало ешь! – бросила, направляясь к телевизору.
Вымыл посуду и, проходя, заглянул в комнату. Сидела, упершись взглядом в экран. Даже не повернула головы.
Когда-то ее прекрасное тело волновало больше – в те прекрасные дни, когда на курортах теряла талию, а у него была возможность оплачивать отдых. Кое у кого просто текли слюнки. Южные базары и расслабляющая бездеятельность. Покатые горы (с аршинными надписями: «Вождь жив!»), до которых, казалось, рукой подать. Сожаление о фильме, который не досмотрели из-за грозы и молний – единственные общие воспоминания. Джульетта Мазина в главной роли. Бурные потоки, шлепанье по тропическим лужам, ее промокшая блузка, его промокшие брюки, и поцелуи во влажной темноте города. Она смеялась. Господи, как она заразительно смеялась! До сих пор звучит в ушах. Ему нравилась ее грубоватая чувственность. Возбуждалась от одного прикосновения, просто от того, что проходила рядом. Прекрасно было чувствовать в себе возможность большего и не спешить. Тогда он кое-что умел. Умел прощать. Умел прощать отсутствие паузы, анэреструса. Воспоминания, не имеющие никакой семейной ценности, потому что никогда не обсуждались – оказалось, это лежит за ее восприятием. Впрочем, их измены – тоже. Но неважно. Яркие гладиолусы в клумбах перед чайной. Плоская линия моря на горизонте. «Женщинам нравится, когда на них смотрят откровенно. Вся беда в том, что к Саскии это прилипает, – думал он, – словно ты голой вводишь ее в комнату, полную народа, словно тебе дали слишком грубый наркоз и у тебя открылись глаза на мироздание или закатились шарики от восторга. Слишком часто замечаешь в ее глазах буйство плоти, чтобы думать о себе как о единственном любовнике, и миришься. Точнее, она приучает тебя мириться изо дня в день, из года в год – дрессировка законного спутника. Смешно до обиды, что с тобой она теперь никогда не будет прежней, такой, какой она бывает с другими. Всегда хочется быть первым или последним. Наивность рогоносца. Эффект двадцать пятого кадра». Все гитары Пикассо давно стали его гитарами. Все женщины в простоте своей Ван Гоговские: «Надо рискнуть своей шкурой…» Только не он. Возлюбленных не выбирают. Вначале даже рассказывал о Гане. Слова не были фальшью для него – имел глупость дать представление, с чем сравнивать, и поплатился уязвленным самолюбием. Переложила все на свой манер. Ускорил недомолвки. С такими женщинами надо быть осторожным на поворотах. Дошел до ручки – стал цитировать заезжего коллегу: «При половой работе женщина должна видеть в каждом мужчине Христа, мужчина в женщине – Божью Матерь». Идиот! Знал ее как любительницу разговоров на грани фола и пошловатых компаний, в которых не особенно берегут чужую репутацию – был бы повод. Повилять хвостом – как щекотание нервов. Умение сводить поклонников – пусть сами разбираются… Делать невинный или оскорбленный вид в зависимости от ситуации… Перекладывать грехи на чужую голову…
«Как же ты с ней спишь? – спросил он сам себя, – зная… и сравнивая… Время отрезвляет слишком долго. Слишком много «но» делают жизнь несносной». Последнее время эта мысль тормозила его в постели, как она любила, смеясь, выражаться – в здоровых мужских инстинктах.
Без пяти семь (как раз посмотрел на часы) хлопнула дверь – к Саскии явились близнецы – Лена и Лера. Она всегда заводила подружек из ближайших парикмахерских и бакалейных лавок.
– К нам пришли… – Жена, сдержанная и строгая – в ожидании его лицемерия, приоткрыла дверь.
Надо быть вежливым и культурным – фальшивый лозунг их жизни. Приятельницы, в присутствии которых она становилась упрямой главным образом из-за того, что он использовал все ее высказывания о них в своих романах.
– Привет! – крикнул он Лере – маленькой женщине с круглой сытой спиной. Лена уже тараторила на кухне: «Ах, какие у тебя шторы!.. Ах-х-х… какие у тебя шторы!»
Чтобы поздороваться, вовсе не обязательно выходить, даже потенциально рискую вызвать скандал.
Через час, когда он дописывал страницу под тремя портретами: Довлатова, Моэма – смотрели на него сверху вниз – и Ромэна Гари, они расставались:
– Так ты на нас не сердишься? – спрашивали приятельницы – обе разом.
– Я не обижаюсь, – уклончиво отвечала жена, смахивая с ресниц последние слезы. Они любили поплакаться все втроем без видимой причины, посмаковать пару сальных анекдотов, поделиться сокровенными излияниями и сведениями о регулах. Отсутствие стыдливости – странное качество для женщин. Саския могла в подробностях рассказать приятельницам об одной из тех редких ночей, когда они спали вместе. Кроме любопытства – никаких чувств. Лично его передергивало от ее откровений.
Вечером, перед сном, она обсудит с ним подружек, переделает смысл услышанного под свое мнение, а он согласится – какая разница, лишь бы она испытывала душевное спокойствие.
– И я тоже! – пошутил он в приоткрытую дверь.
– Да нужен ты нам! – кажется, за обеих ответила Лера. Не разберешь. У одной из них дискант выше на пол-октавы.
В голосе он уловил нотки раздражения. Прошлым летом кто-то из них заскочил позвонить, когда Саскии не было дома. Он так и не разобрался кто именно. Судя по сегодняшней реакции – Лера. Но с таким же успехом это могла быть и Лена. И между ними произошла сцена, которую она больше не пыталась повторить и которую ему всегда было стыдно вспоминать. Когда она, глядя ему в глаза, как мужчина-гинеколог, молча дала волю рукам где-то ниже его пояса, он, действуя чисто инстинктивно в стиле телодвижений отступающего матадора и оплошав от растерянности на долю секунды, глупо напомнил ей о муже, точнее, для обобщения, – о мужьях: «Вася… Рома…», которых хорошо знал, и на всякий случай сообщил, что не спит с приятельницами своей жены.
Крикливая и невыразительно коротконогая, соответствующе сложенная – как матрешка, пахнущая какой-то приторной химией, пропитавшей всю ее одежду, обсчитывающая клиентов, о чем сама же хвасталась, и не лишенная чувства справедливости при расчете за любовь с мужем, то есть всех тех свойств, которыми были наделены сполна женщины из окружения Саскии, – теперь она тайно мстила за поражение. Однажды один из мужей, придя со службы, из лени стянул галифе вместе с сапогами и водрузил на вешалку. Кто-то из сестер, войдя, узнала за занавеской своего мужа, и с криком: «Рома повесился!» упала в обморок. Василий же отличался непомерной скупостью: записывал все домашние расходы, подсчитывал троллейбусные билеты и кричал дочери, когда она ела салат: «Галя, оближи ложку!» – «Ну папа…» – «Я кому говорю, оближи ложку!» Жена ублажала его только за деньги и ухитрялась на этом экономить, нормируя позы, впрочем, она так же экономила на еде, хвастаясь сестре, что вместо двух килограммов сахара купила один.
Несколько раз, оказавшись с ними в одной компании, он замечал, как одна из сестер дулась. «Господи, – думал он, удивляясь, – да она мне, кажется, устраивает сцены…» Мало ли у него было таких приключений, в которых он не проявил активности. «На маленьких курочек и петух не клюнет, – думал он. – Но Саскии лучше об этом не знать».
Некоторые всю жизнь находятся в состоянии наивного девического фантазирования и не замечают этого. Жизнь в полной красе открывается после сорока, и тогда они начинают таскаться по курортам и ложиться в постель с кем угодно, но от этого не становятся умнее или красивее – только циничнее и откровеннее. И однажды это признается жизненным опытом – закостенелое руководство к действию.
Дверь захлопнулась. Саския не могла удержаться, чтобы не произнести какую-нибудь гадость вслед подругам:
– У Леры одна грудь нулевого, а вторая третьего размера, – сообщила она, просовывая голову в комнату. – Ты никогда не замечал? – Обычно она таким тоном искала пути к примирению.
– Нет, – ответил он. – Было бы удивительно… – закончил он постным тоном.
– Ну конечно… – произнесла она укоризненно, – куда нам… – И ушла; под ее ногами тягостно запели половицы.
«Два развода с одной и той же подобно капитуляции крепости, в которой не осталось потаенных лабиринтов. Нельзя загонять себя в угол – ни работой, ни женщинами, – думал он, – слишком трудно возвращаться. Здоровый эгоизм – нормальная реакция одиночества. Альтруизм слишком часто используется окружающими в своих целях». Пережил черную меланхолию. Вполне хватило. На душе стало больше одной мозолью равнодушия – то ли от пишущегося романа, то ли действительно от Саскии. Нашел совершенно дикую формулировку: «Форма Бога конечна. Интерпретация бесконечна». Предел познания – это предел самораcчленения. Дробление – всего-навсего путь, в котором ты ищешь себя, расписываясь кровью. Последние двадцать лет он все больше склонялся к философии. Душа и материя находятся в явной дисгармонии, но уживаются вот уже миллиарды лет. Предел гор – песок. Трехмерие подразумевает лишь догадку о Великих Отблесках – хотелось бы надеяться. Могила Хеопса имеет такую же прямоугольность, как и любая комната в любой квартире. Гоголь, обложенный пиявками, безусловно, прав, угадав границы мира. Принял все за чистую монету. Несомненно, провалился глубже, чем следовало. (Религия – одна из форм мироощущения, а Библия – отражение борьбы с оппонентами.) Не хватило трезвого взгляда и времени на возвращение. (Методологическая ошибка. Взял на себя. Застрял. Не перешагнул ступеньку.) Пожалел того, второго, зовущего. Смерть – обращение внутрь самого себя. Самый лучший уход – тихий. Большинство людей страдают комплексом доминирующей силы. Поймал себя на мысли, что действует подобно авторам Библии – нечто вроде духовного причастия от мысли о едином. Приемы, в конечном счете, одни и те же, потому что другого не бывает. Не это ли ощущение божественности, выхолощенное мыслью об острие, обращенном против человечества, – удав, заглатывающий свой хвост. Думал о времени больше, чем стоило. Пришел к выводу: «знание в виде незнания…» и «интуиция всего лишь одна из форм действия…»; сделал набросок об аномалиях: «сон – форма интуитивно-образного чувствования (со среды на пятницу?)» и «мораль носит форму угрызения совести». Записал несколько идей в фельетон «Похвала глупости», не забыв упомянуть господина Ли Цоя и даже пробуя обобщить некоторые политические закономерности, в которых не очень-то разбирался, полагаясь больше на здравый смысл, памятуя, однако, что многие депутаты – из тряпочного или калачного ряда, а сам губернатор – из мясного. Главный редактор оппозиционной газеты на прошлой неделе справлялся о сроках. Не зарабатывал язву, ну и слава богу, – не имел склонности. Года два мучился фобией: видел ее в любом зеркале или витрине. Как она сохраняла себя, ложась с первым же встречным? Два года, пока она была фрау Штейн. С тех пор, как снова появились все эти приставки. Сантехник Петров оказался паном Петрования. Двое знакомых добавили к фамилии частицу фон. Фон-Штенге и Фон-Ваузер. Васильев снова стал Дейчем – человек, который на берегу Средиземного моря теперь изъясняется исключительно на мертвом языке, сделался ортодоксом, – Каббала, – бог в помощь. Мода на яркие перышки и лишнего мужа. Саския ван Эйленбюрх. Действовала по совету новомодных журналов: «Если у вас спросят о числе половых партнеров, отвечайте: "Трое"». Идиотизм западной психологии, доведенной до цивилизованного размаха. То ли пуритане, то ли садисты. «Нескромно!» – написал один скромный критик о первом его романе – шараханье от каждого куста. Второй, по фамилии Курочкин, – по поводу «Катарсиса»: «Не понял!» Фразы, ставшие афоризмами. Убивающее равнодушие собратьев по перу: «Автор скрывает что-то такое, чего нельзя вытащить на свет!» Почти по Ван Гогу. Мысли от действия отличаются отсутствием телесной искушенности. Есть авторы, которые специально «раздевают» текст и удивляют не меньше, чем кто-то усложнением. Ловко, как бы ненароком, подсовывала фотографии мужчин, которые не могли иметь к ней никакого отношения, – ложный след. Вечно делала из него дурака, или, точнее, – пыталась. Приобрести постельный опыт и потерять наивность хотя бы в отношении собственной наивности. Дошел до того, что проверял, в каких трусиках она уходила и в каких возвращалась. Копался в сумках и записных книжках. Раз двадцать воображал, что не переживет. Мысли тоже бывают фетишами, потому что запоминаются. И однажды охладел не из-за жалости, а из-за брезгливости. С тех пор ни о чем не спрашивал, хотя в порыве откровения и пыталась поделиться отнюдь не от раскаяния: «Ну, не могу я без этого, не мо-гу… Ты меня не понимаешь!» Оказывается, если не думать, то можно и не знать! «Бесенок… бесенок… господи, – думал он, – смешивая в голове все чувства, – где мне найти…» Сам не знал, чего просить. «Не такую… толстокожую, что ли. Большего не хочу!» Словно втайне подразумевал нежную и милую, ласковую и добродушную. Все эти бесплодные устремления. Бог тоже склонен экстазировать! Кое о чем догадывался, что питало фантазию, когда у них случались слишком долгие перерывы в «любви». Все, что она называла маленькими разочарованиями в жизни. Переоценка ценностей. Приспосабливался – больше к литературе, как к временному замещению. Не мог же он по малейшему поводу бежать переулком «В три болота» до кабачка «Пох-Мелье», чтобы найти усладу с одной из крутозадых колюче-беструсых девочек. Жениться на здоровой женщине, чтобы сделаться больным? Довольствоваться поллюциями? Фразы из жены: «Ах, ты достанешься кому-то другому!» Словно вещь. Не ревновала – рвала рукописи, если находила что-то касательно себя. В этом отношении он всегда был безжалостен к своему окружению; ни друзей, ни приятелей последние пятнадцать лет. Когда-то получал до десятка писем в неделю и только на половину из них отвечал, в основном на ругательные – вежливо и садистски доходчиво. Привычная колея рассуждений и догадок. Вспомнил и записал: «Взаимоисключение – основополагающий принцип неопределенности». И дальше: «Аномалии проявляются двумя качествами: принципом неопределенности и принципом непоследовательности. Первый – предсказания носят вероятностный характер, и в этом запечатлеваются более общие закономерности «Копилки»; второй – обладая каким-либо свойством, человек не способен дойти до логического объяснения ввиду разрыва причинно-следственных связей «перегиба», что не лежит в привычной плоскости восприятия, а есть следствие природы явлений абстрактности «Копилки», за что человек платит, как за избыточность, за «крайние» способности. Если бы не принцип неопределенности, то любой бы заказывал музыку». Ошибка рассказывающего заключается в том, что он всегда говорит банальности. А ошибка слушающего в том, что он внимает вполуха. Вывод: не заводи кумиров и учителей. Через три месяца работы – кропотливой, словно первые ухаживания, понял, чем занимается. Интонационный роман, в котором со временем притупляется осторожность канатоходца. В темпе тоже есть логика. Конечно, не последнее изобретение, но требующее абсолютного слуха. Вполне в его манере и по силам. Если только не повторять судьбу «Бувара и Пекюше»[17]или «второго бала» Булгакова. Всегда экспериментировал. Что-то вроде абстракции в прозе. Правда, иногда, в угоду стилю, получалась абракадабра. Решил, что описательность – слабость стиля, кроме «вывернутого» языка, конечно. Интуиция – особая форма доверия себе. Не воспринимал магический реализм Синявского по причине страха литературно постареть – то, что на Западе откровение, здесь звучит архаично. Свободный монтаж годился, может быть, – только не в чистом виде. Любой бы на его месте расслабился, но только не он – ухватился, не как утопающий или восторженный, а с ясной, холодной головой. Привычный срок, отданный на откуп мучениям неопределенности, имеющей свойство резины. Приспособиться к собственным чувствам и накопленному материалу. Выхватывать из воздуха. Делать дело, несмотря на окружение и обстоятельства (жену, господина Ли Цоя и др.). Хандра настигнет где-то зимой, когда за окном завоют любимые вьюги и пора будет доставать лыжи. Он знал свои периоды в настроении, как женщина – сроки месячных. Паузы всплывали островками для приятного сравнения, на которых можно было получить максимум удовольствия. Вспышки прозрения были ни в новинку, ни привычкой. «Московская школа», «ленинградская школа», к которым никогда не принадлежал, – усредненный стиль – отправная точка к обратному. Невский комар отличается от московского собрата. Только чем? Не очень разбираясь, валил всех в кучу – всегда удобно на расстоянии. Двенадцать лет сплошного нигилизма и самобичевания. Кризис прозы. Гениальный Веничка для него всего лишь рефлексивный алкоголик. А вот Довлатов выплеснул то, что давно витало в воздухе и проскальзывало у других авторов. Перефразируя Веллера и Лурье, можно сказать: «Мы все знаем, как это сделано, но не перестаем удивляться». Жаль, что он не писал романов. Писатели, связанные прошлым, не способны на фантазии. Впрочем, у всех, без исключения, в жизни слишком мало времени.
Часа через два очнулся от усталости. Написал девять страниц убористого текста, почти не правя. Завтра утром останется пройти еще раз. В два его оторвал звонок. Женский голос скороговоркой сообщил, что звонят из канцелярии фирмы «Гувно» и предлагают завтра в двенадцать явиться подписать договор. На радостях он тут же забыл назначенное время – пришлось перезванивать, а потом хлопнул двадцать граммов коньяка из генеральских запасов жены и к вечеру дописал «Похвалу глупости». Записывал: «То, что Гайдеггер назвал «захватом», мне представляется срывом. Срыв сознания происходит эмоциональным, религиозным, интеллектуальным и паранормальным способами. Человеку все равно, во что верить. Знать бы, где это все прячется и как действует?» Подумал, что все равно доберется. Между десятью и одиннадцатью успел еще поужинать и посмотреть телевизор. Газет не читал. Пресса безнадежно поглупела. Взрыв на стадионе. Гибель экс-отца города при таинственных обстоятельствах, вместе со всеми телохранителями. Мина, которую предусмотрительно замуровали в стену ложи года два назад. Снова вводилось квиритстское право и подушный налог на списки: хочешь голосовать – плати. Закрывалась граница с северным соседом. Намекалось на заслонки и нефть – что сильнее. «Мягкий национализм» – пропал красный цвет, стал считаться предосудительным, а вовсе не аполитичным, почти провокационным. Боятся, как вороны пугала. Даже арбузы стали «жовто-блакытными». Мстят за холопство. В этот раз Мэр-Президент позволил себе высказаться по поводу женских подтяжек и был красноречивее обычного. Некоторые чиновники Ордена Святого Станислава, оказывается, уже знали, что в гольфе восемнадцать лунок. Голубые и желтые тона поощрялись десятипроцентной скидкой. Белый и Андреевский флаги причислялись к вольности общественного инакомыслия и объявлялись под запретом – крымский синдром. «1-я война с коммунизмом… 2-я война с коммунизмом…» – из клериканского учебника новейшей истории канадского производства. Что там еще завтра придумают? Ложь, даже во имя минутного блага или выгоды, никогда не оправдывается. Узаконивался клериканский язык в качестве государственного. Страна, в которой с некоторых пор ты принадлежишь к национальному меньшинству (по конституции), страна, в которой ты чувствуешь себя изгоем. В противовес северу коленки следовало прикрывать десятисантиметровой кружевной оборкой, лояльно, как к идолу, относиться к национализму западных провинций. Где-то в личных беседах многозначительно намекалось на азиатскую чадру и гаремный кодекс – лишь бы только ни на кого не походить. По вахтовому методу набирались евнухи и необученные кастраты природного происхождения ввиду «…особо гуманного подхода для решения проблемы Бахчисарая…» Непонятно – для чего? Чтобы только не развалился пустующий сарай или для освоения экзотическим бизнесом новых территорий? Пиджаки свободных линий рекомендовалось приталивать, а брюки расширять от талии – намек на колокол. Всенародно обсуждался проект господина К. из страны СШN, который всерьез обещался за ночь построить восьмизвездочную гостиницу в центре города на сто тридцать четыре номера. Семь башен на Л.У. – семь грехов. На лес и реку всем было наплевать. Тоскливо быть проигравшей стороной. Как работнику умственного труда (декрет о занятости) теплой одежды ему теперь не полагалось. «Вопросы ножа и вилки» более не стояли за неразработанностью правил юридического наследования. Полевым рабочим вменялось вставать до зари, а женщинам – иметь на три зуба меньше. Закон о резиденции волновал по-прежнему. За неуважение – шесть месяцев содержания под стражей или лишение делинквента[18]гражданского сословия после третьего предупреждения. На выбор. Высылка за счет администрации. «Надо попробовать, – думал Иванов. – Что там в этом мире изменилось? Не обрушился ли свод гостиницы?[19]Не уподобляться же Дагоберту, чтобы выжить»[20]. «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»[21]. В школах вводилась клятва на верность правительству и ежеутренний подъем национального флага, а Хрищатик перегородили лагерной проволокой, чтобы толпа насладилась свободой. Потом диктор сообщил, что в городе создана еще одна партия «Независимого движения» – словно они живут в вакууме. Независимым от чего? От самого себя? От избирателей? Где-то под конец промелькнуло перекошенное лицо Губаря с нервной щекой. Пятнадцать минут «жареной» информации о «бензиновом деле». Его любимая фраза: «Слепая толпа!» или «Нас предали!» Вопрос: «Что вам противно?» Ответ: «Машины и правительство». Не слишком ли много? Премьер-министр, сбежавший за границу. Экран, обрызганный слюной. «Как он не боится?» – подумал Иванов, выключил телевизор и ушел спать.
В дверь позвонили. Поднялся, натягивая на ходу штаны. Часы мирно показывали двенадцать.
На пороге, покачиваясь и всхлипывая, стоял господин-без цилиндра.
– Что вам угодно? – спросил Иванов.
– Я хотел узнать, в чем разница между иммагинацией, теорией активного эротизма и цисфинитом Хармса?.. Что скажете? – Сквозь набегающие слезы проскользнула неопределенная ухмылка – можно подумать, таким его нельзя было узнать. Может быть, так маскировался?
– Вы пьяны. Идите домой проспитесь, а утром поговорим, – ответил Иванов.
Господин-без цилиндра всхлипнул и выдал себя с головой – он был плохим актером:
– Дело в том… – И наивно расстраивался, когда ему отказывали.
– Ну? – наклонился Иванов, чтобы лучше слышать.
Ему стало жаль этого нелепого человека, у которого три пуговицы из пяти держались на честном слове.
– Дело в том, что трезвым это меня не интересует… – Он едва сохранял равновесие, ворочаясь в суставах, как большая тряпичная кукла.
– Спокойной ночи, – сказал Иванов и захлопнул дверь.
Перед самым погружением в сон, после пары страниц снотворного «Уллиса» зазвонил телефон. Каждая книга занимает в тебе свое место. Хорошо различимая по звуку и мелодии. Вскочил с бухающим сердцем и ощущением мореного дуба от-Джойса. Куда мчаться: в морг, в полицию или в языческий Саранск?
Сын. О существовании которого не вспоминал месяцами. Так приятно чувствовать себя одиноким, для которого в жизни нет ни нового, ни старого, ни плохого, ни хорошего. Сын, с которым они все дальше расходятся друг от друга. И не по вине кого-то из них, а просто так, от запутанности жизни, от чувства вины в каждом из них, от того, что они любят одну и ту же женщину – пусть даже и мертвую.
– Отец… папа… – произнес сын.
«Господи!» – воскликнул он про себя.
Из кухни раздавался гнусавый голос Парамонова – Саския слушала передачу «Русские вопросы». Пошловато-плоские рассуждения о русской душе. Обрадовались, что страна разрушилась, теперь кирпичики растаскивают. Нарочитые завывания напоминали гребешки закрученных волн и казались сентенциями времен недавнего прошлого. Похоже было, что этот человек застрял где-то в семидесятых, чтобы создать себе репутацию неподдающегося, обнаруживал неполадки в носовых пазухах. На этот раз вспоминал Сергея Довлатова, не касаясь халтуры на радио и личностей. Беседа с Джоном Гленом. Голос по радио, так не соответствующий взгляду с фотографии: «Ты меня боишься?» Провокационный вопрос пятилетнему сыну приятеля. Иногда лишь проскальзывали нотки большого медведя – еще живой монумент; так для него и не совпало. За два месяца до смерти: «Почему ты не возвращаешься?» «Боюсь спиться…» Нарбикова, в отличие от него, сплошная неудовлетворенность в тексте, и в себе тоже. Нравственность в литературе приветствуется так же, как и в жизни – двояка на выбор, что в данный момент подходит лучше и выглядит скромнее в глазах потенциально читающей публики.
– …уже спал… – ответил вяло в трубку, – напугал…
Сдержал раздражение. Ни клятый ни мятый – его половина, бородатая и неухоженная. Где-то там в этих галерках (запах масла, воска и кофе) на Андреевском спуске, под крышами среди холстов и красок, рядом с домом Некрасова. Французский вариант неуемности, так же как и у Галича – создание политического имиджа, – подгонка под ситуацию, которая сейчас уже никого не волнует. Какой там балкон, третий или четвертый, где он почивал в люльке – не поймешь. Жизнь человека не принадлежит политике, ни как ее представляют трафаретно, ни сама по себе от природы. Втискивают себя в рамки властителей или святош. Кому как повезет. Древние гробницы под стеклом и строгие надписи о былом, которое не учит и не должно учить. Даже мощи отделываются молчанием. Неоднозначность этого мира всегда приводит к недоумению и потворствует человеческим слабостям. Крохотный мирок шумной доморощенной богемы с неразборчивыми длинноногими девицами, беременеющими по очереди неизвестно от кого. Споры о космогонических теориях в подпитии, нетрезвые косматые личности, называющие себя актерами или поэтами. Заикающийся уфолог, тоннами поглощающий орехи. Периодически забредающие божки (один с уголовным прошлым – семь лет за организацию уличных беспорядков) – вещающие или молчащие, назойливо-эйфоричные или надменно-недоступные. Любая позиция человека дискретна – то, что отличает мертвого от живого. Что еще можно добавить к десяти заповедям? Заповедям, которые не обсуждаются. Разве что модную косичку, баки или пустые амбиции после стольких лет привычно заткнутых ртов, словно все человечество до них кажется страшно наивным, если не глупым, и выставлено с тряпкой на глазах, словно живущие имеют какое-то преимущество перед ушедшими.
– …ты мне приснился…
В трубке женский голос томно и хрипло спросил: «Ты скоро, дорогой?..»
Обезоруживающая прямота.
В девяносто третьем они оба жили в лагерях: он в чине майора. Слава богу, никакого отношения к последующим волнениям не имели. Пушки были забиты солидолом. В каждом пятом танке неработоспособный фрикцион, автоматы без патронов, и только у одних дежурных – штык на поясе. Спали по двадцать пять часов в сутки.
– Я хотел тебя спросить…
Опять он об этом. Вранье со временем превращается в правду, даже если у тебя от прошлого не осталось горечи. В свои годы он не избежал кариеса и разочарований, стал похож на кусок льда под солнцем.
– Давай завтра, – попросил Иванов, – я плохо соображаю.
Давно ли качал маленькое тельце? Руки до сих пор помнят комковатость одеяла и беззащитность неумело завернутого ребенка. Запах кухонь дядюшек и тетушек, где воспитывался сын.
Все по Фрейду. Дурацкая наукообразность мышления, навязанная толпе. Неужели никто не ошибается? Набоков тоже об этом задумывался – игры, кто абстрактнее кувыркнется. Наш – еще не разбавленный антагонизм. Дом малютки, детский сад, убогие школы в военных городках. Одно лето сын прожил у матери. Забрал, потому что обнаружил на затылке две шишки. Оказывается, она воспитывала внука поленом. И в этом тоже крылось отчуждение, отчуждение психопатки. До двух лет сын не говорил. Потом, когда ему было уже шесть лет, он спросил у него об этом. «Не знал, зачем были нужны слова», – признался сын, картавя. На Рыбачьем перестал есть яйца – оказывается, до этого он не знал, откуда появляются цыплята. Жалостливые жены офицеров, помогающие наладить быт, от которых ему тоже перепадало, – был осторожен до отвращения, улучал моменты. Пустынные сопки, где росли грибы и посвистывал холодный ветер. Свалки битых бутылок, незаходящее летнее солнце и тучи комаров. Из-за этого всего не выпускали десять лет, словно устав или формула мышьяка составляли военную тайну.
– Помнишь, – спросил сын, – помнишь, как мне твоя форма велика была?
Лучше не реагировать на мысли. Мундир, пропахший казармой и потом – много ли остается в памяти, – случайные детали. Потерянный перочинный нож, и первая морская рыбалка на торпедном катере, дорога вдоль берега, рядом с котором застыли вмерзшие в лед подлодки. (Однажды ты сам отделяешься от всего этого, чтобы не зачахнуть от тоски. Есть такой поворот, к которому лучше не поворачиваться ни лицом, ни спиной.) Нет, наверное, все-таки – одиночество – ведь ты никогда не был хорошим отцом, хотя с самого начала решил воспитывать сына самостоятельно. Безлюдье на сотни верст. Привозная вода в бочках по причине лямблий в колодцах. Нарочитая свобода, подаренная судьбою, – есть за что благодарить. Многим городским мальчишкам даже не снящаяся.
Опять кто-то напомнил с капризом: «Я жду…» Очнувшись, понял, что все еще держит трубку, прижав ее к уху так, что заболели хрящи. Отголоски женской привязанности (вполне безразличен, кому-то же должно повезти), протянутые через букву «ж», – так и звучали в голове с назойливостью жаркого тела.
Спас чистый случай: забыли. Два месяца без весточки из внешнего мира. Соль кончилась на вторую неделю. На третью – стреляли баранов в горах. Командир полка ударился в бега до ближайшего областного центра.
– Береги себя… – сказал сын, словно намекая на сезонный радикулит и зимний грипп. Какой там прогнозируется штамм на эту осень – «В», что ли? Стоит ли пренебрегать интерфероном?
– Это ведь я тебя не отпускал, – вдруг признался Иванов – потянуло на воспоминания вслух: дагестанские горы, бродячие стаи огромных лохматых псов. Прежде чем пойти на прогулку к ручью, по привычке долго и тщательно готовились, обсуждали экипировку и смазывали жидким парафином сапоги. Без женщин обходиться было особенно трудно. Чувствовал, что не хватает мягкости в воспитании.
Гарнизонная жизнь дала свои плоды – сын даже не научился курить. Скромный беловолосый мальчик, несколько склонный к упрямству и уединенности. Пожалуй, теперешняя городская жизнь тяготила его точно так же, как и отца. Что-то в них общее от недавнего прошлого.
– Я знал… – ответил сын, явно прикрывая трубку ладонью. – Наверное, все было сделано правильно… к чему теперь…
«Май дарлинг…» – упорствовал женский голос, как платок на прощание – жест, который оборачивается долгими снами и мыслями. Лишь бы ты не накручивал слишком многое. Излишнее воображение вредит.
– К чему теперь…
Вежливый укор человека, который думает наоборот. Что они, мальчишки, могли?
Сложить головы или просыпаться от кошмаров, как летчики американских «Ганшипов» – слишком уязвимые в своих летающих гробах. Давить толпу тоже надо уметь. Время старосветских помещиков минуло. Стало быть, все его комплексы неполноценности от того, что не научился убивать?
«Что бы там ни было, я поступил правильно, даже если это стоило неначавшейся карьеры», – подумал Иванов.
Смешно было представить себя генералом.
– Наверное, и мама так поступила бы, – согласился сын на его молчание.
«Не вышло с очередной Марией», – сразу решил Иванов.
«Потуши свет… – капризничал голос в трубке. – Нашел, когда звонить…» Женщина, интонация которой так же будет волновать и в шестьдесят лет.
Сын не будет грубить. От безделья и хамства они всегда защищены миром военных традиций.
– Мы не были полицейскими войсками, – напомнил внутренне чуть-чуть поспешно, как всегда делал, когда разговор заходил о Гане.
– Конечно, – глухо согласился сын, – если бы… если бы… не тот случай…
– Несчастный случай!.. – вырвалось у Иванова.
Едва не бросил трубку. Однажды начинаешь думать о себе, как о постороннем. Версия для сына, версия для знакомых. Раза два в году путаешься. Мучительное состояние в течение пяти-восьми лет, кому что говорить. С тех пор как он научился узнавать редакторов и переводчиков по книгам и журналам – наивное достижение. С тех пор, как научился отличать любителей от эпигонов. С тех пор, как его все это перестало волновать. Выискивать удобоваримые формулировки, не подтверждающие семена неизбежных сплетен. Чужая жизнь – словно заглядывание под рубашку. Следы былых трагедий не отражаются только на лицах, а делают вас черствым и равнодушным. Через десять и двадцать лет вообще наплевать на прошлое, кроме редких моментов полночной тоски, куда лучше не забредать по доброй воле. Алкоголь только растравляет раны. Спасение в забвении, словно ты отправляешься охотиться на плоского зверя. Равнозначный подход откровений с пятой и десятой юбкой (похожими, как две капли воды), будь она в данный момент хоть в штанах или без них, но с лукавством в глазах. Постель – больше чем обман, одна из форм на время забыться. По большому счету, вся жизнь – забытье. Даже одиночество не панацея – когда изменяют нервы, а только неизбежность. Любить надо уметь. В любви надо уметь жить, принимая ее такой, какой она есть.
Сын замолчал – слишком привычно, чтобы удивляться. Потом однажды ты узнаешь, что он гений, но не смеешься и не плачешь, потому что привык, как привыкаешь по утрам чистить зубы. Гений, которого выставляют чуть ли не в картинной галерее Клода Бернара.
– Ну, чего ты молчишь? – спросил Иванов.
Позиция отца – ожидание, позиция ребенка – уязвление. Когда ты хочешь вырастить хорошего сына, чаще всего это удается, даже если ты самонадеянно думаешь, что являешься причиной всего происшедшего. А потом однажды вдруг понимаешь, что от тебя практически ничего не зависит, словно пелена спадает с глаз.
– Я хотел тебя спросить… – начал сын на другом конце провода.
Похолодел – рефлекс, выработанный с детских пеленок. Вначале они спрашивают о пустяках, потом – о таком, о чем ты и сам имеешь довольно смутное представление, но вечно лезешь из кожи, чтобы не ударить в грязь лицом. Но они все равно спрашивают.
– Я хотел спросить… – сын подбирал слова.
Однажды ты не можешь ответить даже на собственные вопросы и чувствуешь, что тускнеешь в глазах детей, потому что тебе не хватает смелости признаться в беспомощности, в своей конечности, и ты хитришь и делаешь умный вид, проклиная в душе человеческую однобокость. Вся метафизика слетает шелухой.
– Мама?..
Иванов хмыкнул в трубку. (Женщина в постели сына перешла на сонное мурлыканье.)
Их тайная игра: сын спрашивал, а он отвечал, словно каждый имел право не договаривать. Но оба одинаково испытывали смущение, постепенно превратившееся в обоюдный договор, не подписанный никем и никогда. Порой они не вспоминали о ней годами – сомнительное достоинство для любящего сына и мужа. И сейчас вопрос звучал почти дико. Впрочем, он сына хорошо понимал: от детской ностальгии нет лекарства, кроме душевной огрубелости.
– Ты ее помнишь?
Пауза, подаренная ветру.
– Сто лет… – вырвалось у него слишком поспешно, чтобы казаться естественным даже для телефонной трубки, где вмешивался этот голос: «…ж-ж-ж…» и далекие шуршания вселенной, – сто лет прошло…
Ни сегодня, ни завтра… отличаешься только тем, что готов открещиваться от проблем и заталкиваешь подальше на дно совести, как опытный алкоголик. Двадцатилетний не поймет сорокалетнего – если только из вежливости. Ты уже не в том возрасте, чтобы научиться забывать, ты сам мучаешься неразрешимостью жизни и рад платить тройную цену за любой момент истины. Самое страшное, что ты призван идти всю жизнь с этим бременем. Интересно, скольких из тысячи поражает подобная болезнь?
– Я тебе не судья… – вежливо сказал сын, словно угадывая мысли.
Иванов едва не спросил: «Что ты имеешь в виду?» Проклятая мягкотелость, которой он награждал и всех других, словно навешивал на цивильные лацканы медали: «Тебе! и тебе!» – за дружбу, за будущие заслуги, за честность в глазах, только не предавайте, только считайте самым умным и, ради бога, не проливайте мужских слез по пустякам, потому что от пустяков всегда тошнит и выть хочется. Если бы он сам знал, что от него хотела первая жена? Легче жить, когда ничего не помнишь. Есть женщины, которые слишком хаотичны внутри себя, чтобы стать цельными даже за десяток лет, некоторых это вообще не интересует.
– Мне рассказали… – наконец-то сообщил сын.
– Да?.. – удивился Иванов.
Что еще можно было ответить, словно оберегаешь себя от чужого прикосновения, от скальпеля, от рока. В двадцать лет ты еще мальчишка, и любая женщина кажется вершиной совершенства. Только ты давно ошибаешься и в нем, и в себе, и почему-то каждый раз удивляешься этому. Ты ведь думаешь, ты прав, а ты давно уже не прав, и он тебя не понимает.
– Не предполагал, что все так…
Ну вот, и тебе тоже досталось сочувствие, приправленное снисхождением – какая разница от кого, хотя бы от сына. Чем мы все отличаемся друг от друга? Кровь всех делает похожими.
– …сложно…
Родственники! Двадцать пять лет думал, что хранит тайну.
– Спокойной ночи, – сказал Иванов и положил трубку.
В конце концов и он тоже имеет право на собственное мнение, но когда тебя укоряет сын, это уже никуда не годится, это все равно что каяться в несуществующих грехах. Все, что было в твоей жизни, умещается в несколько картинок, которые ты тасуешь перед тем, как уснуть. Время – печальный узор памяти. Морозный вечер, и печь, перед которой ты отогреваешься после лыж, или песня с шуршащей пластинки, которая будит первые чувства: «Я завидую снежинке…» Жизнь, которую ты делаешь сам. Кто бы мог подумать! Отец, у которого из незаживающей раны шел папиросный дым и который после шестидесяти пяти ипохондрически копил на похороны. Потом он прожил еще двадцать четыре года и последние годы одевался и ходил, как нищий, с одним и тем же портфелем, который ему подарили на пятидесятилетие. Вот что останется с тобой, хотя ты и любил самых «добродетельных» женщин. Только однажды ясным, светлым утром или темной липкой ночью, когда в распахнутое окно с раскаленного шоссе едва вползает бодрящий воздух, вдруг понимаешь, что никуда ты не спрятался, а только делал вид и ублажал себя пустыми надеждами на будущее, которое неразделимо с настоящим, что ты, при том, что у тебя в бороде ни единого седого волоса, полный банкрот, что, по сути, не так уж много осталось – жесткой, пустой усталости ковш напиться.
В девяностом под его началом была медицинская служба: чирьи и ссадины, иногда – обморожения и переломы, отрубленные пальцы и вывихнутые лодыжки – весь букет армейских болячек. До сих пор – преследующий запах карболки. Комиссии. Сидения по неделям в бункерах на двухсотметровой глубине под избыточным давлением.
Штабные игры, стрельбы на полигонах, когда в пустыне поливаешь себя из фляжки и едешь в одних трусах. Клопы, которых не брало ни одно из патентованных средств. «Черные тюльпаны» – начались позднее, при нем это было ЧП. «Прости, капитан, что я не смог тебе помочь». Ничего от этого не осталось и ничего не вошло ни в один из романов. Усталость. Одна усталость. Оказывается, до того, как он вернулся, мир тоже не стоял на месте. Умер его друг, Костя Несмашный, с которым они вместе стажировались в медакадемии. Умер странно и непонятно в свои тридцать шесть, едва успев дослужиться до капитана третьего ранга, на Северном, от инфаркта. Открыли шестую элементарную частицу. Изобрели сазеры[22], зеленея в небе, пронеслась комета Хиякутаки, Туманность эскимоса еще извергала свои последние лучи, теперь уже в другой стране скончались поэты Нина Искренко, Борис Рыжий («Я жду новых стихов…») и художник Андрей Фадеев, Сен-Микель принял еще одну знаменитость[23], а гора Хьюстон-астродом была обследована от основания до вершины. Все, что должно было произойти, произошло, и не в лучшую, и не в худшую сторону. Что же тогда с ней случилось? Теперь он даже не помнит ее голоса. Наделив человека памятью, Бог забыл о крыльях. «Коленопреклоненная вера перед самим собой всегда раздражает… постой, постой…» Что она сказала при их знакомстве, словно они вдвоем не учились два года в одном классе? Что-то о его лыжах. Ему было приятно вспомнить былую удаль, тело никогда не изменяло ему. Мысленно он давно ее похоронил, если бы не картинка перед глазами. К психотерапевту он так и не обратился, разобрался самостоятельно. Еще бы – иметь в кармане медицинский диплом. Он и сам знал, что выглядит новичком. Случайная встреча через три года после школы сделала их ненасытными пожирателями прошлого. «А помнишь?..» «А что он ответил, а что она сказала». «Наша классная!» «А как мы давали концерт перед отпускным и я играла на рояле Феликса Мендельсона, но тогда это не сработало, и ты даже не смотрел на меня». Его парта, до костра сохранившая ее имя. Третья в среднем ряду. Впервые они с Сашкой увидели ее на физкультуре. Он помнил этот день до сих пор: она показалась ему прямой и хрупкой – с портфелем в руке, которым она никогда не размахивала, а носила чинно, прижав к ноге. И еще улыбка – она знала, что на нее пялятся, «буйство глаз». Наверное, с этого все и начинается – прошлое и тоска.
В горах у них случилось продолжение бульварного романа. На танцы они являлись при полном параде – в форме, тщательно выбритые, но с Костей знакомились чаще, потому что черный цвет его формы, вероятно, соответствовал представлению лыжниц о доблестном офицерстве. Вечеринка и поцелуи на веранде под лунным светом и вековыми елями. До этого они ни разу не целовались. За два года школы он даже ни разу не прикоснулся к ней. Потом даже это ставилось ему в вину – не в разговорах, а подспудно – школьный багаж сослужил дурную службу. Слишком они оба оказались сентиментальными – нельзя долго жить прошлым, это опошляет жизнь, сводит ее к трафарету. Первый их скандал из последующей серии возник из-за того, что она и после рождения Димы предпочитала школьную компанию. «По сути, она боялась жить», – думал он. И потом, она тоже предпочитала эту компанию и даже пару раз брала его с собой. Бессмысленные разговоры. Это нравилось ему первые полгода, потом стало надоедать однообразием, потому что ни ее, ни его друзья не могли и не изобрели в этой жизни ничего нового.
У него была целая серия таких картинок, которые он тасовал, когда ему было тошно. Вернее, они выскакивали сами. Позднее он научился их вытаскивать по желанию. К некоторым он предпочитал не обращаться, словно их и не было, и не должно было быть.
Гана. Имя, которое теперь редко всплывало в снах. Чаще она являлась сторонне молчаливой – без лица, и только проснувшись, он понимал, что это была она. Иногда сны тормозили течение жизни на день, на два. Иногда были приятным воспоминанием, но порой он просыпался в липком поту, с сердцебиением спринтера и мурашками по телу, и темнота окружала, как паутина, и только поздний рассвет сочился сквозь шторы, и оказывалось, что ты всегда один – и не только с самим собой, но и вместе с ней. В такие минуты ему хотелось куда-то бежать и что-то делать, но, что именно, он не знал и даже не имел представления.
Гана. Конечно, именно – октябрь, с каштанами под ногами и замерзающими лужами, иначе бы она не села в машину – к его коллеге по профессии, как он потом узнал стороной. Оказывается, он плохо ее знал. Она изучала жизнь не только по хрестоматиям. Или тебе так хочется? Мозг услужливо и фантасмагорично хранит то, что нельзя хранить. К чему былые всплески волн и блеск глаз, если можно обойтись иным – просто ты тащишь за собой, как улитка, все, что нанизано на время, – единственное, перед чем ты беспомощен, единственное, что не дает передышки, и единственное, что оскудняет день за днем. Свадебные серьги и кольцо с потрескавшимся камнем, по которым ее опознали; и то, что он попросил показать, то, что от нее осталось (что осталось от тебя?), от чего тебя до сих пор мутит, едва прикрытое простыней на каком-то мраморном столе – все, что уместилось бы в его дипломате. Руки, которые некуда было спрятать под насмешливыми взглядами полицейских. Гроб, слишком легкий для взрослого человека. Все это уже не имело к ней никакого отношения. Как-то не складывается одно с другим. Что-то же говорила ей мать о будущем браке, да не договорила. Тайна, унесенная с собой. Вечная пощечина, горящая на щеках. Мнимый стыд? Конечно, он ее простил. Задним числом, через много лет. Но вопрос остался и недоумение тоже, и это мучило. Сейчас он поймал себя на том, что все время думает о ней как о двадцатилетней. В его памяти она не менялась. «Придорожный столбик, о который ты ударился секунду назад… Беспомощность перед временем – единственное, чего стоило страшиться. Человек может предвидеть, но не предвосхитить. Только однажды тебя просто ломает, и ты уже не можешь вот так просто смотреть на небо и траву. Остается только одна глупая надежда, что ты все-таки ошибаешься». Где-то в удостоверении у него долго хранилась ее школьная фотография, с ровной челкой над самыми глазами, и губами, едва тронутыми улыбкой – не ему – какому-то мальчику, с которым они сидели в кино, взявшись за руки, потому что он как раз в это время уже служил и появился позже. Носик, погруженный в ворох сирени. Иногда он добавлял ей мудрости – стоило заранее посыпать голову пеплом. И наделял иными качествами зрелой женщины, сообразно своему настроению, отдаляя сам финал их жизни, из которого уже ничего нельзя извлечь (а что извлечено, слишком скудно и превращено в пыль, если не в золу). Та девочка, вышедшая из школы и прижимающая портфель к ноге, теперь не имела к ней никакого отношения. Больше он никого не берег в памяти так, как ее. Научился этому позднее. Если бы не эта тоска от бессонницы, если бы не эти ночные звонки. Через столько лет они действуют лучше всякого адреналина. Сейчас для него образ первой жены представлялся размытым, если бы не фотографии. Лыжное знакомство студенческих лет. Гана. Жизнь, не прожитая счастливо, – никак. Чёрные, как смоль, волосы, и сухие губы горянки – самые выразительные на лице. Слишком выразительные и слишком жесткие. Мужчинам они кажутся многообещающими, даже больше, чем промежность, и делают их слишком податливыми. В октябре все листья кажутся желтыми, а все женщины – шлюхами. Как он решился второй раз. Всю жизнь мучился неразрешимыми противоречиями и оказывался слишком легкой добычей. Великодушничал, играл свою роль и вечно переигрывал. Дело в том, что в конце концов перестаешь считать себя способным на поступки.
***
На следующее утро отправился снова. Саския не вышла проводить. Давно стали безразличны друг другу. Ночью проснулся от истеричных всхлипываний, слишком часто она это делала последнее время – окропляла их жизнь слезами. Не спрашивая, протянул руку утешить – хотя ни в чем не мог помочь.
Молча отвернулась, перевалилась на бок, подставив спину; не осталось ничего другого, как разглядывать узоры на потолке до самого рассвета, до криков молочного муэдзина: «Молоко-о-о…» Когда-то он чутко оберегал ее от дурных сновидений. Кто теперь этим займется? Постепенно сама жизнь приучает к мысли, что все бессмысленно, и сама она в том числе.
Утром она неожиданно призналась, жалея себя:
– Как я ночью плакала…
Он только кивнул, глядя на ее издерганное, помятое лицо, знал, что жалеть бесполезно, потому что она находилась в своем привычном состоянии лихорадочного возбуждения, из которого ее нельзя было вытянуть никакими силами.
– В жизни так не плакала. Нет, один раз плакала…
– Когда? – спросил он осторожно и вежливо, лишь бы избежать поводов к упрекам о невнимательности.
Жизнь она воспринимала как войну полов.
– Не скажу! Все тебе знать. Должно что-то и мне остаться. – И вдруг, смягчившись, провидчески добавила: – У нас начинается период стремления на Запад… Я уже готова…
«Господи! – подумал он. – Никуда я не поеду…»
Позже он застал ее плачущей к туалетной комнате – она не знала, что ей делать с зубной щеткой и тюбиком – запуталась.
Позавтракали вместе. Голос по радио: «Восточный что? Курьер». Сухо рассмеялась в ответ и ушла перечитывать что-то о собаке Баскервилей.
Зеркала квартирной пустоты отразили одинокую спину. Безжалостный коридор показался слишком длинным – как взлетная полоса. Дверь всхлипнула и гулко хлопнула над кафельными плитами. Пока добрался до подъезда, ода которому еще не спета, звук успел вернуться и вместе с выдохом вынес наружу, в августовскую духоту. Лето – время, когда женщины с удовольствием демонстрируют свои попки. До самой остановки не обнаруживал слежки. Шпик, наверное, проспал. Встретил пешехода, которого нельзя было назвать господином, потому что он попадался ему каждое утро, выгуливая на руке, под колпачком, сокола, потом – на пустыре, в тростниках, на белой нитке, – бежал следом, запыхавшись, припадая на негнущуюся ногу; каждый раз, симпатизируя, кивали друг другу, он – приветствуя одиночество человека и сокола, не решаясь нарушить их дружного единства разговорами, в которых неизбежно должен был оказаться лишним. Нравились сухие интеллигентные лица. Левая рука у господина с соколом была короткой. Однажды сокол улетел. В газете промелькнуло соответствующее объявление, по смыслу – «вернись, я все прощу». Так он и не узнал, что связывало человека и птицу. Праздный вопрос, что называется, канул в вечность. Но Иванов догадался – то, что связывало их с Саскией, – привычка. Лети, сокол, лети.
Напротив остановки собралась толпа – машина сбила мальчика. Из-под простыни виднелась распростертая рука. Мимо равнодушно несся транспортный поток. Позже он встретил молодую женщину в трауре – продавщицу из ближайшего мини-маркета. Следователь с бумагами в руках опрашивал свидетелей.
Когда садился в автобус, заметил, что где-то позади, в толпе, мелькали растерянные глаза господина-без цилиндра. Любопытство подвело. Бежал следом по шоссе, нелепо размахивая руками, как человек, который способен только бегать в ларек исключительно за кружкой пива, – подавал водителю знаки. Где их учили так работать? Как мальчишка, показал язык. На этот раз оставил с носом. Правда, не надолго. Встретились перед офисом господина Ли Цоя, где он, затравленный собственным усердием, поджидал его. Сделал вид, что не узнал, чтобы не расстраивать личного соглядатая.
Напротив офиса сотни полторы человек из «истинных уравнителей» протестовали против жидо-масонской лиги. Над толпой торчали рукотворные плакаты, и женские головы выкрикивали: «Хлеба и зрелищ!», «Граница – Днепр! Граница – Днепр!» Старушки косо держали портреты вождей. Двое трудников с черными глазницами развернули плакат «Да здравствует труд слепых!» Не хватало энтузиазма Эжена Потье[24].
Операторы телевидения снимали. Репортеры вяло щелкали фотоаппаратами. Кого теперь заклеймят? Премьер-министра из калачного ряда, сбежавшего за границу?
Глава III
Господин Ли Цой отказал через секретаршу.
Иванов, полный недоумения, спросил:
– К-как он сказал?
– Сказал, что вы ему не нужны.
– Совсем? – глупо переспросил он.
Через два месяца переговоров – кто теперь поймет, что у них с утра на уме.
Секретарша, две тонюсенькие ножки из-под платьица и испуганно-затравленные глаза, ответила с понижением в тоне:
– Проект не одобрен… в принципе…
Словно запиналась от смущения.
– Можно, я с ним поговорю, – предпринял попытку Иванов и вдруг почувствовал, как сквозь замочную скважину за ним наблюдают. Дергающийся, как паралитик, зрачок, и явно налегающее с той стороны петушиное тело (язва или застарелый колит?) с галстуком в синюю диагоналевую полоску на куриной шее. Пиджачки, призванные скрывать тщедушность.
От неожиданности и удивления он запнулся и произнес: «Здравствуйте, господин Ли Цой…»
Глаз в скважине уставился с пристальностью микроскопа, выискивая недоумение на лице Иванова. Ресницы сглатывали крокодиловую слезу. Воровской чуб прикрывал узкий лобик.
Секретарша, невольно оглянувшись, пошла пятнами и отчего-то принялась одергивать юбку.
Разве мог он чем-то помочь, одарить парой колготок, лечь в постель, оградить, осчастливить на том языке, который безоговорочно понимается большинством слабой половины. Заставить бежать от всех неурядиц. Быть защитником и повелителем. Господи, почему мир устроен так, что некоторым это нравится?
Иванов, наклонившись и скосив глаза на замочную скважину, спросил:
– Не падал с лестницы? Не бился в корчах? Может, вызвать психиатричку?
Не выдержал, съязвил с умным видом. Вогнал занозу удовольствия и подергал под брызги сукровицы, мстя за дурацкую ситуацию. Попробовал бы тот вылезти!
Девушка только моргала ресницами. Стоило надавить, и она ответила бы сквозь ужас и слезы о промятом диване в кабинете господина Ли Цоя и о потом заработанных гривнах. Единственный туалет в конце коридора, где только холодная вода из-под крана, и запасные трусики в ящике стола. Мирок, расчерченный на черное и белое сразу после школьной скамьи.
Из-под двери в угол комнаты вдруг потекла лужа; и Иванов, невольно проследив взглядом, увидел в углу швабру и тряпку в ведре. Ничего не сказав, вышел.
Надо было пожалеть милую девочку. Смешно быть доброхотом, когда тебя не просят.
Когда он проходил по коридору, господин-без цилиндра сделал вид, что смотрит телевизор. Президент-Мэр, кандидат в лорды-протекторы, как раз ратовал за отпуск цен и освобождение крестьян от дорожных налогов, впрочем, плата за мосты осталась прежней. Цеха распускались и переводились в артели, рабочие, ввиду малочисленности, получали статус граждан пятого сословия и лишались права передвижения.
Охранники, как и вчера, не отрывались от экрана – им нечего было страшиться.
Телевизионщиков и репортеров уже не было, а полиция оттесняла уравнителей в переулок. Плакаты уже не колыхались над головами; и оттуда неслись звуки большой упирающейся коровы.
***
На обратном пути заметил еще в троллейбусе… Вышел следом бездумно, на одной рефлексии подсмотреть… Не часто с ним такое случалось. От неожиданности растерялся, и во рту пересохло. Еще раз живой увидеть Гану – много бы он за это отдал. Такая женщина будила в нем желание. Стоило ей пройти рядом, как он долго не мог забыть ее. От нахлынувшей волны в голове даже зазвенело. Выглядел идиотом: несколько раз толкали, оглядывались почти враждебно. Пришлось делать вид, что завязывает шнурки или освобождается от действительно впившегося в подошву гвоздя. Автоматически выхватил из толпы лицо известного артиста и рядом – блондинку с нервными, порочными чертами: капризно изогнутый рот и жесткие глаза пустышки. Волосы у артиста в реальности оказались рыжеватыми.
Шел следом за той, которая напомнила Гану, таясь, спустился в метро и только у турникетов вспомнил, что у него кончились деньги. Женщина уже смешалась с толпой. Но ему повезло: ее окликнули, и вот она уже разговаривала с приятельницей. Подобрался ближе, словно рассматривая взятый с лотка журнал, жадно наблюдал и почти отчаялся увидеть, как она снова сделал так: улыбнулась, как Гана тогда, у школы, с портфелем в руках (Сашка дергал за рукав и вздыхал, как тюлень), как утром после душа, как на простынях под лунным светом – встряхнула жесткими короткими волосами, оборотив к собеседнице внимательное лицо, и все: от уголков глаз до большеватого рта пришло в движение, поменяв строгое выражение на самое дружеское, и он вспомнил, что это было тоже – ее привычкой, которую он боялся распознать в ком-нибудь другом, узнавать по частям в самых разных людях – все равно что еще раз очутиться в покатых горах, где они однажды провели целый отпуск среди елей и где он сделал ей предложение – тогда он, не знавший Петрарки, слабый противник, не чета нынешнему, – лишь похожий на того сорокалетнего, от которого перенял независимость. Но Гана, но Гана…
Он услышал, как она ответила, но это уже была не она, а просто незнакомая женщина:
– Ну что ты! Разве так можно?! Мужчины слабы. Это для них всегда бывает неожиданностью… Однажды оказывается, что им что-то мешает комфортно существовать, они как малые дети – им надо привыкнуть к новому положению вещей. – Ее рот был слишком выразительным для таких фраз, она знала, о чем говорить, и в этом крылась сила таких разговоров.
– Кто же об этом думает… – раздраженно ответила слишком нервная приятельница, – …на седьмом месяце… – Она дернула загорелым плечиком с тонкой белой лямкой.
Раздираемая противоречиями красавица с обложки любого журнала, которую не красила беременность, – чуть-чуть вульгарна, чуть-чуть цинична, в меру того, что давал город.
– Дело даже не в ребенке. Я устала. Я просто хочу знать, что такое деньги. Понимаешь, просто деньги! Я хочу почувствовать, что это такое!
Теперь незнакомке стало интересно:
– А что же он?
Иванов сразу понял. Он понял, что она копнет глубже. Она была дальновидной, чем казалась. Он ее не порицал. Он сам занимался этим.
– Ты наивна, как мой папа. С ума можно сойти! Если бы ты знала, как мне надоела личная жизнь. – Красавица поправила платье на большом животе.
– Как это? – удивленно спросила незнакомка.
– Да так! Думаешь, он терпеть будет… вечно я недое… хожу.
Теперь было видно, что приятельница просто злится.
– Ну ладно, – успокоила ее незнакомка, – роди ему ребенка, и никуда он не денется.
Женская фраза, полная цинизма, в ее устах прозвучала кощунственно, не оставляя места интерпретации, подтверждая беспринципность материального начала. Переменив разговор, она узнала то, чего хотела, и они прошли турникеты и спустились вниз. Напоследок он еще раз разглядел блестящий чуб коротко стриженных черных волос. Его первая жена стриглась точно так же. Иногда ему было достаточно просто фигуры издали, чтобы заслонить картинку морга и жестяных столов.
Искать столько лет одно и то же во всех других женщинах. Ловить знакомые черты. Узнавать по походке. Такое с ним случалось два-три раза в год. Перед этим он чувствовал себя таким пустым – пустее не бывает. Пожалуй, и писать он начал из-за этого. Иногда ему казалось, что он настолько близок к разгадке, что пугался, пока не понял: все его находки – всего лишь восприятие памяти – как ночь и день, вразрез третьим потоком, – противоборство с самим собой – и это стало его палочкой-выручалочкой, наверное, потому что он был так сделан. С тех пор у него появился слишком весомый аргумент – верить самому себе, чтобы не доверять окружающему. Фрейд в данном случае оказался не прав, потому что жизнь по Фрейду – все равно что удовлетворяться чужим рационализмом.
И двадцать лет назад ему тоже не нравились горы. Он навсегда остался жителем равнин. В узких долинах угадывалась иная метафизика в противовес открытым пространствам. Ущелья и быстро несущаяся вода вызывали приступы клаустрофобии. Когда он смотрел на желтые гребни волн, у него кружилась голова. Ели проплывали так близко, что царапали стекла вагона. Снег падал невесомо и тихо, как вата, – влажный, липкий снег. Через полгода он не знал, куда от него деваться, потому что гарнизон в сопках заносило по крыши.
***
Костя мечтательно сказал, похлопывая себя по острым коленкам:
– Лишь бы погода… лишь бы погода… – и суеверно поцокал языком: три раза должно было обозначать везение.
Заядлый лыжник – в тот март он вытянул его с собой в горы.
– Нет, старик, что ни говори, а лыжи лучше бассейна.
Иванов не имел своей точки зрения на этот вопрос, потому что плаванием не увлекался, а в их южном городе ходить на лыжах можно было не чаще одного раза в пять лет, когда зима по всему пространству страны выпадала особенно снежной. Бегать на лыжах он научился гораздо позднее, когда попал на север, и иногда они встречались с Костей, вначале в офицерской гостинице, потом уже, когда он женился, у него на квартире.
Но вначале перед Костей стояла несложная задача.
– Главное, вовремя жениться, – говорил он со знанием дела, – и сделать ребенка. Когда есть ребенок, знаешь, что живешь для кого-то. А о верности не может быть речи. Полгода в плавании, какая жена выдержит. Как говорится: муж в плавание, а жена в «Океан»…
«Океаном» назывался единственный ресторан в городе Североморске, где он окончил десятилетку и где ему предстояло служить.
В результате Иванов неожиданно женился первым.
Он был практичен – его друг, Константин Несмашный, и шел всего лишь по стопам отца – мичмана, свои двенадцать лет отслужившего на подлодках.
С Леной он познакомился в поезде, и она сразу научила его чистить зубы и не реже одного раза в три дня менять носки. Но спился он быстро. Конечно, не быстрее, чем принято в среде регулярно пьющих людей, хотя жена и твердо знала свое дело домашнего цербера.
Потом, через восемь лет, от его фигуры брассиста не осталось и намека. В тридцать он выглядел на все сорок. Пять лет плавания на противолодочном «Доблестном» сделали то, что не могли сделать бессонные ночи учебы, суматошные дежурства на «скорой», два года стажировок и беспорядочная личная жизнь. Все начиналось с малого: тоскливого настроения, стакана неразбавленного спирта и краюхи черного хлеба – лишь бы только забыться от вахты до вахты, лишь бы только не видеть примелькавшихся лиц и вечно качающихся антенн, когда ты карабкаешься на мостик. Кренящаяся палуба. Сырая одежда, и то, к чему ты меньше всего подготовлен – обыденность происходящего, героика на корабле оказалась слишком шикарной вещью, как фортепиано «Безендорфер» в сельском клубе.
Однажды он сказал:
– Человеческий материал – хуже всего. С ним всегда надо держать ухо востро. Следует только привыкнуть. Я не привык…
В Североморске остались жена Лена и дочь Ксения. Перед тем как второй раз жениться, Иванов был у него в гостях, улица Северная застава. Прапорщик, Костин знакомый, получил на КПП бутылку коньяка, а Иванов – возможность неделю пожить у друга.
Костя сказал тогда:
– А помнишь Карпаты и?..
– Это было в другой жизни, – быстро ответил он, призывая друга неизвестно к чему – быть осторожным, что ли.
Должно быть, он сам заблуждался, ведь для того, чтобы увидеть свой след, надо оглянуться. В то время он оглядываться не любил, да и не умел просто.
– Какой жизни! – Когда Костя выпивал, он становился романтиком.
– Да, – тогда ответил Иванов, – хорошее было время, беззаботное… но я не хочу вспоминать об этом.
Там в их гостиничный номер зашли трое, и первым заговорил человек в бараньей папахе.
– Вы з Яремчи, что рядом с Шолотвино?
Хитрость его была простодушна, как и все в этом крае, и одновременно он был подкупающе искательным, так что Иванов прежде, чем ответить, решил, что имеет дело с каким-то администратором.
– Да, – ответил Иванов, поднимаясь с койки. Он читал газету. – А что надо-то?
Он успел натянуть брюки, пока человек в бараньей шапке, искушенно улыбаясь, смотрел на него. Наверное, у него был свой план разговора. Двое других держали свои головные уборы в руках и стояли поодаль.
– А где ваш инструктор, Юра? – пошарил взглядом по комнате.
– По-моему, – ответил Костя, отставляя в сторону утюг (они готовились пойти в ресторан, и Костя предвкушал возлияния местными наливками), – играет где-то то ли в теннис, то ли парится в сауне.
– А вы не могли бы нам помочь? – И снова оборотился к Иванову, должно быть, он внушал ему доверия больше, чем Константин, на лице которого были написаны всего его страсти к женщинам и Бахусу.
– А что, носить что-то?
– Да ни, треба работу провесты…Александр Иванович просит вас помочь нам. – И почему-то многозначительно подмигнул.
Должно быть, это была его хитрость – таинственный Александр Иванович.
– А что надо? Носильщик? – Костя еще ничего не мог понять, перед ним лежали брюки, которые он по привычке клал на ночь под матрас.
– Да ни, допомога… – И снова подмигнул, на этот раз и ему.
– Ага… – чуть растерянно произнес Костя и вопросительно уставился на Иванова, мол, какие-то загадки.
– Поможем, поможем… – заверил он человека в папахе, – чем можем… с удовольствием…
– Я прошу вас допомогты нам зробыты дим, – человек сразу обрадовался, – обладнаты… Треба там дранкуваты, – быстро произнес он. – Если вы можете?
– Можем, можем, – в тон ему ответил Иванов.
У него появилось ощущение, что что-то должно произойти.
Они оделись и вышли с разочарованным Костей вслед за горцами и поехали в тряском «газике» куда-то под гору, а человек в папахе, оборотясь к ним с переднего сиденья, продолжал:
– Познакомитесь с нашим Александром Ивановичем. Он проходыв дийсну вийскову службу у Черни. И оженывся здесь. Он робыт ликарем.
– Кем? – переспросил Иванов, чувствуя, как он приближается к странным событиям.
– Ликарем, – пояснил еще раз человек. – Александр Иванович третий человек в округе писля ксенза, писля дыректора школы…
– А… – только и произнес Иванов.
Свет фонарей слепил глаза. Мелькали заборы и деревья. Поверх всего скользила вечная луна и ночной мир – плоский, как фигуры в китайском театре. Машина остановилась, и они стали подниматься по лестнице куда-то вверх под реснитчатые верхушки елей. Его вдруг беспричинно охватил страх незнакомого места, и сердце забилось сильнее. Внизу, обрамленное снегом, блестело Сеневирское озеро. Горцы в своей мягкой обуви шли быстро и ловко. Один Константин недовольно сопел от натуги. На террасе перед домом их ждал человек в белом костюме, в белой рубашке, но без галстука:
– Добрый вечер. Слава Иисусу, – сказал он. – Звидкиль вы родом?
– Из Сибири, – ответил Иванов, и человек ему сразу понравился.
– И я из Екатеринбургу, – обрадовался человек в белом костюме. – Але тут давно уже роблю головным ликарем, тому я поважаема людына…
И только тогда Иванов понял, что человек в папахе действительно управляющий, потому что, очутившись рядом с Александром Ивановичем, он почему-то снял шапку и теперь скромно держал ее в руках.
– Дiм з трех поверхамы, – сказал Александр Иванович, доверительно кладя Иванову на плечо ладонь и поворачивая к темному силуэту дом. – Велыка споруда. Бассейн. – Повел их внутрь и стал показывать комнаты. Голые лампочки одиноко горели под потолком. – Тут буде кабинет, тут буде сауна. Кимната видпочинку жинки. Туалеты…
Они, невольно улыбаясь, ходили следом. Костя оставался недовольным. Дом пахнул деревом и свежей побелкой.
– Нам треба покласты дранку. Вы можете? – Он повернулся и посмотрел на них необычайно серьезно, словно от них зависело что-то важное в его жизни.
– Ну конечно, поможем, – сказал Иванов, и Костя незаметно ткнул его в бок. – А как вы это делаете? – спросил он, делая шаг в сторону, чтобы избежать Костиного кулака.
– Кладемо и обрезаемо на мисти.
Костя саркастически хмыкнул в кулак и изобразил на лице удивление. Александр Иванович вопросительно посмотрел на него.
– Делаем не так, – невозмутимо произнес Костя. – Дранку сбиваем на полу. А потом прибиваем на стену.
Он показал, как надо класть дранку. Чем они только в студентах ни занимались.
– А мы не додумались, – удивились те двое, которые в присутствии управляющего и Александра Ивановича так и не надели свои шапки.
За час они справились с одной комнатой. Потом появился управляющий в бараньей шапке, посмотрел на их работу и сообщил:
– Вы ему сподобалыся. Вы швыдко зробыли цэ. А зараз ходимо исти.
Они снова сели в машину и поехали на этот раз вниз, в долину. Их уже ждали. Александр Иванович снова встретил их у порога, и они выпили по стакану местного вина, вошли в дом, и здесь у него сладко екнуло в сердце, потому что вместе с хозяйкой дома стол накрывала и Гана. Их усадили рядом, и вдруг он понял, что все это сделано специально и, похоже, к нему приглядывались, и почему-то ему приятно и он не возражает. Так ему все и запомнилось: ночь, ели, горячее вино и Гана.
Он прятал свои картинки на самое дно. Приятные, веселые картинки, молодые картинки, горячие картинки.
Потом, через несколько лет, после одной из ссор выяснилось.
– Я не выношу запаха военной формы… на генетическом уровне, – заявила она ему.
Наверное, это было связано с севером. Он уже не помнил, но сцену сватовства и свою обиду запомнил, а теперь ее лицо стало просто лицом на фотографической бумаге, и с этим ничего нельзя было поделать.
Воспоминания всегда неизменны и постоянны, но они руководят тобой, в этом и заключается их парадокс, и тебе приходится только удивляться.
На похороны Ганы Костя не приехал – болтался где-то около Кубы в штормовом океане. Только отстучал несколько строчек: «Соболезную, скорблю вместе с тобой. Держись, старик».
Он был хорошим другом и всегда подписывал письма: «Твой Константин». А потом вдруг умер, и тело его во флотском мундире отвезли к родителям в Белгород. В восемьдесят девятом он был уже почти лысым.
Однажды она призналась:
– Я приручаю пойманного зверя…
Он это хорошо помнил. Зверем был он. Ему даже льстило вначале. Через много лет он понял, что значит быть зверем и что она имела в виду. У них просто не хватило времени, чтобы выяснить этот вопрос, но он понял, и теперь ему оставалось лишь рефлектировать, потому что теперь ничего другого не осталось.
«Но почему она села с этим типом в машину?» – страдал он. Вопрос, который мучил его всю жизнь.
Однажды у них с женой вышла первая ссора, а через день, когда они помирились, он ей сказал:
– В магазине ты тоже была просто отвратительна.
– Почему ты меня не остановил?
– Потому что ты моя жена, потому что я знаю, что ты совсем другая, а на все остальное мне наплевать.
Он лепил ее под себя, сам не ведая того. Что-то ему, наверное, удалось, где-то ошибался. Но главной его ошибкой оказалась армия, не медицина, конечно, а армия. Хотя в свое время он ее тоже любил. Потом он уже стал подстраховываться, думать за троих: за нее, за себя и за Димку. Этому учишься постепенно, сам не зная того – создавать себе любимого человека, надо только уметь прощать – прошлое со всеми его ошибками и неудачами, ведь женщина – это тоже прошлое, и из-за этого ты ее всегда любишь. Чувства не зависят от времени, а только от тебя. Время здесь – удача или неудача, не имеющее непосредственного отношения к любви. Ведь со временем ты чувствуешь себя в силах не только понять, но и, не рассуждая (скорбнее или опытнее, когда тебе уже все надоест и после всего, что произошло в жизни), оценить трезво, но не цинично. Пожалуй, скорбнее даже больше, потому что опыт, как факт, дело приобретенное, а значит, и вечное.
Потом, пожалуй, они больше не ссорились. Он не доводил дела до этого за те два года, что им осталось. И только, когда получил предписание явиться такого-то и туда-то сменить какого-то ошалевшего от радости капитана, вот тогда она ему и выдала то, что он вначале принял за минутную слабость:
– Я тебя не буду ждать, – сказала она. – Если ты не открутишься, то возьму Димку и уйду.
Он помнил еще одну картинку, вытягивая ее чаще других, хотя непосредственного отношения к ней она не имела: ее фигура на соседней полке, которая привиделась, когда они сутки тряслись в поезде (Костя похрапывал внизу). Он так уверовал в это, что едва не свалился на Константина – слишком крепко она врезалась в его память за две недели, чтобы оставить его в эту ночь. Вот эту-то ночь почему-то он тоже запомнил, пожалуй, лучше всего остального. Не две недели, проведенные вместе, а именно одна ночь в полупустом купе, полупустом вагоне, где он ее воскрешал одним воображением. Лежа на верхней полке, он лихорадочно записывал. Это был его первый опус: невнятные впечатления. У него были видения. То он вдруг видел ее в женщине на соседней полке, то она удалялась от него по коридору. Сутки возвращения домой были наполнены сладкой истомой, выматывающей, как головная боль.
Глава IV
Оказалась одетой в нечто объемное, скрывающее талию, но не плечи, – соломенно-туниковое, под цвет волос, стянутых и заплетенных в сложную косу, так что ничего не мешало блистать совершенным чертам, которые он когда-то боготворил.
– Мой мальчик, я давно научилась различать мужчин… – И отложила блокнот, который держала в руках.
Теперь она хорошо это умела делать, сама – полная хладнокровность, истая женщина, сталкивая их лбами через своего дорогого мужа, которого держала на короткой узде.
Иногда реакция была явно неадекватной – в последний раз Губарю сломали пять ребер и выбили передние зубы, и он некоторое время, как вериги, таскал большой армейский пистолет.
– Но к тебе это не имеет никакого отношения. – Заулыбалась, непривычно холодно кокетничая своим тяжелым, неподвижным лицом. Крупные руки, увитые браслетами и кольцами. Шаль, наброшенная с изяществом на чувственные плечи, достойные иных мужчин. – …по утрам умирать не хочется, и ты поневоле встаешь и сама себе готовишь завтрак…
Манерная фраза, рассчитанная на сочувствие, в котором она не нуждалась. Привычка, вытянутая уже не из школьных лет, хотя и хорошо знакомая, если ты невольно интересуешься кем-то. У них было что вспомнить, и Иванов до сих входил в число ее друзей. Когда рядом с тобой умирает человек, печать смерти ложится и на окружающих, даже если об этом не принято упоминать. Он только сейчас стал ловить себя на том, что в ее доме смеется без оглядки. Другим бы при иных обстоятельствах хватило бы полгода.
– Брось, – вздохнул он. – В твоем-то возрасте…
В углу, за плющом, шевельнулась Леся Кухта. Как всегда, он почувствовал, что в ее присутствии Королева едва заметно смущается. Разговор невольно замолкал, пока она накрывала стол, и принимал странный оборот с длинными паузами, словно Королева ожидала, когда ее подруга вернется на балкон.
– Ну, я пойду… – произнесла Леся, – а то вы все молчите и молчите, мне даже странно…
Ее подруга представляла из себя вечную девочку – с длинным обиженным лицом и короткими белесыми волосами. (Губарь говорил о ней: «Ее вялые вторичные половые признаки меня не интересуют».) Когда-то они обе ходили в одну бальную студию, и с тех пор дружили той странной дружбой, которая пережила не только замужество каждой из них, но и тот момент, когда человек приобретает опыт зрелости. Впрочем, Леся Кухта никогда не поднималась выше уровня домашней подруги и не претендовала на что-то большее, чем подушку для слез, хотя последнее тоже было сложно сопоставить с Королевой.
– Иди, иди и дай мне спокойно с ним покусать локти, – произнесла Королева, улыбаясь и чуть виновато поглядывая на Иванова, и потом добавила, – позвони мне… позвонишь?
– Хорошо, – Леся поджала губы и произнесла, глядя куда-то в пол, – только ты не забудь…
Ее муж, Радик, обитал где-то за океаном, где сводил концы с концами писанием сценариев и занятием тай-бо, и однажды Иванов услышал, как Леся жаловалась Королеве: «Мой-то… прислал… прислал пару колготок и комбинезон с запиской, что у нас здесь видите ли, холодные зимы. Ну? По-моему, он там заелся…» Королева ответила ей тогда: «Никакой он уже не твой, забудь о нем». Одна из его дочерей пошла по стопам матери, и Королева протежировала ей на уровне местных театров. Радик был одним из знакомых господина-без цилиндра и особым дарованием не отличался. Иванов запомнил его как задерганного работой и женой человека с непомерно большим самомнением, но теперь на свой кусок хлеба он, похоже, зарабатывал в поте лица и зарабатывал честно, потому что там, за океаном, он всегда был теперь чужаком, и знал это.
– Не забуду, – Королева произнесла фразу так, словно разговаривала с больным человеком, которого нельзя лишний раз тревожить.
Леся Кухта подошла и поцеловала Королеву в щеку.
– Иди, дорогая, иди… – Королева похлопала подругу по обиженно опущенной руке и проводила взглядом до самой двери. – Никогда не знаешь, чем все закончится, – произнесла она, когда в глубине квартиры хлопнула входная дверь, – в наши дни все было проще…
И они оба, не сговариваясь, подумали о Гане и вспомнили, каждый свое: она – школьную подругу-хохотушку, которую следовало забыть, если бы не Иванов, если бы не муж, если бы не непонятная сентиментальность; он – совсем другое, достаточно смутное, что осталось в нем, что должно остаться в таких случаях и то, с чем он до сих пор не знал, как поступить. И она невольно, вопреки своей надменности, сделала протестующий жест, долженствующий выделять ее из толпы посредственностей, – словно послала кому-то прощальный поцелуй, слишком естественный, чтобы так же естественно удивиться, слишком величественный для постороннего, чтобы навеки попасть под чары: пальцы поднятой руки совершили короткий пируэт в воздухе, сверкнули перламутром и серебром, опомнившись, скользнули вдоль высокого чистого лба и подперли щеку в боевой раскраске индейца, чтобы поверх руки на него изучающе-отрешенно взглянули зеленоватые глаза; и он успел подумать, что так и не запомнил, какого они цвета, и узнает об этом, только когда ее видит вот так – достаточно редко, чтобы не обвинять себя в излишестве, и достаточно часто, чтобы все же подзабыть чуть хрипловатый голос. Он всегда прощал ее за невольную ложь, за снобизм – слишком много мужского и сильного было в ней, чтобы поверить в задумчиво-обманчивый поворот головы на красивой шее, – Королевы, теперь уже поднаторевшей в чиновничьих играх. Королевы, с тяжелым взглядом прозрачно-зеленых глаз, настолько прозрачных, словно на дне ведра стукаются друг о друга льдинки, говорящие: прими меня такой, какая я есть, на большее я не способна, и ты заглядываешь сверху и думаешь, господи, ну вот же они, а я-то искал, – только почему-то не веришь до самого последнего момента, пока не запустишь руку и пальцы через пару щербин[25]не закоченеют, как коченеет душа от прагматического опыта, как от чересчур трезвого взгляда на вещи, просто оттого, что вы устали или перестали удивляться закату на слишком красивом, как картинка, небосклоне, – такое тоже бывает, и это надо пережить, как переживают долгую болезнь. Его и в школе смущала ее природная холодность, и в этом он себя перешагнуть не мог. Порой ему казалось, что ей следовало родиться мужчиной.
– Скажи что-нибудь… – попросил он.
Иногда он почти любил ее за то, что, когда приезжал весной, в ее доме пахло пьянящей сиренью, в начале лета – клубникой, а в конце – дынями и арбузами, за то, что она вот так прямо могла посидеть с ним здесь, в старой квартире старого дома, в центре которого рос вечный платан, сделать вид, что ей еще не так скучно с ним, за то, что она не отреклась от тех лет, за то, что она всегда принимала его и помнила Гану – пусть даже картинно-равнодушно. Но сейчас ему, вопреки ожиданию, вовсе не льстило стать заговорщиком, даже если они и думали об одном и том же. Всякий раз, когда они встречались, разговор кончался Ганой и их прошлым. Странно, что им обоим до сих пор нравилось копаться в нем – хотя чаще они ни о чем путном не вспоминали, – смешная игра, в которой каждый мечтал о своем. Может быть, таким образом она старалась забыться – единственное, что их объединяло. Хотя, разумеется, они оба знали меру, не переходя в сентиментальность. И сейчас он тоже не устоял. Так приятно поскрести былое.
– Ты знаешь, я к тебе всегда хорошо относилась, даже, даже…
«Даже после ее смерти», – подумал он.
– … даже после твоей странной женитьбы…
Упрек от женщины – это как пощечина, которая всегда заставляет обороняться.
– Я сам удивляюсь… – невольно пошутил он.
Она ему доверяла, не впутывая ни в одно из сомнительных дел на почве политики, в которой исповедовала политеизм – качество не для слабонервных журналистов, умеющих лавировать. Лет десять назад она стала совладелицей телевизионной компании и в ближайшее время могла стать ее полный хозяйкой. Что это ей стоило, одному Богу известно, но теперь она действовала без оглядки на компаньонов. Она давно была помешана на деньгах после того, как бросила танцевать, и лицо ее постепенно приобрело непроницаемость маски, требующейся для таких обстоятельств. Иногда она эту маску теряла – когда приходил он и напоминал ей о детстве и об этом дворе, откуда она когда-то регулярно три раза в неделю отправлялась в бальную студию. Он старался не глядеть на окна второго этажа его бывшей квартиры, в которую не входил с тех пор, как вынес оттуда отца – перед смертью ему все-таки заживили его свищ. На большее он теперь не годился – ни для нее, ни для кого-либо отсюда. Не вписывался в настоящее. Был живым фетишем, с которым запросто можно попить чаек и повздыхать. Он подозревал, что она не прочитала ни одного из его романов, – только аннотации, что его просто берегут как редкостный экземпляр для таких встреч. На вершине своей славы он удостаивался чести выступать в ее программах. Теперь об этом не помнили. Рейтинг программ об искусстве давно пал смертью храбрых.
– Ты всегда был странным, – сказала она, нагибаясь над столом и поднося чашку к губам – так, что плечи по-прежнему оставались отведенными назад и по-королевски прямыми. – Из всей нашей компании…
После таких фраз ты чувствуешь себя так, словно тебя причислили к лику святых или, по крайней мере, незаслуженно и прилюдно похвалили.
– От подобных разговоров я не устаю, – ответил он шутливо.
– Но из тебя все-таки что-то вышло, – добавила она вежливо.
Между ними протекал вялый бульварный роман – с тех пор, как кончился его роман с армией и с тех пор, как они оба стали делать вид, что никакой тайны не существует и что они все забыли. Они имели право на обоюдную симпатию. В школе, слава богу, он не принадлежал к числу ее дерзких поклонников, от приемов ухаживания которых она пряталась на переменах в туалете. Любимой ее поговоркой тех лет была фраза: «Каждому давать – провалится кровать!» Последние годы он научился вспоминать так, что Ганы там тоже не было, хотя он точно знал, что она пришла к ним в девятом со всеми теми ощущениями в тебе, когда ты спиной чувствуешь, где сидит она, и ее челка, и черные глаза не дают тебе думать ни о чем другом. Теперь же с Королевой они стали слишком правильными и не любили чувств напоказ, словно доказывая это друг другу. И все равно выносили друг друга не больше недели. Проверенный срок. После каждого общения им нужен был некоторый отдых, и каждый использовал его в своих целях: она – чтобы сосредоточиться на очередном шоу, он – чтобы оглядеться и успокоиться, телевидение его не волновало. Ведь внутри себя ты не соответствуешь тому, как тебя преподносят, а это раздражает. Не многим нравится появляться на экране в «кривом» виде. Это не добавляет тебе уважения. Их философские заумствования – ночные беседы на истощение, когда он прибывал в отпуск, наполненные вожделением к ее прекрасному телу, ваятель явно не поскупился, – всегда не в счет – только заполняли какую-то часть ее жизни. Ту часть, в которой он уже не играл никакой роли, в которую она свято верила, на которую сделала главную ставку в жизни и которую ревностно охраняла от посягательств. С годами прагматизм Пирса в ней приобрел стойкие формы принятого умозаключения. Но в какой-то момент она явно перегнула палку, и теперь даже Губарь ее побаивался, а с другими мужчинами ей явно не хватало ума забыть о своем уме – быть все-таки чуть-чуть беззащитной женщиной.
«Я бы вообще запретил женщинам думать», – с отрешенной веселостью решил Иванов, поглядывая на Королеву.
Голова у нее работала прекрасно, и Губарь пользовался этим ее даром (или она пользовалась им, как ложкой), последнее время даже пробуя импровизировать – но достаточно бедно, чтобы ничего существенного не вносить в передачи, в которых для нее он оставался вечным подмастерьем, мальчиком для битья.
– Нет, не то. – Ему мешала ее задумчивость. – Скажи что-нибудь грустное.
Люди больше доверяют именно таким – страдающим лицам.
Чужой шрам – загадка для воображения, очерчивание горизонта собственных домыслов, лежащих в обозримых пределах личного опыта. Ты почему-то испытываешь умиление к прохожему, не напавшему в темноте подъезда. Ты не думаешь, что в этот раз тебя просто пронесло, а воображаешь, что это судьба, рок, предвидение, и живешь с этим чувством долгие годы, а потом однажды вдруг понимаешь, что действие и бездействие – равнозначны, и к тебе нисходит еще одно волнующее просветление, и так бесконечно, словно тебе в руки попалась занимательная игрушка, пока ты не научишься или решишь, что научился ею пользоваться, вот тогда возникает вопрос, а стоит ли дальше, и ты чувствуешь, что сил больше нет или они есть, но тебе наплевать, и тогда наступает пресыщение или усталость – на выбор.
Она засмеялась хрипловато, с низкими, горловыми нотками в голосе, словно ловя его на противоречии, словно принимая его игру и всю подноготную недосказанного, словно действительно когда-то бегала в белой бальной юбочке – во что, конечно, сейчас трудно поверить, прежде всего оттого, что помнишь ты сам, и не можешь соотнести ту девочку с этой женщиной, – и произнесла то, чего он ждал и в чем могла признаться только она:
– Я тебя люблю, ты же знаешь…
«Приятная ложь, – подумал он как о слабом утешении, глядя на лицо, которое совершенно не изменилось за последние двадцать лет, лишь, может быть, только стало тверже в скулах. – Ложь, которая никогда не согреется общей постелью».
Но было приятно услышать это из ее уст и было приятно больше ни на чем не настаивать в их устоявшихся взаимоотношениях. Некоторые много бы отдали – услышать от нее такое признание. Любить она не умела. Обделенная чувственностью, она и в юности обладала слишком трезвым рассудком – переросшее в то, что теперь все чаще запечатлевалось у нее на лице – в безразличие. И судя по нескольким оброненным фразам Губаря, в семейной жизни оказалась совсем не такой, какой представала вне ее. Его дикие запои. Ее блеск среди городских чиновников, которому она вдруг, в одночасье, научилась – естественные установки общества, – красиво, выставив вначале ноги, а затем прямые плечи, выйти из машины. Внешность всегда более чем многообещающая, даже если только подкреплена прошлыми заслугами, даже после того, как она снова вернула своим волосам светлые естественные тона, но потеряла уверенность в собственном теле. Потом приходится с этим мириться или удивляться. (В этот момент он всегда хлопал его по груди и предлагал помолчать, ибо никогда не верил – слишком скользкая и короткая получалась у Губаря фраза, словно он давился вишневой косточкой и даже не спохватывался. Иванов подозревал, что у них просто ничего путного не выходило.) Губарь всегда хотел казаться грубоватым и однажды стал таким, не допускаемый даже на крыльцо национальной Думы («Вся власть клериканам!», «Родина – или смерть!», и прочее, где между заседаниями по-прежнему думали и разговаривали по-санкюлотски), не то что в кулуарные застолья городской верхушки, но к друзьям из-за этого относился демократично, хотя завистников среди них у него, конечно же, хватало.
– Я знаю, – прошептала, глядя куда-то поверх листвы, туда, где голубело сухое небо и проплывало одинокое облако, а потом опускаясь ниже – как раз на его переносицу, и переходя почти на свистящие звуки – то, о чем, конечно же, догадывалась. – Тебе всегда была нужна другая женщина, совсем не нынешняя…
Это прозвучало почти как приговор его несостоятельности, по крайней мере, в личном, и он поморщился, надеясь, что никто не знает их истинных отношений с Саскией, – и едва не поддался искушению все же спросить о Гане. Может быть, удачно сыграть на чувствах одной женщины к другой? Какую из них ты считаешь глупее себя? Он подумал, что она в конце концов должна хорошо знать свою давнюю подругу, может быть, даже лучше, чем он.
– А… – он вовремя передумал, не боясь, что она догадается – до этого они не докатились, и вяло махнул рукой; они замолчали, она оборотила свой взор на платан, и он увидел профиль, выписанный в это утро бог весть для чего, но только не для этой встречи, и запечатленный в нем самом еще с тех пор, как он помнил этот двор и это дерево, но с той разницей, что он глядел на него всегда в розовых тонах – по-другому не получалось; потом на балкон залетели два голубя и, воркуя, стали ходить по перилам.
– Гули, гули, – позвала она и раскрошила печенье на пол.
Он верил только самому себе. Пусть она думает о них все что угодно: отношения с Саскией ему давно безразличны настолько, насколько они могут быть безразличными с женщиной, с которой ты живешь в одной квартире и с годами приобретаешь привычку держать почти любые удары. Какой бы ни была Саския, он не хотел ее обсуждать даже с Королевой. А все, что касалось Ганы, временами казалось, не имеет значения, не только потому, что он не хотел думать об этом, а потому, что почти научился не думать, хотя и всегда помнил, и еще потому, что знал – если начать думать, то из этого не будет никакого выхода, мыслимого выхода, и выбираться придется так долго, что лучше не начинать даже во имя первой жены.
– Все, все, все… – миролюбиво сказала она, по-прежнему владея своим лицом и отряхивая руки. И сочувственно повернулась на его молчаливый кивок. Один голубь клюнул второго в хохол на затылке.
Она всегда чуть-чуть покровительствовала ему (и каждому из мужчин, скрыто не любя женщин), быть может, оттого, что всегда была сильнее, потому что научилась быть сильнее и теперь умела то, что умел далеко не каждый из них. Впрочем, она так же хорошо умела затыкать и рты, например, развернуть и при всех поцеловать в губы – при ее росте и силе ничего не стоило.
Полгода назад у нее пропал красивый пушистый кот, и однажды в поисках закуски Иванов обнаружил его в морозильнике в позе сфинкса. Бедный котик. Это и оказалось ее сентиментальностью и единственной слабостью.
– Я никогда не принимал ее… именно принимал, а не понимал, – признался он с напускной беспечностью вслед ее протесту.
Он хотел добавить, что не принимал и развратности Саскии. Но когда все вокруг рушится, стоит ли обращать внимание. Когда энтропия коснулась и общества… Просто есть женщины, для которых мужчины значат больше, чем все остальное. Теперь он не против. Теперь он привык – если можно привыкнуть. Вот это было для него хоть какое-то объяснение. Но это объяснение было чисто умозрительным, когда ты сидишь и спокойно рассуждаешь и тебя не заносит в выражениях. В последнем его романе она была выписана просто монстром во всех ее поворотах души. Может быть, Королева ее ненавидела потому, что могла занять, но не заняла ее места.
– Все вы какие-то жестокие. – Полные губы Королевы даже не покривились, и глаза смотрели по-прежнему твердо и внимательно. – А потом спохватываетесь, но как всегда не успеваете даже извиниться.
Если бы она подозревала, что кроме податливого Губаря есть и другие мужчины, то не выносила бы скоропалительного приговора.
– Прости… – произнес он терпеливо.
Вот это она умела делать – каждый раз принимать его так, словно он в чем-то виноват. Влюбчивость? Вряд ли она, не понаслышке, сама знала, что это такое. Если бы он хоть на день смог пробудить ее в ней. Но сейчас, глядя на нее, он не мог себе этого представить. Он не мог себе этого представить и тогда, когда у нее были сухие мосластые руки и разворот плеч, как у мужчины, – девчонки, – правофланговой в школе с восьмого и вообще задавалы, девчонки, которая только всерьез начинала танцевать, и они вдвоем с Ганой ходили на ее репетиции, девчонки, которая вопреки ожиданию, вдруг сделала карьеру чиновника по культуре. Однажды она сказала ему (он приехал в одну из годовщин смерти Ганы и был принят в сверкающем кабинете): «Настало время выбирать…» И в ответ на его немое удивление: «Теперь я босс от TV…», давая понять, что тема исчерпана. И он ее не понял, наверное, потому, что сам тяготился своим положением. Потом ты долго отучаешься от армейской болячки, когда все «мы», а не «я», когда все скопом, а не порознь, когда все за и никто не против. Он предпочел помнить ее такой, какой она была до всего этого. Хорошее было время – всегда кто-то из числа общих приятелей таскался в ее клуб. Вились поклонники. Крупная, высокая Королева и стройная, гибкая Гана с такими точеными бедрами, что у него самого глаза так и пялились на них. Но, как ни странно, Гану балет не привлекал. Однажды она ему сказала: «Мне нравится запах. Просто запах. Больше ничего… Топот ног смущает…» Может быть, она чувствовала, что из всего этого может выйти – как вышло с Королевой. Столько лет – не мог ее представить другой, потому что теперь у нее были красивые руки властной крупной женщины, потому что они ни разу не спали вместе, потому что она была подругой первой жены, и бог весть сколько воды утекло, а теперь – потому, что она стала тем, кем стала, думала и говорила все, что хотела, с такими, как он, и потому, что их всегда разделяла нелепая смерть Ганы и все, что сопутствовало ей сейчас и всю жизнь. Даже если бы он и узнал от нее что-то определенное, разве это имело бы смысл? «Спросить или не спросить?» – как всегда неопределенно решал он. Он всегда думал, что она что-то знает, и из-за этого несколько лет избегал встреч, даже в те редкие отпуска, когда приезжал домой и первым делом шел на кладбище, даже когда всерьез занялся литературой и у него что-то стало получаться, даже когда появилась Саския и он решил, что все забыл. Одно время он хорошо умел забывать, не хуже своих собственных героев. Пока ты счастлив, тебе многое удается.
– С тех пор, как я бросила сцену… – заговорила вдруг она бесстрастно и таким низким тоном, словно у нее перехватило горло, и на какой-то момент перестала быть Королевой, – голуби насторожились, а Иванов от удивления даже забыл, что держит в руке чашку с чаем, – мне все время снится… – она безжалостно к самой себе улыбнулась одними уголками рта, и взгляд ее сделался отсутствующим, словно она что-то вспомнила, или представила, или увидела за спиной у него тайну своего существования, – будто я лечу и лечу… едва касаясь… – Она почти в ужасе покачала головой, рот приоткрылся, и оттуда вылетел вздох. – Господи… время! Как тебе не жалко?! – Она взглянула в упор, и он потупился, потому что в ней жила боль. – Иногда я просыпаюсь. Ты ведь знаешь, как это бывает – словно все вернулось и ты прежняя, но не та, и в то же время с опытом лет, а тебе страстно хочется, и ты не можешь пересилить, и вот здесь все уже пусто, а тебе кажется, что другого счастья быть не может и не бывает, но наступает утро, и ты чувствуешь себя скверно, опять с удивлением дышишь, и ешь, и идешь куда-то, и делаешь сотни дел, вот что страшно – привычка, и знаешь – ничего нового в жизни не будет.
Она почти задохнулась, и взгляд ее оцепенел.
«Вот это да! – подумал он. – Вот это прорвало!» – И посмотрел вниз, на брусчатку двора, где не было места даже для детской песочницы, а только ровное, широкое кольцо брусчатки вокруг гладкого пятнистого ствола, которому они когда-то с Сашкой Губарем доверяли имена своих девочек: «Вета + …» Кто первый из них выцарапал свое имя? И он удержался, чтобы не спуститься вниз и не поискать надпись на гладком пятнистом стволе. И конечно бы, ничего не нашел, потому что платан давно стал выше и массивнее.
– Я знаю, от этого нет лекарства, – через минуту произнесла она, и он облегченно вздохнул: щеки ее порозовели, и глаза приняли прежнее выражение, и в них уже не было жалости к самой себе, и она стала прежней Королевой.
– Многие проходят через это, – сказал он. – И вряд ли есть какие-то советы, кроме хорошей, доброй литературы, но это тоже не всегда помогает.
«Конечно, не помогает, – уныло подумал он, – потому что за прекрасной литературой всегда стоит человек, которого уже нет, а от такого мироустройства всегда шарахнуться хочется».
– Нет, я не верю, – произнесла она, не слушая его, – мне трудно согласиться, что все, все кончилось!
Иванов подумал, что она опять права, что она всегда боролась то сама с собой, то за свои кресла и программы, и что это их первое ясное объяснение, и ему вовсе стало тошно.
Когда она входила в театр, половина мужчин в радиусе добрых ста метров лишались речи, а остальные сожалели, что женаты. И каждый из них воображал, что только он один способен осчастливить ее. Холодность принимали за многозначительность, а недоступность – за ум. Последнее, наверное, не было ей чуждо, и она иногда ловко щелкала какого-нибудь режиссера по носу, и выглядело это так, словно он проглатывал обмылок. Некоторых это злило, некоторые становились ее друзьями, но никто не оставался равнодушным. Впрочем, самому Иванову удалось избежать подобного теста, потому что он претендовал лишь на роль наблюдателя. Уже тогда у него появилась эта привычка, и он хорошо помнил, как Гана сказала: «Из этой шклявой что-то выйдет, уж очень она лошадиная… и ноги метра по полтора». Возможно, она сказала что-то похожее, но Иванов запомнил именно так, и именно это бросалось в глаза – соразмерная с ростом и плечами крупность. Даже если бы у нее был десяток мужчин, она вряд ли бы изменилась, ибо в ней неотлучно сидел образ ее изболевшейся матери, которая прожила в одиночестве всю жизнь, и в этой жизни мужчины выглядели не с лучшей стороны, так что у Королевы был опыт с самого детства. Худая натуральная блондинка, вынужденная контрастно краситься из-за сцены, с зелеными светлыми глазами, меняющимися в зависимости от времени суток, теперь она представляла сплав красоты и зрелости, но все равно ей всегда чего-то не хватало, словно она не знала простого и доступного правила: все, что касается любви, требует хоть какого-нибудь усилия. Впрочем, насчет любви и обожания ей всегда везло. В конце концов она бросила сцену из-за того, что на ней надо было принадлежать мужчинам. А это ей не нравилось. Она знала, что поклоняться должны только ей.
Сцена не испортила ее характер – портить было нечего, и в жизни Губарю явно подфартило, но едва ли он об этом догадывался. Его чуб по-прежнему воинственно торчал при виде новой юбки у него в студии, пока он не привыкал или пока ему не уступали. Чаще ему нравились женщины противоположного, нервного, типа, о которых можно было зажигать спички. Из-за этого однажды они едва не развелись, но о его изменах Иванов узнал много позднее, когда она уже не танцевала, а занялась телевидением и политикой.
– Между нами всегда кто-то был, – сказала она, вздохнув, печально и красиво поворачивая свое крупное, сильное лицо под нависающим чубом светлых волос, – вначале женщины, а теперь принципы, вернее, полное их отсутствие, – и, конечно, не добавила: «в тебе…», хотя это было ее обычной шпилькой, которой она теперь пользовалась не только дома с Губарем, но и на различных совещаниях, если оппонент был, разумеется, ниже рангом.
Иванов вспомнил, что когда-то это лицо украшало первые страницы журналов мод и центральной прессы. «Мисс Москва’ 85!» Зенит славы. Но от первого столичного испуга она так и не оправилась, и в глазах у нее застыл вечный вопрос: «Как я здесь очутилась?» Слишком часто надо было пресмыкаться на новом месте. Губарь сделал единственно правильный вывод: поехал, привез ее, и они поженились.
– Твой мальчик одно время сильно меня интересовал. – Она переменила тему. – Очень умный мальчик и очень рассудительный.
– Вот как?.. – спросил он, размешивая сахар в стакане.
Он не думал об этом. Умный-неумный, какая разница? Он даже не знал, что Дима вхож к Королеве.
Они сидели на «третьей палубе», как любила говорить Королева, во внутреннем дворике, под крышей ворковали голуби, и тень платана падала на окна ее квартиры, обставленной в стиле «деревенской простоты». Иногда порывом ветра сюда заносило прохладу реки.
– Не слишком шикарен, – призналась она, – но… но… в нем что-то есть. – И повторила знакомый жест, но теперь он символизировал бодрость и волю, и уложила ладони поверх колен. – По рукам женщины стараешься догадаться о теле – в подол длиннополого платья, и кольца блеснули, отразив солнце.
– Похож на тебя, только ты на него давишь. Ты уж извини, что я так грубо, но хотелось тебя предупредить… Пожалуй, для него можно что-нибудь сделать – открыть галерею, что ли…
С тех пор как она вынуждена была больше времени проводить здесь, на балконе, в Думе и на телевидении, она всегда носила длинные платья. Она быстро научилась носить их, и вначале Иванов никак не мог привыкнуть к этому.
– Он знает… – произнесла она дальше так, словно доверила тайну ветру и всему окружающему пространству.
Иванов даже не удивился. Разговор, начатый ею самой, не мог закончиться ничем иным – она не любила излияния, но зато любила вмешиваться в чужие дела.
– Почему? – спросил он, хотя, конечно, можно было и так догадаться, потому что ты с ней ведешь себя или как дурак, или как кастрат, а потом пытаешься соорудить внутри себя некую конструкцию под названием «благородный друг».
– Потому что Гана его мать, – коротко и многозначительно сказала она.
– Ах вот в чем дело! – воскликнул. – Потому что…
– Да, – ответила она. – Мальчик имеет право знать…
– Идиотство! – вырвалось у него.
Он не любил, когда его обводили вокруг пальца. Если бы она понимала, что его сын не такой уж наивный. Из десяти его знакомых каждую вторую он затаскивал в свою берлогу с мастерской под крышей. Как он с ними распутывался? Невроз? Как там по Фрейду? Это, должно быть, сильно отвлекало от работы. Если ты хочешь чего-то добиться, надо чем-то жертвовать, и женщинами в том числе.
– Потому что она и мертвая тебя мучает, – сказала она жестко, – а я не хочу, чтобы и его мучила тоже.
Ему бы ее выдержку, потому что внутри он завязан множеством узлов, и с каждым днем их все больше.
– Ну и что, – запротестовал он, – все наоборот…
Он не мог ей до конца противостоять. Это было правдой. Кого из них обоих он больше жалел, наверное, – ее, потому что прощал быстрее.
– К черту! – выругалась она. – Знать ничего не желаю!
– Зачем? – спросил он сразу. – Зачем ты меня загоняешь в угол?
– Тебя загонишь, – посетовала она, устремляя на него светлый, почти до неприличия светлый взгляд. – Нет, дорогой, ты сам себя загнал, а теперь хочешь узнать, почему ты там оказался. – И не пожелала уступать, наверное, потому, что она давно этому научилась, еще раньше, чем Губарь сообразил что к чему.
– Похоже на то, – нехотя кивнул он, соглашаясь с ней и со своими мыслями.
– Разве ты меньше будешь ее любить. Я знала, что ты когда-нибудь ее забудешь.
– Нет, – сказал он, защищаясь.
– Забудешь, – спокойно констатировала она, – а за утешением прибежишь сюда.
– Забуду… – согласился он. – Но не так, как ты…
Слабый аргумент, на который она даже не обратила внимание.
– Ты из этой породы, – перебила она его и еще раз повторила, но так, что ему стало не по себе: – Забудешь!
Она его упрекала. Она хотела, чтобы Гана стала для него памятником, но ничего для этого сама не сделала и мешала сделать ему.
– …но не так, как ты себе представляешь, – возразил он, не повторяя и десятой доли ее хриплой интонации.
Он подумал, что делал это множество раз. И каждый раз это было не в его пользу, не очень приятно вызывать жалость к самому себе во всех тех бесчисленных сценах, где он присутствовал поверженной стороной. Когда топаешь в полярную ночь на службу, думаешь об этом так ежечасно, что рискуешь свихнуть мозги – просто тебе не о чем думать. И еще он подумал, что двадцать лет как раз тот срок, после которого забываешь любую женщину.
– Наверное, ты меня разубедишь, – резко сказал он.
– И не подумаю… – великодушно ответила она, вся в ожидании, чтобы уязвить, и лицо ее – крупное и полное внутренней силы, стало таким, каким оно становилось, когда она пряталась в школьном туалете в ожидании звонка на урок, и каким он его никогда не любил.
– Вот я и хочу узнать, – произнес он, сердясь на себя и на ее вступление.
– Ну что?! – поинтересовалась она насмешливо, и нижняя часть лица от напряжения у нее сделалась изломанной, как замерзшая лужа. – Стало легче? Молчал столько лет…
– Я никогда не сомневался… – Как всегда ей удалось сбить его с толку своим сарказмом.
– Не было у нее никого, – сказала она, стремительно наклоняясь вперед, и посмотрела ему прямо в глаза, а потом по складам. – Не бы-ло. Даже легкого флирта, даже когда ты пропал на полтора года…
Она все помнила. Зачем? Чтобы самой быть с Губарем безошибочной, как машина, а секретарш посылать за сигаретами и спичками в ближайшее кафе, чтобы упиваться своим могуществом над маленькими людьми.
– Спасибо, – опомнился он через мгновение, потому что понял, что сейчас встанет и уйдет, и лицо напротив не будет напоминать о минутной слабости. Эти полтора года ему дорого обошлись, так дорого, что он до сих пор об этом помнил. И он подумал, что зря затеял разговор и вообще пришел сюда.
– Пожалуйста, – великодушно сообщила она, – а теперь убирайся! Не люблю слюнтяйства… в мужчинах.
– Жаль… – сказал он, поднимаясь.
– Нисколько! – отрезала она.
Она специально культивировала в себе толстокожесть – ведь с этим тоже можно жить. Позднее в школе к ней уже не приставали. Однажды он увидел ее в драке – она пользовалась своими ногами, как страус, а мальчишки вокруг нее напоминали кегли. Один из ее противников так и остался хромым на всю жизнь – она сломала ему бедро.
– Жаль, что мы всегда так расстаемся, – сказал он.
Может быть, она помнила то, что помнил и он. Последние годы он все больше испытывал странное, необъяснимое чувство к этой женщине, и знал – все, что она говорит, нельзя принимать всерьез, ибо они давно разошлись, еще, наверное, в школе, ибо она всегда была с ним немного чопорна. И он подумал, что она по-другому не может, не умеет, несмотря на то что актриса, великая актриса.
– Дверь захлопнешь сам, – сказала она, – провожать не буду.
Он стоял, обливаясь потом и сгорая от стыда, и понял, что все равно не то что не верит, а просто взбешен.
– Сиди… – разрешила, повернувшись так, что он увидел тяжелый профиль с мраморной кожей даже там, где прошлась кисточка с краской и где пудра не удержалась и пала на дно гнева, и малодушно упал в кресло. – Вот-вот… – произнесла она, – вот-вот сейчас придет, обидится, если не встретитесь… – вдруг прислушалась к шуму города, – я его за версту чую. – Лицо ее напряглось и сделалось таким, каким никогда не было с ним, каким оно все чаще становилось в присутствии мужа – удивленно-недоуменным (и совершенно ее не красило, словно она решала неразрешимую задачу), – как у подростка, которому впервые открылись запретные вещи.
– Я больше не приду, – сказал он.
Она усмехнулась:
– Прибежишь, как миленький…
Иванов нашел в себе силы протестующе хмыкнуть, и в этот момент хлопнула дверь, а через мгновение появился Губарь, как всегда элегантный: необычно стриженный – голый затылок, разделенный поперечной складкой, в белых брюках и шелковой рубахе с пальмами, помолодевший и веселый. Прислонил тросточку к перилам, сел и вытянул ноги в желтых фасонистых туфлях из свиной кожи.
– Мать… – весело произнес он, глядя на их растерянные лица, и подмигнул Иванову, – что у вас здесь произошло?
Он отреагировал слабо, как человек, у которого есть свое мнение по всем вопросам; и тонкие губы, вырисованные необычно изящно для мужчины, не испорченный страстями и вином подбородок, разделенный чуть ниже, чем надо, ямочкой, подпираемый вторым собратом, трепетные щечки, тронутые ранними морщинами – все это, наделенное веселыми серыми глазами с таящейся усмешкой, было так весело, так хорошо знакомо, что Иванов подумал о полной слепоте, своеобразном уродстве, врожденной близорукости. Он вспомнил, что почти все это наметилось в нем давным-давно, сразу после школы – безразличие к действительности, абулия.
Поклонник теории кентавризма, осенью Губарь побывал на охоте, выстрелил по бекасу из обоих стволов и вывихнул лодыжку. Теперь он щеголял рагонтовой тросточкой, хотя почти не хромал, и даже заявлял, что это помогает находить новые идеи.
– А… дуэль?! Здорово! – воскликнул он и хлопнул в ладоши.
Голуби вспорхнули вверх, за карниз, и глазам, пока они все трое провожали их взглядом, на мгновение стало больно следить за ними, ибо каждый из них знал, что все слова ложь и все мысли ничего не значат перед этим небом – его простором и взмахом голубиных крыльев, ибо в следующее мгновение им надо вернуться в эту комнату, к этим разговорам, к их образу жизни, к тому, что привносило в нее хоть какой-то смысл, – заниматься тем, чем занимаются взрослые люди, и быть похожими на них, словно давным-давно они сговорились, но забыли об этом и играли по привычке в какую-то странную игру – хитрая уловка, уловка номер двадцать два.
– Мы говорили о Диме, – спокойно произнесла Королева, словно напомнив самой себе.
– Да? – легкомысленно спросил он и посмотрел на Иванова, словно удивляясь его присутствию здесь. – На прошлой неделе мы его видели. – Потянулся через стол, словно через пустыню, всем телом и душевно похлопал Иванова по плечу.
– Бороду вырастил. Губа висит… Взгляд – остановиться не на чем… – укорила Королева.
– Н-н-н… – в адрес жены протянул Губарь и, добродушно играя губами, весело добавил: – У него новый папа. – И, сделав ударение на последнем слоге, выжидательно замолк.
Пальцы у него были длинные и сухие, как у пианиста. И от всей его элегантной породистости попахивало барством, пижонством, если бы не его чуть-чуть масляно-влажные глаза за стеклами очков, пренебрежение к собственным зубам и несколько сонный вид в те моменты, когда надо было сосредоточиться. Отсутствие конкурентов испортило его быстрее, чем можно было предположить. Пожатие руки давно стало для него чистым ритуалом. Но для местного Олимпа он был вполне подходящ – круглые улыбчивые лица всегда хорошо смотрятся на телеэкране – и даже стяжал славу первого мастера телешоу, пока это не стало вырождаться в заказ на потребу толстосумам и кичливым дуракам. «Долго ли это продлится?» – гадал Иванов.
– Папа? – удивился он. – Что это значит?
– Ну, ты же знаешь, он их коллекционирует, как девок, – сказала Королева и закатила глаза, словно при муже она всегда должна была так действовать – демонстрировать доисторические привычки. Последние несколько лет она явно была в растерянности от его выходок.
– А… – понял Иванов, – собирает… – Вряд ли это удивило бы его и раньше.
– Савванарола… – объяснила она. – Тоже с бородой и усами, – и с усмешкой посмотрела на мужа.
– Никак не могу понять, – брезгливо признался Губарь, – чего они там?..
Летом он путешествовал по городу не меньше чем с двухлитровой бутылкой минеральной воды в обнимку.
– Не ревнуй, – сказала она. – Савва совсем не то, что ты думаешь, это не гей и не натурал, нечто среднее, пророк… – И, помедлив, засмеялась, наблюдая за его лицом, и Иванов подумал, что ее веселость, как хрупкость стекла. – Только все у него ходят в незаменимых друзьях. А это не его ли любимая фраза буквально для всех без стеснения? «Ах, я как раз о тебе думал, ты-то мне и нужен!» Меня тошнит от нее, особенно если то же самое он говорил тебе пять минут назад.
– Но-но, – стал защищаться Губарь. – Не усматриваю ничего смешного. – И обиженно дернул плечом. Из-за своей челюсти ему приходилось соизмерять скорость мысли и речи.
– Ладно, ладно, – произнесла она, – это не о тебе.
Но Иванов понял, что Губаря впервые купили на тщеславии.
– Он помешан на мистике, – весело пояснила она. – А Савванарола наконец-то открыл ему глаза. – Из горла у нее вырвалось несколько звуков, которые Иванов принял за смех.
Губарь жалобно наморщил лоб и понимающе подмигнул: «Не верь, не верь…»
– Такой папа нужен только кретинам, – заметила она, и кожа на гладком, чистом лбу натянулась, как под скальпелем, и он невольно подумал, что у нее там и крови-то, поди, нет.
– Моя последняя передача как раз затрагивает… – Он осторожно взглянул на жену и быстро закончил: – Ну, в общем, мне нужны образы и новые идеи…
– Раньше ты говорил «наша передача», – насмешливо заметила она. – Решил попробовать себя с молодежью, своего не хватает. – И постучала костяшками пальцев по лбу.
С тех пор, как ввели Закон о Семи Великих Запретных Словах[26], его возможности явно поубавились. Один раз из-за гурманного словечка, выскочившего по адресу одного из политических деятелей, Губарь был оштрафован, правда, чисто символически, однако телестудия выплачивала эту сумму достаточно долго, чтобы Губарь успел остыть и пораскинуть мозгами.
– При чем здесь это?! – запротестовал он.
Как и Иванов, он не умел защищаться перед женщинами, словно всегда давая им в споре фору, и из-за этого проигрывал, потому что не многие умели ценить великодушие.
– Если нет своего понятия, то откуда его взять, как не с помойки, – насмешливо добавила она.
Внизу, гулко прошлепав по камням, вбежали – мальчишки и девчонки:
– Веста Марковна, Веста Марковна!
Какая-то из них смутно напоминала ей ее саму в белом – через что тебе уже не перешагнуть? Он отвлекся от происходящего. Однажды ты просто обязан набраться мужества, чтобы разобраться во всем, а не малодушничать, как малодушничали Королева и Губарь.
– Да, дети мои, да! – Она стремительно приподнялась, сделала два шага к перилам, и ее пуританское платье упало до самых пят.
– Мы пишем с ней новый сценарий, – переходя на шепот, пояснил Губарь. – Хотим попробовать новую программу. А Дима… – он сделал суетливое движение – явно лишнее для друга, который знает тебя с детства. – Я заказал ему эскизы. – Он бросал на нее осторожные взгляды. – А этот господин, Савванарола, он просто находка, язык у него подвешен, дай бог каждому. Ты не знаешь? Правда, только в одной теме, но и этого достаточно… Очень модная тема… Хочу пригласить его на передачу.
Может быть, он хотел извиниться за Королеву и предупредить Иванова о том, что сын заблудился в самом себе, но у него есть шанс, и этот шанс ему предоставит именно Губарь, и не делал из этого слона, а просто предупреждал, что не так все плохо.
– Что-нибудь связанное с философствованием? – догадался Иванов. – Наверное, предсказывает конец света и хочет стать чьим-нибудь проводником в этой жизни?
– Да, – кивнул Губарь, и в глазах его мелькнуло смущение.
– Я рад, – признался Иванов и почувствовал себя немного уязвленным, хотя известие подобного рода о сыне не было для него новостью. В общем-то, он действительно был рад.
– Теперь мне нужен классный художник. Я как-то работал с одним из театра Рошель – невероятно! Пишет программы на двести прожекторов. Нам такого и не снилось. – И безмятежно улыбнулся в спину жене, словно легкомыслие было его ангелом-хранителем.
– Веста Марковна!..
Стояли, задрав белокурые головы:
– Киньте конфет!
Она захватила из вазочки пригоршню:
– Держите! – проследила, как упали конфеты, и неожиданно: – И ты бы мог жениться на мне, – сказала она, одарив коротким взглядом Губаря и опускаясь в кресло, – и у меня был бы такой белобрысый попрыгунчик, – поддразнила мужа.
Губарь набрал воздух, словно перед прыжком в воду, потом секунду молча смотрел на нее – казалось, воротничок рубашки стал ему тесен, а туфли на фасонистых полосатых каблуках немилосердно жмут, потом выдохнул и произнес:
– Я уже привык. – И глаза у него стали, как у загнанного волка. – Стоит тебе позвонить… и она сама не своя, наряжается, одевается… Я здесь просматривал фотографии – как в молодости…
Он оказался бесплоден, и она последние годы не жалела его. Иногда это проявлялось совершенно диким образом – она устраивала ему обструкции просто так: уйти он все равно никуда не мог, да, впрочем, и не хотел.
– Ах, как я умела демонстрировать модели, – сказала она болезненно и на секунду замолчала. (Иванов понял – ей совершенно не до мужа.) – До сих пор помню один красный жакет с серебристой отделкой из коллекции Армани.
– Это еще до того… – пояснил Губарь, он чуть не сказал: «До того, как я ее подобрал в Москве». Он вполне так мог сказать, потому что вел такую жизнь, какая ему нравилась, словно наверстывал упущенное, а на Королеву ему порой было наплевать и на то, что о нем подумают, тоже.
– Да, – сказал Иванов и вспомнил, что когда он вернулся в город, у него как раз появилась Саския, и он предпочел ее и, наверное, правильно сделал, потому что умные, волевые женщины не столько страшили его, сколько раздражали, и он ничего не мог поделать с собой. А теперь оказалось, что они с Королевой научились разговаривать не только об одном мироздании.
Конечно, Губарь женился из-за ее ног. Ноги стоили этого. Длинные и гладкие, Иванову они всегда напоминали лощеных тюленей. И кожа у нее тоже была на одну женщину из ста тысяч: выхоленная и упругая, без всяких вен и жилочек, чуть матовая, что, конечно, было удивительно для блондинки. Единственное, что у нее отсутствовало, – это умение подчиняться, но выяснилось это позднее. В общем, Губарь, как только увидал ее после конкурса «Мисс Москва», сразу потерял способность соображать. У него даже появилась манера оттопыривать губу и сосредоточенно что-то разглядывать у себя на кончике носа, потому что Королева не обращала на него внимания, и он продержался ровно три недели, пока не предпринял штурм. Она танцевала у него в кордебалете, и не было режиссера, который бы не подъезжал к ней после первой же репетиции, потому что работала она в трико, а ноги у нее были настолько шикарные, что у каждого из них текли слюнки, и ни о чем другом они и думать не могли; но и вылетала она с работы часто, пока с удивлением не поняла, что карьеру нельзя сделать на одном умении, каким бы это умение ни было первоклассным. Но этому предшествовали цепь разочарований и несколько лет безработицы с перерывами, которые, пожалуй, и надломили ее и заставили охладеть к танцам. Но даже когда она танцевала «от Бога», заставить ее что-то сделать в промежутках между вдохновениями было почти невозможно. Она принадлежала к той породе людей, которые не склонны были идти на компромиссы, и профессионалом она не стала. В глазах Губаря это была ненормальность, и он всячески исправлял ее, что, в общем-то, ни к чему не привело, потому что Королева сразу почувствовала над ним власть, а там, где есть власть, логика отсутствует.
Теперь они помельчали – писали нечто несовместимое: программные речи для местных деятелей и кандидатов, которые были обременены филантропическими идеями мирового порядка, сценарии программ, и иногда – статьи в местную прессу.
– Если бы я начала раньше, я бы не сидела здесь.
Теперь она сидела выше. Из кресла в кресло. Член десятка комиссий и обладатель не меньшего числа должностей, обязывающих и призывающих, вещающие и указующие – нескуднеющее право руководить. И Губарь, наконец, почувствовал, что такое деньги. С девяносто третьего он вдруг стал поговаривать о переезде в Финляндию, потому что оказался ингермаланцем и решил воссоединиться с родиной.
– Он меня замучил, – жаловалась Королева. – Что я буду там делать?
Времена, когда санкюлоты меняют бабушкину метрику, чтобы только жить на Брайтон-Бич.
Губарь исчез, с грустным видом подмигнув на ходу Иванову.
– Ты на чьей стороне? – спросила Королева, когда шаги Губаря стихли в комнатах.
Власть над вещью – когда ты запускаешь руку в чужой карман или выигрываешь в лотерею матрешку – мораль не играет роли, а лишь механистичность, свойство глядеть на нее как на собственность – вот что всему корень, и неважно, понимаешь ты это или нет, в любом случае ты не проигрываешь – так устроен мир.
– Я ни на чьей стороне, – признался Иванов. – Я сам по себе. Плыву по течению.
Она покачала головой и вздохнула. Немногое, что она безболезненно могла сделать для него и для себя. Не могла справиться со своими стереотипами, ей всегда нужно было белое и черное, но это не делало ее хуже или лучше. Она была такой, какой была, с надменностью африканской львицы, только не с желанием нравиться.
– Стареешь, – безжалостно констатировала она.
– Да, – согласился он, – где-то здесь, – постучал себя по груди и подумал, что человек представляет из себя не то, как он трезво себя оценивает, а состояние духа.
Ему не стоило играть с нею, для этого она была слишком умна, но и откровенничать он больше не собирался. А только подумал: «Вот нам за все грехи…»
Она подняла на него спокойный взгляд, и в глазах у нее появилось выражение той девчонки, которая опиралась рукой на станок в третьей позиции и, безжалостно и горделиво задирая острый подбородок прямо в зеркало, даже когда изнуряла себя до изнеможения экзерсисами, даже когда была совсем на мели, но вынуждена была улыбаться, даже когда выходила из комнаты с явно заплаканными глазами, – всегда держала себя в узде, ибо кому нужна жалкая овечка. Танцевать она обожала. Но ей надо было родиться не в этой стране и не смотреть теперь на него так, словно рушилось мироздание.
«Она никогда не примирится», – понял Иванов.
Но она вдруг произнесла:
– С некоторых пор я поняла, что только власть имеет ценность! – и посмотрела Иванову в глаза. – Ты понимаешь меня?
– Да… – произнес он удивленно, – понимаю. Но зачем? Зачем это тебе, когда ты красива и талантлива, как не знаю кто, зачем?
– Ты ничего не понимаешь… – задумчиво произнесла она, – ничего…
– Что же я должен понять? – удивился он.
– Наступает момент, – она ожила, словно мысли, которые она в себе носила, придали ей новые силы, – когда ты понимаешь, что мир другой, не такой, каким ты его представляешь, и что твой талант никому не нужен. Вот тогда ты начинаешь думать, что пока ты недовольна жизнью, она проходит бесследно.
– Да, – сказал Иванов, – это я могу понять, но ведь это неправильно…
– Всем на это наплевать, – произнесла она так, что ему не понравилось. – Разве не так?
Долгое время она несла превосходство, как плакат, на котором значилась одна и та же фраза: «Я так одинока…» или «Не судите обо мне строго…», но оказалось, что туда можно было добавить еще кое-что, например «Я вас презираю!»
– Я всегда жила по принципу: говори правду, и низкие люди будут избегать тебя… – призналась Королева, ожидая от него неизвестно чего, и он приготовился услышать продолжение, но тут появился Губарь, водрузив на стол початую бутыль белого вина, и они замолчали. Губарь взял холодную котлету и настроился на философский ряд:
– Я тебя предупредил? Предупредил! – Загадочно посмотрел на Королеву, словно собираясь выдать тайну. – Последнее время с Димой что-то не то…
– Не пугай его, – быстро произнесла Королева, словно защищая Иванова, словно они с ним сговорились.
– Я и не пугаю, – сразу согласился Губарь. – Но ты ведь знаешь… – И опять жалобно посмотрел на нее.
– Ну ладно, – вздохнула она и, отворачиваясь, встала. – Вымою посуду…
– Я не буду, все… – дурашливо пообещал Губарь и поднял перед собой ладони, – честное слово…
Когда-то по обеим сторонам его старенькой «Волги» красовались два изречения: «Одинокий странник» и «Не рвите мне сердце!» Впрочем, после женитьбы на Королеве его сентиментальность приобрела иную окраску, и если бы и теперь он был склонен к излияниям души, с бортов его машины кричали бы следующие изречения: «Ах, оставьте меня в покое!» или «Не говорите ни о чем…» Многозначительность стала его томлением. Возможно, он даже страдал от этого, но не хотел никому признаваться, даже себе.
– Учти, завтра в шесть у тебя съемки, – жестко уточнила она.
– Разрешения все равно еще нет, – сказал он и засмеялся так, что зубы у него сверкнули фарфором.
– Вот я и говорю, – уронила она, – вечное балдушество… Но снимать надо!
– Я непременно привезу тебе цветы.
– Лучше сам приезжай…
Теперь она уставала от разговоров гораздо быстрее, и Иванов пожалел, что пришел.
– Она не умеет притворяться, – сказал Губарь, когда Королева ушла и затворила дверь на веранду. – Но ты знаешь ее. Как она не может без подковырок, так я не могу без студии, но театр… театр это театр.
Иванов вспомнил: «игра под ручку». Губарь был поклонником школы Станиславского, но последнее время развлекался тем, что спасал своих разведенных подружек от бывших мужей. Возможно, для этого он и нужен был им.
Губарь выцедил стакан вина, и ему сразу же полегчало. Об Иванове он забыл на секунду. Потом угнездился в кресле поудобнее, чтобы оседлать своего любимого конька:
– Тебе никто никогда не объяснял, что ты круглый ноль?
Обычно он пьянел от двух рюмок водки из-за перенесенной в юности желтухи.
– Я только что получил это удовольствие, – сказал Иванов.
– Так вот… – и он молча потыкал пальцем в прикрытую дверь, – ничего не могу доказать… всю жизнь бьюсь…
– Все ты можешь, – возразил Иванов, – только не хочешь.
– Кризис, – тут же согласился Губарь, опорожняя следующий стакан и упиваясь своим горем, – в семье и на работе…
Он умел это делать: красиво и театрально – страдать так, что окружающие невольно становились его собутыльниками, но женщины поддавались чаще, чем он успевал понять их намерения. Пару раз Иванов оказывался свидетелем скандалов – громких – на телевидении или тихих – в семье, и у него пропадала всякая охота расширять круг знакомств из окружения Губаря.
– Давай выпьем, чтобы больше ничего не было, – сказал Губарь. – Она ведь презирает. Думаешь, для чего? Чтобы лучше работал? Нет! Чтобы я ходил по струнке. На самом деле я раб, ученый кот. Умные мысли приходят исключительно в туалете, да и то по ночам, когда она спит. Так и сдохнешь ненароком полным дураком.
Он всегда жалел только себя, но был щедр с друзьями и собутыльниками.
– Считается, что когда женщина выкладывается, то попросить ее о чем-либо по-латыни невозможно?
– Перестань, – сказал Иванов.
Сашка умел говорить парадоксами, но через тридцать лет ты воспринимаешь это как кривлянье, ибо ты хорошо знаешь своего друга.
– Я тебе противен? – спросил Губарь и достал из кармана платок, выпачканный губной помадой. – Самому себе тоже…
– Утром не встанешь, – сказал Иванов.
– Оставь, – сказал Губарь. – Она еще может танцевать. Ее еще можно уговорить. А я могу иметь собственный театр.
– Я тебе завтра в постель принесу пива, – сказал Иванов, – и ты очнешься. Театр в нашей провинции подождет…
Губарь вскочил и забегал – от перил к перилам, бормоча: «Откуда ты знаешь?! Откуда ты знаешь…» Под крышей ворковали голуби. Вдруг он остановился:
– Она стала доверенным лицом Первого национального банка клерикан и даже получает там деньги на предвыборную агитацию.
– Зачем это? – спросил Иванов.
– Она сильно изменилась за последнее время, – сказал Губарь, – очень сильно… Стала безжалостной… Но она знает… – сказал он задумчиво, – знает, чего хочет, а я не знаю… – Он посмотрел на Иванова, словно ища совета.
– Ты мне не нравишься, – признался Иванов.
– Вот то-то и оно… – согласился Губарь. – Если увидел позу голодной собаки – беги… – он уставился вниз.
– Осторожней… – предупредил Иванов. – У вас слишком скользкая плитка на полу…
– Я выдохся! Все! Никаких идей! Одни воспоминания!
– Тебе надо проспаться, – сказал Иванов.
– Иногда висельнику не помогает даже веревка! – воскликнул Губарь в отчаянии.
– Но, но, но… – сказал Иванов – без патетики…
– Не рассуждай так, словно ты один знаешь, что делать! – Он отрешенно взглянул на него, вдруг резко повернулся и скрылся в комнате.
Иванов подождал. Не зная почему, открыл блокнот, который Королева оставила на балконе, и прочитал сформулированное спокойно, как на исповеди: «Шесть главных ошибок в жизни: первая из них – замужество и несостоявшийся развод…» Поспешно закрыл блокнот, – словно подсмотрел чужую тайну, и оторопело уставился на дерево. Стая голубей слетела вниз, сделала круг над двором. Дрался один – рыжий, с култышкой вместо лапки.
Потом Иванов поднялся и вошел в коридор.
В зеркале наискосок увидел: Губарь, напоминая неуклюжего краба, карабкался на диван к коленям Королевы. Один раз потерял равновесие и ткнулся головой в пол. Бритый затылок походил на задник сапога, и Иванов подумал, что Королева и он давно несчастливы. Она спокойно и равнодушно подняла взгляд поверх этого затылка, поверх обстоятельств, поверх своей судьбы, покачала головой: «Уйди!», и он все понял, осторожно повернулся на цыпочках, вышел и тихонечко затворил за собой дверь квартиры. Три этажа вниз он сбежал через ступеньку и только за воротами дома свободно вздохнул: дом и двор вдруг стали для него чужими.
***
– Сашка, – спросил он, – пиво будешь?
Не поднимая головы и не отрываясь от подушки, со странным выражением на лице он протянул руку над взлохмаченной головой, и Иванов вложил в нее бокал.
– Бу-бу-бу… – пробурчал Губарь.
– Что ты сказал? – обернулся Иванов.
Ему пришлось подождать, пока в бокале не останется содержимого. Потом Сашка вместе с облегченным вздохом произнес:
– От гордости одни неприятности… Сегодня я Брюс Уиллис! Я восстанавливаю дух.
– Поздравляю, – насмешливо заметил Иванов.
– Ты находишь это глупым? – тут же спросил Губарь. Он уже влил в себя порцию и требовал следующую.
– Нет, отчего же… Меня самого ежедневно тычут мордой в грязь. Это называется воспитанием.
Он уже пережил тот период в жизни, когда по непонятной причине сменил почти всех своих друзей. Но Губарь остался, и это, пожалуй, было настоящим.
– Ты не можешь нас сравнивать. Это нечестно. – Он явно был настроен продолжать вчерашний разговор.
– Еще бы, – ответил Иванов, – кто тебе по утрам приносит пиво?..
– Бу-бу-бу… – произнес Губарь и допил вторую бутылку.
Это могло повторяться бесконечно долго – печень у него была еще вполне здоровая, а сердце – как у быка, но однажды это должно было прекратиться, ибо друзья детства рано или поздно должны забыться, перейти в разряд людей, на которых не стоит делать ставку или просто сосредоточивать внимание. Они, как бегуны на длинные дистанции, – рано или поздно выдыхаются. Единственно важно, чтобы ты сам не упал прежде времени.
