Безмерная любовь к Малеку, его судьбе и человечеству
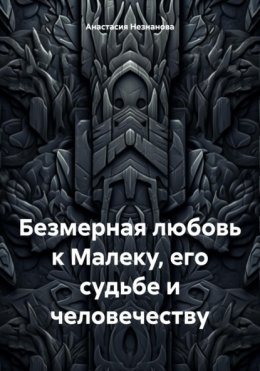
Роман про РСА. Безмерная любовь к Малеку, его судьбе и человечеству
Автор: Незнанова Анастасия
Пролог: Начало пути
Мальчик сидел на корточках, наблюдая за шмелём, которого он поймал ещё днём. Здесь, во дворе родительского дома, среди высокой травы и пахнущей сыростью земли, он был предоставлен сам себе. Он вытянул руку, на которой сидело это существо – маленькое, гудящее, живое. Шмель вибрировал в его ладони, тщетно пытаясь вырваться. Мальчик слышал этот звук. Он не испытывал ни радости, ни отвращения, ни страха. Он просто хотел посмотреть, что будет, если лишить его самого важного.Шмель ещё живой, ещё жужжащий, он извивался, пытаясь вырваться, но его крепко держали. Взгляд мальчика был пустым – не злобным, не жестоким, не жестоким в том смысле, в каком взрослые видели бы это. Скорее, отстранённым. Как если бы он просто наблюдал.
Осторожным движением он вытянул крыло шмеля между подушечками пальцев и оторвал. Шмель замер на мгновение, словно не понимая, что произошло, а потом дёрнулся, зашевелился быстрее, сильнее, попытался расправить оставшееся крыло.
Теперь насекомое лишь ползало, слабо перебирая лапками. Больше не могло лететь. Больше не могло быть шмелём. Только жалким, ползающим существом. Мальчик долго наблюдал. Его пальцы коснулись второго крыла – мягко, нежно. Он медленно потянул за него, ощущая, как тонкие прожилки сопротивляются, но в конце концов поддаются. Шмель теперь был полностью сломан.
Когда мальчик бросил его на землю, шмель не умер сразу. Он полз, судорожно пытаясь взлететь, толкаясь лапками о жёсткую траву. Первые секунды – это было интересно. Он ожидал эмоций. Но, глядя, как бывшее летающее создание теперь жалко извивается в траве, будто раненный зверёк, он понял —
Он не чувствует ничего.
В ту ночь он не мог уснуть. Мальчик лежал в кровати, глядя в потолок, прислушиваясь к тяжёлому дыханию родителей за стеной. Дождь прошёл час назад, на подоконнике остались капли, их блеск отражался в лунном свете.
Он поднялся, не включая свет, прошёл босиком по полу – его шаги бесшумны, как у зверя, который не хочет, чтобы его заметили. Он знал, что есть вещи, которые можно делать только ночью. Он открыл дверь в родительскую спальню, замер в проёме. Мать спала, отвернувшись, её волосы рассыпались по подушке. Отец покачивался во сне, сопел, тяжело ворочался. Они не заметили бы его, даже если бы он стоял здесь до рассвета. Он не знал, почему это его раздражает. Мальчик медленно закрыл дверь, затем развернулся и пошёл в гостиную.
Мальчик стоял в гостиной, прислушиваясь к тику часов, которые единственные несли жизнь в этот застывший момент. Тьма мягко лежала на мебели, скрывая углы, создавая странные, ломающиеся формы теней. Всё было спокойно. Именно это его раздражало. Он прошёл в гостиную, подойдя к тяжёлым шторам, которые почти не пропускали свет уличных фонарей.Он снова ждал чего-то. Он провёл пальцами по занавеске. Материя была лёгкой, воздушной. Как крылья шмеля.
Огонёк зажигалки вспыхнул в его ладони, он гипнотизировал его.
„Ты сделаешь это?“ – шептал кто-то внутри него.
Огонь коснулся ткани. Сперва ничего не произошло, только маленький, слабый след гари. Но затем огонь ухватился за край, как голодное существо, и начал пожирать его. Мальчик смотрел, как пламя расползается, как мягкая ткань превращается в чёрные обугленные полосы. Он сделал шаг назад, позволяя огню расти. В груди пустота не заполнялась.
Огонь рос, дышал, тянулся вверх, и вместе с ним тянулся жар, липкий, удушающий. Воздух стал густым. Мальчик чувствовал, как тепло касается его кожи – сперва мягко, как дыхание, потом сильнее, неприятно, обволакивая пальцы. Он не отдёрнул руку. Он ждал, когда боль станет ощутимой. Но она не приходила. Только лёгкое покалывание, как от горячей воды, когда долго держишь руки под ней. Его тело ощущало огонь, но внутри – ничего.
Ткань начала плавиться, тёмные пятна расцветали, как гнилые цветы. Огонь шёл медленно, словно пробовал дом на вкус. Сквозь дым он смотрел в зеркало. Его собственное отражение не выражало ничего. Глаза, пустые, как у золотой рыбки, смотрели на него.
Голос внутри него замолчал. Как и всегда, когда происходило что-то по-настоящему важное. Ждать стало скучно. Он повернулся и ушёл.
Когда крики соседей сверху разбудили дом, он стоял в дверях своей комнаты, наблюдая. Отец бросился к окну, сбивая горящую ткань. Мать кричала, хлопая выключателями. Дом просыпался, паника заполняла стены. Но внутри он не чувствовал ничего.
Не было ни адреналина, ни страха, ни эйфории.
Когда мать подбежала к нему, схватив его за плечи, её глаза были полны ужаса.
– Ты видел? Ты слышал?
Он видел. Он слышал. Но только пустота смотрела из его глаз.
Мальчик моргнул, впервые за вечер. Он встретил взгляд отца, но не увидел в нём ничего интересного.
Они просто не понимают.
Они боятся того, что не могут контролировать.
Родители и соседи успели потушить пожар до приезда пожарных. Приехало столько машин, будто горел ТЦ, хотя комната осталась почти цела. Родители отвезли его к бабушке на соседнюю улицу. Он ничего не сказал. Просто ждал, когда это закончится. Всю оставшуюся ночь он пытался что-то почувствовать. Он касался своего лица, искал панику, сожаление, вину. Но ничего не было. Как пустая комната, в которой никто не жил. И только одна мысль мелькнула в голове —
А вдруг люди на самом деле не живые?
А вдруг этот мир уже давно умер, а я просто один из тех, кто ещё не понял этого?
Но если это так… тогда зачем мне всё это?
Утром его мать сидела на краю кровати, дрожа и прижимая руки к лицу. Отец стоял рядом, опираясь на косяк, смотрел на него долгим, пристальным взглядом.
– Что с тобой не так? – наконец спросил он.
Мальчик не ответил сразу. Он просто смотрел в потолок, думая, что сказать. Наконец он повернулся к ним, слегка приподняв брови, и ответил:
– Ничего.
И он действительно так думал. В этом мире просто не было ничего, что стоило бы чувствовать.
***
Коридоры отделения полиции пахли бумагой, старым кофе и чем-то металлическим – то ли оружием, то ли чужими страхами, впитавшимися в стены. В этот день Малек не планировал задерживаться. Он пришёл по делу другого пациента, подписать документы, обсудить с детективом детали дела, но теперь его взгляд зацепился за нечто более любопытное.
Шум в углу. Толпа из восьми человек – соседей, стоящих у кабинета участкового. Они размахивали руками, говорили наперебой, голоса их были громкими, злыми, наполненными раздражением, почти ненавистью.
– Я вам говорю, он не нормальный! – бросила женщина в синем пальто, сжав кулаки. Её лицо покраснело, голос сорвался.
– Этот ребёнок опасен! Он не такой, как все!
– Да его вообще никто не воспитывает, что он хочет, то и делает! – её поддержал мужчина, тяжело дыша.
Женщина в очках, с тонкими губами, стоящая чуть сбоку, кивнула.
– Он как дикий зверёныш. Даже хуже. Дети хотя бы играют, смеются. А он только смотрит.
– И животные его боятся! – выкрикнул кто-то из толпы.
Малек слегка повернул голову, наблюдая за ними, словно за сценой в театре. Они были напуганы, но делали вид, что сердиты.
Так ведут себя люди, которым кажется, что у них есть власть, но на самом деле – нет.
Он смог бы предугадать каждое следующее слово, каждое выражение лица, каждое движение рук. Это было обычно. Это было неинтересно. Но затем он увидел мальчика.
Он сидел в углу, у самой двери кабинета участкового. Его посадили на жёсткий пластиковый стул, словно посадили в клетку. На него смотрели, о нём говорили, его осуждали, но он не выглядел испуганным. Не скрючился, не опустил голову, не прятал лицо. Просто сидел прямо, сцепив пальцы в замок, его локти покоились на коленях, а взгляд был… пустым. Малек видел тысячи пациентов, но редко встречал такой взгляд у ребёнка. Он не был полон злобы, как говорили соседи. Он не был полон страха, как они ожидали. Он был… нейтрален.
Как будто этот мир был ему не интересен.
Как будто он уже знал всё, что ему нужно, и просто ждал, когда его оставят в покое.
Это было странно.
Малек медленно подошёл к нему, сел на соседний стул. Он не смотрел на соседей. Они для него больше не существовали. Он смотрел только на мальчика. Тот заметил его, но не двинулся.
Малек слегка наклонился вперёд, поставив локти на колени, и спросил:
– Как тебя зовут?
Мальчик повернул голову, посмотрел на него. Не сразу ответил. А потом произнёс ровно, тихо, но ясно:
– А зачем вам это знать?
Малек улыбнулся краем губ.
– Я слышал, тебя зовут чудовищем. Мне кажется, это несправедливо.
Мальчик медленно моргнул. Его пальцы чуть сильнее сжали друг друга.
– Вы тоже так думаете?
– Нет. Я думаю, что если тебя называют чудовищем, то кто-то просто не разобрался, что это такое.
Мальчик посмотрел на него чуть дольше, затем всё-таки назвал своё имя.
Малек вёл его так, как он вёл бы любого пациента. Спокойно. Не торопясь. Делая паузы, но не оставляя пустот. Они говорили о детстве. О том, почему он не дружит с соседскими детьми. О том, что чувствовал, когда поджёг дом. О том, почему он вообще решил это сделать. Мальчик не избегал ответов, но и не говорил прямо. Он задавал вопросы в ответ, и Малек понимал – этот ребёнок намного умнее, чем пытается казаться. В какой-то момент в коридоре стало тише.
Соседи перестали обсуждать его, потому что не понимали, почему с ним можно так говорить – без крика, без обвинений.
Когда разговор подошёл к концу, Малек выпрямился, опустил руки на колени и спросил:
– Хочешь, чтобы я был твоим врачом?
Мальчик сжал пальцы. Подумал.
– А вы хотите?
Малек улыбнулся шире. Но только на секунду.
– Мне было бы интересно.
Мальчик кивнул. Это был единственный ответ, который Малек хотел услышать.
Врач вышел в коридор, где стояли родители мальчика. Они смотрели на него, настороженно, но с надеждой. Отец сжимал кулаки, как будто не знал, как себя вести. Мать выглядела бледной и уставшей, её глаза были пустыми, но в них было что-то ещё – что-то сломанное.
Она не верила, что её сын может стать другим.
– Я возьму его в свою программу.
Её губы дрогнули.
– Он… он ведь…
– Он ребёнок. – Малек чуть склонил голову набок. – Пусть у него будет шанс.
Они переглянулись. И мать сложила руки в замок, будто молилась, хотя давно не верила в Бога.
Когда Малек ушёл из полицейского участка, его догнал старый знакомый – один из офицеров.
– Доктор, зачем вам это?
Малек остановился, оглянулся через плечо.
– А почему бы и нет?
Офицер с сомнением качнул головой.
– Говорят, он… странный.
Малек усмехнулся.
– Знаете, когда-то и обо мне так говорили.
И ушёл, оставляя полицейского с этой мыслью наедине.
ГЛАВА 1. ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
Асфальт плавился под ногами. Лето стояло сухое, тяжёлое, безветренное, как застывший в небе глухой колокол. Воздух густел от жары, лип на кожу, пропитывался выхлопами машин. Мальчик шёл за матерью, держа её за руку, но не потому, что хотел – потому что она держала его слишком крепко, не позволяя вырваться. Он не любил, когда его касались.
Время от времени он дёргал пальцами, пробуя ослабить хватку, но мать только сильнее сжимала его запястье, словно он мог в любой момент сбежать.
Сквозь раскалённый воздух доносился визг тормозов трамвая. Колёса стучали по рельсам, напоминая, что движение —жизнь. На остановке стояли люди: кто-то сдвинул очки на лоб, кто-то отмахивался от жары газетой, кто-то пил воду из пластиковой бутылки, словно это могло помочь.
Мальчик знал, что мама нервничала. Её плечи были напряжены, как натянутые струны. Она шла быстро, целеустремленно, но каждые несколько минут оглядывалась, будто боялась, что кто-то идёт следом.
Дома вдоль улицы стояли высокими тенями. Окна раскрыты настежь – сквозняк приносил запах пережаренного масла и сигаретного дыма. Кто-то в одной из квартир слушал радио, и хриплый голос диктора смешивался с криками торговцев, с гулом машин.
Они подошли к зданию с высоким, тёмным забором. Табличка у входа, слегка выгоревшая на солнце, гласила: "Клиника психиатрической помощи".
Мать задержалась перед входом. Она снова оглянулась. Будто рассчитывала, что в толпе может быть кто-то, кто её узнает. Будто сам факт её присутствия здесь – позор, который не должен выйти за пределы этой улицы.
Мальчик наблюдал за ней. Она не думала, что он понимает. Но он понимал. Слабая дрожь в её пальцах, когда она снова сжала его руку. Тонкая полоска пота на виске, которую она машинально стёрла кончиками пальцев. Напряжённый вдох перед тем, как переступить порог.
Она не хотела здесь быть. Но ещё больше она не хотела, чтобы её сын был здесь.
Внутри пахло чем-то медицинским – не совсем хлоркой, не совсем лекарствами, но чем-то стерильным, резким, слегка сладковатым. Пол был серым, стены белыми, двери обшарпанными.
В приёмной сидели несколько человек. Телевизор в углу жужжал, но никто на него не смотрел.
Мать подвела мальчика к стойке.
– Мы записаны.
– Фамилия?
Она назвала её. Регистраторша мельком взглянула на ребёнка – взгляд, в котором было не любопытство, а что-то другое. Что-то такое, как будто она уже знала, зачем он здесь. Они сели на жёсткие пластиковые стулья у стены.
Мальчик скрестил руки на груди, вытянул ноги вперёд. Мать сложила пальцы в замок, сжала их так сильно, что костяшки побелели. Время текло медленно. Кто-то проходил по коридору, двери открывались и закрывались, воздух наполнялся отрывистыми голосами, приглушёнными шёпотами, резкими звуками шагов.
Мальчик вынул из кармана жвачку, сунул её в рот. Сладость разлилась по языку. Клубника. Слишком искусственная. Он жевал, а мать всё так же сидела с напряжённым лицом, не отрывая взгляд от пола.
– Ты волнуешься, – сказал он.
Она вздрогнула.
– О чём ты?
– Ты не хочешь, чтобы кто-то узнал, что ты привела меня сюда.
Она повернула голову, посмотрела на него, и в её глазах мелькнуло раздражение.
– Не говори глупостей.
– Это не глупости.
Она прикусила губу.
– Просто веди себя хорошо.
– А что такое «хорошо»?
Она помолчала, затем закрыла глаза.
– Просто молчи.
Он пожал плечами и продолжил жевать.
Мальчик смотрел, как на потолке дрожит отражение света от стеклянной лампы. Как в углу кто-то негромко кашляет. Мать сидела неподвижно.
Потом двери кабинета открылась. Молодая секретарь сказала:
– Следующий.
Она поднялась первой, схватила его за руку и потянула вперёд. Он не сопротивлялся. Но когда они вошли, он ощутил нечто странное. Будто снаружи оставался один мир. А за этой дверью начинался другой.
Кабинет Малека был тёплым.
Не уютным в традиционном смысле – тут не было старых кресел с продавленными подлокотниками, книжных шкафов, наклоняющихся под тяжестью знаний, или потертых ковров с рисунком, который невозможно разобрать. Но в этом кабинете было всегда тепло, даже когда за окном ветер сгибал голые деревья.
Малек верил, что пространство должно работать так же, как человек: оно должно быть удобным, чтобы можно было расслабиться, но не настолько, чтобы полностью потерять бдительность.
Темно-синяя стена за спиной, окна в потолок, через которые пробивался дневной свет. Большой стол, несколько кресел, диван у стены. Всё лаконично. Строго. Но почему-то здесь не было холодно.
Мальчик сидел напротив Малека, вцепившись руками в чашку чая, но не пил. Его пальцы слегка постукивали по керамике – раз-два, раз-два – мелкий ритм, который выдавал в нём напряжение. Малек наблюдал за ним так же, как в тот день в полиции: не слишком пристально, не слишком явно, но так, что мальчик чувствовал это.
Рядом на столе лежала открытая коробка конфет. Малек выдвинул её ближе к нему.
– Угощайся.
Ребенок медленно скользнул взглядом по конфетам.
– Вы хотите меня подкупить?
– Нет.
– Тогда зачем?
– Может быть, мне просто нравится смотреть, как люди пробуют что-то новое.
Мальчик покосился на него, затем осторожно взял одну из конфет. Тёмный шоколад, квадратная форма, маленький кусочек чего-то твёрдого внутри. Он положил её на язык и прикусил. Горько-сладкий вкус сначала обжёг нёбо. Какао – насыщенное, терпкое, почти обволакивающее. Затем появился другой оттенок – лёгкая кислинка, фруктовая, похожая на запоздалый послевкусие вина.
– Вишня?
– Угу, – Малек кивнул, откинувшись в кресле. – Вяленая. Она даёт привкус, который остаётся дольше, чем шоколад.
Мальчик медленно дожевал, облизнул губы.
– У вас странные конфеты.
– Я люблю их.
– Вы любите всё странное?
– В какой-то степени, – Малек слегка усмехнулся. – Но, возможно, просто потому, что всё остальное слишком скучно.
Мальчик не ответил. Он снова постучал пальцами по чашке, затем задал вопрос, который, как понял Малек, был самым важным для него:
– Мне правда придётся идти в школу?
– Да.
– Зачем?
– Это хороший вопрос.
– Мне не нужен этот опыт, – мальчик поднял взгляд. – Я знаю, как живут люди. Они ходят туда, куда им говорят, делают то, что им приказывают, строят иллюзию, что они кому-то интересны, а потом исчезают.
Малек склонил голову набок.
– Ты говоришь так, будто видел слишком много.
– Я просто умею наблюдать.
– Наблюдать – это одно. Испытать на себе – другое.
Мальчик усмехнулся.
– Вы хотите сказать, что если я попробую жить, как они, я пойму их лучше?
– Я хочу сказать, что пока ты не попробуешь, ты не узнаешь разницы между наблюдением и жизнью.
– А если я не хочу жить, как они?
– Тогда ты всегда будешь оставаться в стороне.
Мальчик на секунду замер. Малек видел, как это предложение зацепилось за его сознание, как оно крутилось там. Он не хотел быть, как все. Но хотел ли он быть совсем один?
– В школе тебе не понравится, – сказал Малек.
Мальчик прищурился.
– Вы уверены?
– Конечно. Ты не похож на тех, кто вписывается в толпу.
– Тогда зачем мне туда идти?
– Чтобы понять, насколько сильно ты не хочешь быть там.
Мальчик усмехнулся ещё шире.
– Вы хотите, чтобы я разочаровался?
– Я хочу, чтобы ты понял.
Он сделал глоток чая, выдерживая паузу.
– Люди часто говорят, что школа учит знаниям. На самом деле, она учит другому: как выживать в группе, как обманывать, как избегать, как находить тех, кто может быть полезен. Это часть природы.
Мальчик опёрся локтем на стол, изучающе глядя на него.
– Значит, вы считаете, что все люди используют друг друга?
– А ты считаешь, что они не используют?
Мальчик хмыкнул.
– Я считаю, что они не имеют значения. Они все – роботы. Делают, что сказали, улыбаются, когда надо, и грустят, когда надо. А я не умею так.
Малек чуть подался вперёд.
– Тогда зачем ты говоришь о них?
Мальчик замолчал. Воздух в комнате словно стал плотнее. Малек видел этот момент у сотен пациентов. У тех, кто строил стены, но вдруг оказывался перед чем-то, что заставляло задуматься.
– Если ты хочешь считать, что люди – мусор, – Малек отставил чашку, – то ты либо живёшь среди мусора, либо должен научиться существовать отдельно.
– Я уже существую отдельно.
– Пока что.
– И что изменится?
– Люди умеют что-то, чего ты не умеешь.
Мальчик нахмурился.
– Чего?
Малек выдержал паузу.
– Они умеют делать так, чтобы кто-то в них нуждался.
Слова зависли в воздухе. Мальчик смотрел на него, и в его взгляде было что-то, похожее на раздражение. Потому что он понимал. Малек не торопился говорить дальше. Он просто наблюдал. Потому что самые важные вещи всегда приходят в тишине. Время тянулось медленно. Часы на стене мягко тикали. Мальчик перевёл взгляд на коробку конфет, затем обратно на Малека.
– А вы умеете делать так, чтобы вас кто-то любил?
Малек усмехнулся.
– Я умею делать так, чтобы кто-то меня слушал.
Мальчик задумался, но спустя мгновение всё-таки взял ещё одну конфету. Он не знал, что думать о Малеке. Но знал, что теперь ему интересно.
***
Горько-сладкий запах карамели и жареных орехов висел в воздухе. Он был липким, приторным, наполнял лёгкие с каждым вдохом. Где-то вдалеке смешивались голоса, звон металла, глухой гул механизмов. Колёса аттракционов поворачивались с низким скрипом, ветер нёс крики восторга и ужаса.
Мальчик шёл рядом с Малеком, держа в руке стаканчик мороженого. Он не ел его – просто держал, словно это был бесполезный предмет, который ему вручили без причины.
– Это странно, – произнёс он, разглядывая тающий шарик пломбира.
– Что именно? – спросил Малек, не отрывая взгляда от медленно вращающегося чёртова колеса.
– Всё это. – Мальчик обвёл рукой парк. – Люди делают то, что им кажется весёлым, но это ведь просто механизмы. Просто конструкции. Они едут, кричат, но ничего же не происходит. Это же глупо.
Малек посмотрел на него с лёгкой усмешкой.
– Ты никогда не катался на аттракционах?
Мальчик медленно покачал головой.
– Я не вижу в этом смысла.
– А если смысл в том, что его нет?
Мальчик нахмурился, переваривая фразу. Он всегда искал закономерности, логику. Всегда смотрел на вещи так, словно пытался разобрать их по деталям. Но смысл в бессмысленности? Это его раздражало.
Малек взял ложку и черпнул мороженое из своего стаканчика.
– Ты пробовал?
Мальчик посмотрел на него.
– Что?
– Американские горки.
– Нет.
– Тогда откуда ты знаешь, что они скучные?
– Они просто двигаются по рельсам. Это предсказуемо.
– Но разве не интересно увидеть, что случится с тобой, когда ты потеряешь контроль?
Мальчик на секунду замер. Малек видел это. Видел, как в его голове мелькнула мысль. Как его разум попробовал отвергнуть её, но она уже зацепилась.
– Хорошо, – произнёс он ровно. – Один раз.
Железная конструкция стояла над ними, как огромный хищник, скалящий зубы из металла и светящихся лампочек. Цепи лязгали, вагончики медленно ползли вверх, будто робот пробуждался ото сна. Мальчик сел в кресло, пристегнулся. Его взгляд был бесстрастным, но Малек чувствовал напряжение в его теле.
– Как ты думаешь, чего боятся люди? – спросил он, пока вагончик начинал движение.
– Потерять контроль, – ответил мальчик, глядя вперёд.
– А ты боишься?
– Нет.
– Тогда почему ты так крепко держишься за поручень?
Мальчик заметно ослабил хватку, но ничего не сказал. Вагончика поднимался всё выше. Город уходил вниз, становился игрушечным. Малек следил за лицом мальчика. Оно оставалось бесстрастным, но в глазах мелькало что-то… новое.
– Люди живут, чтобы чувствовать, – тихо сказал Малек.
Мальчик посмотрел на него.
– Даже если эти чувства – иллюзия.
И прежде чем он смог ответить, вагончик достиг вершины.
Первый момент был тишиной. Потом – провал. Свободное падение, когда сердце будто остаётся на вершине, а тело летит вниз. Ветер ударил в лицо, сдавил грудь, лишая воздуха. Мальчик чувствовал, как его мышцы напряглись, как пальцы снова вцепились в поручень, а сердце – да, оно билось быстрее.
Ветер вырывал звуки изо рта. В груди вспыхнуло что-то тёплое, но оно не было страхом. Это было… странно. Повороты. Перевороты. Движение настолько быстрое, что невозможно предугадать следующий миг. Это была потеря контроля. И впервые за долгое время он не думал. Он просто чувствовал.
Когда вагонетка вернулась в исходную точку, мальчик молча расстегнул ремни, вышел, остановился.
– Как тебе? – спросил Малек, выкидывая пустой стаканчик от мороженого.
Мальчик посмотрел на него.
– Это было не так скучно, как я думал.
Малек усмехнулся.
– Значит, мы прогрессируем.
Они шли к выходу из парка, и мальчик вдруг замедлил шаг.
– Люди правда живут ради чувств?
– Иногда да. Иногда ради смысла. Иногда просто потому, что не знают, как остановиться.
Мальчик задумался.
– А если мне не нужны чувства?
Малек пожал плечами.
– Тогда ты сам станешь роботом.
Мальчик улыбнулся – впервые за день. Очень тонко, почти незаметно.
– Может, я уже робот.
Малек не стал спорить. Он только хлопнул его по плечу, и они вышли за ворота парка, растворяясь в летнем вечере. Запах карамели и сладкой ваты ещё витал в воздухе. Мальчик вдруг подумал, что этот день отличался от остальных. Он не был ни хорошим, ни плохим. Он просто… был.
В кабинете Малека было прохладно после знойного дня. Мальчик сидел в кресле, вытирая липкие пальцы влажной салфеткой. Доктор говорил по телефону у окна – что-то про новых пациентов, про расписание, про документы. Обычные вещи.
Малек вышел из кабинета, оставив дверь приоткрытой. Где-то в конце коридора загудела кофемашина, кто-то торопливо прошёл мимо, громко щёлкнув каблуками по плитке. Но здесь, в кабинете, наступила такая тишина, будто всё живое выдохнуло разом и затаилось.
Мальчик сидел в кресле, покачивая ногой. Его взгляд скользнул по столу Малека, по аккуратным стопкам бумаг, по пустой чашке с засохшим ободком кофе. Пара ручек – чёрная и красная – лежали крест-накрест, будто Малек специально оставил их так. На краю стола стояла пепельница с одной выкуренной до фильтра сигаретой. Дым давно развеялся, но запах – тёплый, горьковатый, почти сладкий – всё ещё цеплялся за воздух.
Он встал, потянулся, подошёл к книжному шкафу. Его пальцы пробежались по корешкам. Психология, нейробиология, редкие старые издания с пожелтевшими страницами. Но одна книга выглядела не так, как остальные. Она стояла чуть глубже, будто её спрятали. Переплёт – тёмный, кожаный, потёртый на углах, с узором, похожим на сплетение трещин на сухой земле. Без названия, без автора.
Мальчик осторожно вытянул её. Ожидал, что будет тяжёлая – такие книги всегда должны быть тяжёлыми – но эта оказалась почти невесомой. Будто внутри неё был только воздух. Он сел обратно в кресло, положил книгу на колени и медленно открыл первую страницу.
Слова заплясали перед глазами. Они не были размытыми – наоборот, чёткими, чёрными, словно только что отпечатанными. Но они не складывались в смысл. Каждое слово вроде бы знакомо, но вместе они образовывали набор звуков, которые язык отказывался произносить.
Он моргнул – и текст изменился. Другие слова, другой ритм, другая форма букв. Мальчик почувствовал лёгкое головокружение, как будто буквы не просто двигались, а пытались попасть ему в голову напрямую.
Он пролистнул страницу. Ещё одну. И ещё. Всё та же нелепая бессмыслица, текучая, скользкая, ускользающая из памяти. Он не мог даже запомнить ни одного слова, как будто мозг отказывался его сохранять.
– Какая-то странная книга… – пробормотал он вслух. Его голос прозвучал приглушённо, будто комната сама не хотела слышать эти слова.
Он ожидал увидеть сказки или легенды, может, карты сокровищ или старые мифы о богах и героях. Но это… это была книга без смысла. Или с таким смыслом, до которого он ещё не дорос. Он раздражённо захлопнул её и положил на стол.
Книга казалась обычной – просто старая вещь, забытая среди прочих. Но когда пальцы мальчика коснулись её обложки в последний раз, он почувствовал странное тепло. Не обжигающее, но настойчивое – как чужой взгляд, который чувствуешь затылком, даже если никого нет.
Он отдёрнул руку, снова сел в кресло и уставился в окно. За стеклом медленно ползли облака, солнечные зайчики плясали по комнате. Малек до сих пор не вернулся.
Мальчик снова посмотрел на книгу. Она просто лежала. Ничего не делала. Не шевелилась, не меняла форму, не пульсировала. Обычная книга. И всё же он больше не хотел её трогать.
Когда Малек вернулся, он сразу заметил, что книга сдвинута. Мальчик сидел так же, как прежде, но взгляд у него был… чуть глубже, чем обычно. Будто он заглянул туда, куда ещё не готов был смотреть.
– Ну что, нашёл что-то интересное? – спросил Малек, садясь напротив.
Мальчик пожал плечами.
– Она скучная. Ничего не понял.
Малек усмехнулся.
– Это нормально. Ты пока не должен понимать.
Мальчик скользнул по нему взглядом.
– А вы её понимаете?
Малек взял книгу, положил перед собой. Долго смотрел, водил пальцем по трещинам на обложке.
– Нет, – честно ответил он. – Я просто её храню.
– Зачем хранить то, что не можешь прочитать?
– Потому что некоторые вещи раскрываются только тогда, когда приходишь к ним сам. Без подсказок.
Мальчик задумался. Потом снова пожал плечами.
– Бесполезная книга.
– Может быть.
Малек убрал её обратно на полку. Поставил чуть глубже, чем раньше. Но мальчик знал – теперь он будет о ней думать.
Ночью мальчик не мог уснуть. Комната была слишком тёмной, слишком тихой, и от этого в ней будто стало тесно. Одеяло липло к коже, воздух застрял в лёгких, и даже окно, приоткрытое нараспашку, не приносило облегчения.
Он лежал на спине, смотрел в потолок и чувствовал – что-то не так. Ощущение, будто кто-то сидит в углу комнаты, молчит и смотрит. Невидимый, но реальный. Мальчик сел, опустил ноги на пол, прошёл к окну. Город спал – редкие машины лениво проезжали по улице, фонари горели тускло, будто тоже устали.
Он провёл ладонью по стеклу. Оно было холодным. Но в пальцах всё ещё оставалось то странное тепло – то самое, что он почувствовал, когда держал ту книгу.
Он закрыл глаза. И в этот миг сон настиг его – резко, как будто кто-то выдернул его из реальности и бросил в другое место.
Он стоял в длинном коридоре. Голые стены – серые, как бетон, влажные, как после дождя. Пол под ногами был мягким, будто ковёр, но если присмотреться – это были книги. Тысячи книг, сложенных в ровный слой, переплёты треснутые, страницы мятые, обложки промокшие. Мальчик сделал шаг – книги хрустнули под ногами, как старые листья.
Коридор уходил в темноту, но в конце горел тусклый свет. Мальчик пошёл вперёд. Шаги были приглушёнными, как под водой. По стенам текли тени – они не принадлежали ни людям, ни вещам, они просто были. Он дошёл до конца коридора, и свет оказался не лампой, а книгой. Той самой книгой. Она лежала на постаменте, открытая, страницы шевелились, как будто кто-то невидимый их перелистывал.
Мальчик подошёл ближе. Буквы светились. Они больше не были словами – они стали нитями, сплетающимися в узоры. Узоры пульсировали, меняли форму, превращались в лица – женские, мужские, детские, звериные. Эти лица кричали, но звука не было.
Мальчик протянул руку, коснулся страницы. И сразу ощутил то самое тепло, только теперь оно вошло прямо в кожу, в кровь, в кости. Его сердце ударило резко, будто кто-то сжал его пальцами.
Из книги вытекала тьма – медленно, как мёд, густая, тягучая. Она обвивала его запястье, тянулась вверх по руке, пробиралась под кожу. Но ему не было страшно. Он смотрел, как она проникает внутрь, как становится частью его.
– Что ты хочешь знать? – раздался голос. Это был голос Малека, но не совсем. Как будто кто-то другой говорил его голосом.
– Всё, – ответил мальчик.
Книга захлопнулась. Тьма исчезла, коридор провалился вниз, и он снова лежал в своей постели, в своей комнате, в своей реальности.
Он открыл глаза. Сердце всё ещё стучало быстро. Ладонь горела, как после ожога. Он посмотрел на неё – на коже остался тонкий узор, похожий на строчку из книги, но на языке, которого он не знал.
Мальчик улыбнулся. Впервые за долгое время он почувствовал, что ему интересно.
Флэшбек Малека в монастыре.
Воздух в трапезной был тяжёлым и медленным, как остывающий мёд. Здесь всегда пахло дымом – копчёным, древесным, горько-сладким, въевшимся в стены, одежду, даже в воздух между людьми. Этот дым пронизывал всё, цеплялся за волосы, ложился на язык при каждом вдохе.
Длинные деревянные столы, тёмные от времени, покрытые тонким слоем воска, чтобы крошки не прилипали. Над каждым столом – простые железные лампы с тусклым жёлтым светом.
Монахини сидели ровными рядами. Они ели молча, даже жевали медленно, будто боялись потревожить тишину, которая тут была важнее молитвы. Простая еда: ломти чёрного хлеба с грубой коркой, похлёбка из чечевицы – густая, почти клейкая, с запахом лука и старого горшочка, который, кажется, не меняли со времён основания монастыря.
И – копчёная свёкла.
Она лежала в центре общей тарелки – тёмная, почти чёрная снаружи, с золотистыми потёками сока. Когда Малек взял кусочек, пальцы чуть липнули к его поверхности, а дымный аромат поднялся к лицу. Он положил свёклу на язык, прикусил – терпкость обожгла рецепторы, резкая, насыщенная, совсем не такая, как свежая. Но за ней, через секунду, пробилась сладость, словно воспоминание из другой жизни. Момент, когда солнце стояло над полем, когда чужая рука давала тебе что-то, говоря: «Попробуй».
Малек жевал медленно, вспоминая. Эта терпкость… она напоминала ожоги на ладонях, полученные в детстве, когда его заставляли держать свечу на вечерней службе. Он никогда не любил молиться, но свечи были красивыми. А боль – честной.
– Свёкла была сладкой, но после копчения приобрела терпкость, – тихо сказала одна из монахинь напротив, не поднимая глаз. Её голос был шершавым, как наждачная бумага, слишком много лет, слишком мало слов. – Как и человек – чем больше испытаний, тем крепче он становится.
Малек усмехнулся, обмакнул хлеб в похлёбку, поднял взгляд на женщину. Она была сухая, как старое дерево, пальцы с обломанными ногтями. Её глаза смотрели в тарелку.
– Или просто черствеет, как кусок чёрствого хлеба, – ответил он, отломив корку.
Она не возразила. Тут не спорили. Тут принимали.
Ложки снова заскребли по деревянным мискам. Кто-то рядом тихо откашлялся. За окнами шумел ветер, но этот звук казался далёким, как будто его приносило не с улицы, а из другой эпохи.
Малек выровнял спину, – лавка была не удобной даже для его детского роста. Еда в этом месте была не просто пищей. Она была уроком. Напоминанием. В монастыре не кормили вкусно – кормили правильно. Чтобы помнили о тяжести труда, о простоте жизни, о том, что не для наслаждения человек ест, а для того, чтобы жить.
Но свёкла… эта простая копчёная свёкла, сладкая и терпкая одновременно – она напомнила ему, что жизнь умеет быть многослойной. И что даже в самом горьком можно найти сладость, если правильно искать.
Возможно, поэтому он до сих пор любит её вкус.
***
Малек зашел в кабинет не сразу. Мальчик уже начал скучать – он полистал какую-то медицинскую брошюру, порисовал ручкой на обрывке бумаги, попытался вытащить скрепку из стопки документов, но та оказалась слишком тугой. Когда дверь наконец открылась, он даже вздрогнул – так долго длилось это ожидание.
Малек поставил на стол две коробочки. Обычные, пластиковые, прозрачные. В одной был салат – яркие куски свёклы, тёмно-красные, почти фиолетовые, вперемешку с чем-то зелёным и крошками сыра. В другой – булочка с тмином и чёрный чай в термосе.
– Обед, – сказал Малек, усаживаясь напротив. – Гастрономическое откровение прямо из моей юности. Ты ведь любишь открывать новое, да?
Мальчик скривился, увидев свёклу.
– Это что за гадость?
– Это не гадость, это честная еда, – возразил Малек, отломив кусочек булки и макнув в чай. – Святая троица вкусов: свёкла, дым и лёгкое отчаяние.
Мальчик скривился.
– По-моему, это просто похороны овоща.
– Возможно, – Малек не стал спорить. – Но, как и с похоронами, иногда приходится есть то, что дают. Но свёкла вкусная. Серьёзно.
Мальчик подцепил кусочек свёклы кончиком вилки, повертел перед глазами. Капля бордового сока стекала по краю, напоминая кровь.
– Она выглядит как кусок печени после вскрытия.
– Если тебя это вдохновляет, можешь представить, что это сердце твоего злейшего врага, – сказал Малек с полной серьезностью.
Мальчик вздохнул, взял вилку двумя пальцами, как будто держал ядовитую змею, подцепил крошечный кусочек и положил в рот. Жевал медленно, с выражением мученика. Потом поморщился.
– У неё вкус, как у земли, которую коптили прямо с червями, – скривился мальчик, прожёвывая с видимым отвращением.
– Черви – это дополнительный белок, – философски заметил Малек.
Мальчик сплюнул в салфетку.
– Это гадость. Ты серьёзно это ешь?
– Я рос в монастыре, – напомнил Малек, подвигая к нему стакан воды. – Если бы ты знал, сколько там вещей приходится есть просто потому, что они есть.
– И ты не сдох? – в голосе мальчика не было ни страха, ни сочувствия – только любопытство.
– Ещё нет, – Малек улыбнулся краем губ. – Но всё впереди.
Мальчик снова уставился на свои пальцы. Сок свёклы уже окрасил подушечки в лилово-красный. Он попробовал стереть пятна салфеткой, но они только размазались, словно въедаясь в кожу. Они были похожи на засохшую кровь. Мальчик отставил вилку в сторону, как оружие после проигранного боя. Он взял стакан воды, сделал глоток и резко сменил тему:
– Мне сегодня приснилась эта книга.
Малек чуть небрежно подвинул коробку с салатом подальше, как будто освобождал пространство между ними – как шахматист, который понимает, что сейчас начнётся настоящая игра.
– Расскажешь?
– Там была эта книга. – Мальчик посмотрел в сторону полки, где она стояла. – Та, странная. Я шёл по какому-то коридору, а пол был из книг. И стены были мокрые, и тени там двигались. А в конце лежала эта книга, и буквы в ней светились.
– И что потом?
– Я её открыл. И она… как будто смотрела на меня. И сказала голосом, похожим на твой: «Что ты хочешь знать?»
Малек склонил голову набок.
– И что ты ответил?
– Всё.
Малек кивнул, не улыбаясь. Несколько секунд они просто молчали. Потом поднялся, подошёл к полке, взял книгу двумя руками, осторожно, будто она могла укусить. Положил её на стол, провёл пальцем по тёплой обложке.
– Почему она здесь? – спросил он.
– Потому что некоторые книги сами находят, где им быть.
– А ты не боишься её?
– Нет, – сказал Малек. – Я боюсь тех, кто её ищет.
Мальчик поставил книгу обратно на полку. Очень аккуратно, так, как ставят на место вещь, которую лучше больше не трогать.
Он стоял к Малеку спиной, но чувствовал его взгляд.
– А если однажды ты всё-таки поймёшь, что там написано? – спросил мальчик, не оборачиваясь.
Малек чуть улыбнулся, но так, что это почти не коснулось его губ.
– Тогда, возможно, это будет означать, что я сделал что-то не так.
Мальчик вернулся к столу, снова сел, взял в руки булочку, но не откусил. Просто держал её, как будто теперь у него появился ещё один вопрос. Такой, который пока не готов задать.
В комнате повисла тишина – плотная, как дым. Тишина, которая бывает только между теми, кто знает больше, чем говорит.
Малек снова налил себе чая, покрутил ложку в пальцах и вдруг сказал:
– Кстати, я знаю отличный рецепт салата с копчёной свёклой и козьим сыром. Хочешь, научу?
Мальчик скривился так, будто его только что заставили выпить уксус.
– Нет уж, спасибо. Мне хватает чипсов.
– Вот поэтому тебе скучно, – Малек усмехнулся. – Чипсы – это для тех, кто боится узнать, какой вкус у мира на самом деле.
– Я не боюсь, – возразил мальчик. – Мне просто всё равно.
– Посмотрим, – Малек поставил чашку. – Иногда то, что въедается в кожу, остаётся там навсегда.
Мальчик посмотрел на свои пальцы, испачканные свекольным соком. И понял, что Малек говорит не только о свёкле.
Глава 2. Тайны Виктории
Малек знал этот запах. Не просто пыль и старая бумага – тут было нечто другое. Запах тлена, который рождается, когда документы прячут слишком глубоко, чтобы их кто-то читал. Лёгкий след табака, въевшийся в картон папок – кто-то недавно курил прямо здесь, в архиве, где официально курить запрещено. А значит, этот кто-то чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы плевать на правила.
Он стоял в полумраке, держа в руках тонкую папку с именем «Виктория Ш.» Кто-то вытаскивал её, листал, но не вернул правильно. На уголке обложки остался крошечный след – будто кто-то держал её грязными руками или капнул кофе. Малек склонил голову набок, разглядывая это пятно, и невольно усмехнулся. Парадоксально: чем больше кто-то хочет скрыть правду, тем больше мелких улик оставляет по пути. Пожелтевшая обложка, треснувший скоросшиватель, вклеенная чёрно-белая фотография в углу – девочка лет четырнадцати, слишком худое лицо, взгляд, направленный не в камеру, а куда-то сквозь фотографа. Виктория постарше – в больничном халате, с глазами, в которых уже поселился кто-то другой. Между этими фотографиями была пропасть, и Малек хотел понять, что именно стало мостом между ними.
Пол в архиве был холодным. Кафель с мелкими трещинами, которые напоминали линии на ладони, когда долго сжимаешь кулак. Лампа под потолком мерцала, а окно, выходящее в узкий внутренний двор, было покрыто слоем грязи, сквозь который свет пробивался мутными пятнами.
Малек провёл пальцем по фамилии на папке. Чернила расплылись, как если бы кто-то провёл по ним мокрой рукой. Он видел такое раньше – в монастырских записях, где особо опасные откровения «размывали», чтобы текст переставал быть текстом.
Он сел на скрипучий стул, открыл папку. Первые страницы – формальности: имя, возраст, диагнозы. Пограничное расстройство, истерические припадки, депрессия с суицидальными мыслями. Ни слова о том, что действительно важно.
Потом шли показания свидетелей – те самые, которые всегда пахнут фальшью. Малек читал медленно, словно вслушивался в текст:
«Она говорила о голосах, которые приходят по ночам.»
«Иногда её находили во сне с раскрытой книгой в руках.»
«Она считала, что через неё говорят мёртвые.»
«Мы не придавали этому значения.»
Ложь – подумал Малек. Он знал эту интонацию. Так пишут показания не люди, а те, кто их диктует. Слишком чисто. Слишком аккуратно. Как если бы это был отчёт для страховой компании, а не история реального человека.
Малек достал сигарету, крутил её в пальцах, но не закурил. Здесь и так было чем дышать – пылью, временем, чужими страхами, застывшими в бумаге.
На последней странице был газетный вырезок. Малек узнал его сразу. Этот номер газеты он когда-то держал в руках сам – год назад, когда случайно наткнулся на статью о Виктории. Но тут статья была не полной. Вырезан кусок – тот, где упоминалась «неофициальная версия» её исчезновения.
Малек провёл пальцем по краю бумаги, где остались следы клея. Кто-то оторвал важное. А значит – именно это и есть ключ.
Он закрыл папку, прижал её к груди, сел на подоконник, уставившись в мутное стекло.
Флэшбек
Мальчик лет десяти стоит в подвале монастыря. Мрак такой густой, что кажется – его можно черпать ладонями. На столе перед ним лежат те самые «неофициальные» папки, которые нельзя открывать даже настоятелю. Влажный воздух, запах плесени и чего-то сладковатого – может, старого воска, а может, застарелой крови.
Он тянется к папке, дрожащими пальцами раскрывает её и видит там не отчёты, а письма. Письма монахинь, которые исчезли. Их почерк, ломкий, нервный, танцующий по бумаге как одержимый.
«Я больше не слышу голоса Божьего. Только дыхание того, кто стоит за моей спиной.»
Конец флэшбека
Малек вернулся в реальность. Его пальцы всё ещё сжимали папку с делом Виктории. Он знал этот почерк – её последние записи, приписанные в углу одним резким движением: «Я видела свет, он ослепил их».
Малек поднялся, спрятал папку под пиджак, вышел из архива, не закрыв за собой дверь. Пусть воздух выветривается.
Малек шёл медленно, ступая так, чтобы каблуки не слишком громко стучали по линолеуму. Местные сторожа были ленивыми, но не глухими. Он вышел на лестницу, чуть прищурился от света, ударившего в глаза. Снаружи уже темнело, фонари давали тусклый, рваный свет, как старые свечи. Малек поставил папку на перила, закурил. Дым горчил во рту, и в этой горечи было что-то родное – вкус тишины после допроса, вкус страха, который ещё не успел превратиться в ужас.
Он слышал шаги. Ещё в архиве, ещё когда листал показания, где каждая запятая стояла слишком ровно. Кто-то был там. Не с ним в одной комнате – чуть дальше, за дверью, в коридоре. Просто стоял и слушал. А может, это были не шаги, а его память. Монастырь тоже скрипел так же.
Шаги вернулись, когда он вышел из здания. Они держались в нескольких метрах, не торопясь, не прячась, но и не приближаясь. Он не оборачивался. В таких делах оборачиваться – самое глупое, что можно сделать. Если ты уже знаешь, что за тобой следят, зачем давать знать, что ты это понял?
Малек шёл по тротуару – мимо разбитых фонарей, мимо заборов с облупленной краской, мимо закрытых газетных киосков. Воздух пах пылью, старым асфальтом и чем-то сладким, липким – кто-то продавал дешёвую вату на углу, и ветер нёс её запах, как воспоминание детства, в которое никто не хочет возвращаться.
Шаги не отставали. Ритм ровный, мужской, тяжёлый. Малек свернул в переулок, замедлил шаг. Достал телефон, включил диктофон и сунул в карман пальто.
– Виктория, – сказал он вслух, будто обращаясь к самой улице. – Кто-то очень не хочет, чтобы я тебя нашёл.
Шаги замерли. На секунду наступила такая тишина, будто город перестал дышать.
Малек обернулся – впервые. Пусто. Переулок был пуст. Но он знал – это не значит, что там никого не было. Просто его уже успели обойти.
– Ладно, – Малек усмехнулся. – Играем дальше.
Малек вернулся в клинику ближе к полуночи. Кабинет встретил его темнотой и тишиной. Секретарь ушла час назад, охрана где-то дремала у мониторов. Здесь, ночью, всё всегда казалось другим – стены словно сдвигались ближе, мебель отбрасывала слишком длинные тени.
Он щёлкнул выключателем, но свет не загорелся сразу – только после короткого всполоха, как при разряде статического электричества. Лампы замерцали, запоздало оживая.
Первое, что Малек заметил – книгу. Та самая. Из шкафа. Она лежала на его столе. Не открытая, но сдвинутая со своего места – чуть-чуть, всего на пару сантиметров. Этого хватило, чтобы понять: её трогали.
Он медленно подошёл к столу, провёл пальцем по обложке. Книга была тёплой. Не от солнца – солнце сюда давно не заглядывало. Это было другое тепло. Человеческое, или… не совсем человеческое.
Малек сел, положил перед собой папку Виктории и книгу. Они лежали рядом, как две улики, ведущие к одному и тому же дому.
На его чашке кофе – та, что он оставил утром – тоже остался след. Чужой палец, чуть влажный, с жирным ободком. Малек не стал стирать, а завернул чашку в пакет. Затем – проверил ящики стола. Все закрыты.
Он включил диктофон на телефоне снова – тот самый, который записывал звуки переулка. Запись крутилась, сначала – только его голос, потом тишина, потом звук шагов. Он знал, что ответов сразу не будет. С такими делами всегда так: сначала тени, потом следы, потом только куски правды, как черви в земле. И лишь потом – сама правда, но к тому моменту она уже становится не нужна.
Малек налил себе чая, сел обратно, включил настольную лампу, и тёплый свет залил стол, как сцена театра. Две вещи ждали его внимания – папка Виктории и книга.
Сначала папка. Перевернул первую страницу, потом вторую. Всё, что он видел раньше, было на месте. Но сейчас, ночью, эти страницы выглядели по-другому. Как если бы днём они были просто бумагой, а ночью – стали свидетельством преступления, которого никто не хотел называть.
Формальные записи: «пограничное расстройство», «истерические эпизоды», «попытка побега». Малек скользил взглядом, не вчитываясь.
Потом – свидетельства. Чистые, гладкие, вылизанные до фальши. «Говорила о голосах». «Читала по ночам». «Видела то, чего не было». Всё это звучало слишком аккуратно. Малек видел такие показания раньше – их пишут не врачи, а люди, которым сказали, как надо писать.
Он закрыл папку, отложил её в сторону.
Всё это – только пыль. Настоящее – там, в заброшенном доме, где когда-то молились те, кто создал эту девочку такой. Он вспомнил запах дома – сырость, гнилое дерево, следы ладоней на стенах. Там был страх – не абстрактный, а физический, впитавшийся в штукатурку. Страх, который живёт дольше, чем люди, и выживает даже тогда, когда дом пуст.
Малек посмотрел на книгу. Эта книга – совсем другое. Это не личная история. Это не про Викторию. Это про всех сразу. Книга Апокалипсиса – не просто текст, а форма, которая ждёт, пока кто-то её заполнит. Никто не смог её прочитать – у них не было ключа, не было кода. Но они верили, что если просто владеть ею – это уже даст власть. Власть без смысла, как корона без народа.
И всё же кто-то пришёл сюда. Кто-то знал, где она лежит. Кто-то тронул её, но не решился забрать. Значит, боятся. Значит, понимают, что просто держать книгу – не то же самое, что ею владеть.
Малек налил себе чая. Тьма за окном сгустилась. Он знал, что за ним наблюдают. Но то, что пришли прямо в кабинет – это было новое.
Он взял книгу, открыл первую страницу. Символы смотрели на него – не буквы, не знаки, а узоры, похожие на древние звёздные карты. На пыльные схемы миров, которых больше нет.
Он закрыл её и поставил на место, чувствуя непривычную тяжесть от книги.
***
Кафе на окраине.
Кафе стояло на углу серой улицы между двух обшарпанных жилых домов. Малек нашёл его не сразу. Названия на фасаде не было, только облупленная деревянная вывеска, на которой когда-то значилось что-то вроде «Kavárna U Lípy». Теперь там остались только первые буквы – «Ka» – будто кто-то начал стирать память об этом месте, но не закончил.
Внутри пахло сразу всем: залежавшимся кофе, старым маслом, мокрой одеждой, землёй с чьих-то ботинок и чем-то едким, словно здесь когда-то мыли полы керосином. Малек вошёл и первым делом ощутил, как влажный воздух прилип к его коже – неприятно липкий, как пот на спине, когда за тобой следят. Это не уютная кофейня, где пахнет свежей выпечкой, а какое-то убогое место, где кофе всегда слишком горький, а сахар в пакетиках липкий от чужих рук.
Малек пришёл раньше. Выбрал столик у окна – так, чтобы видеть вход и улицу. Официантка подошла нехотя, без улыбки, как человек, который давно разучился любить свою работу. Она бросила на стол липкое меню и сразу ушла, даже не спросив, чего он хочет. Малек взял самый дешёвый кофе, потому что в таких местах он всегда одинаково плохой. Когда принесли чашку, он не притронулся. Только почувствовал запах – слишком крепкий, с ноткой жжёной пыли, будто в кофемашине заварили сразу всю пыль что там собралась за месяц.
Женщина опоздала на двадцать минут. Это нормально для тех, кто привык оглядываться по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Она зашла, огляделась – быстро, но цепко, как человек, который знает, что за ним могут следить. Малек поднял руку, обозначил себя. Она подошла, села так, чтобы спиной к стене, лицом к входу.
Женщина выглядела старше своих лет – кожа землистая, глаза постоянно дёргаются, пальцы сжимаются в кулак, даже когда она просто держит ложку. Волосы крашеные, но неаккуратно, как будто её больше заботило скрыть старую причёску, чем выглядеть хорошо, а ногти все обгрызаны почти до мяса.
– Я не должна здесь быть, – сказала она вместо приветствия.
– Никто из нас не должен, – ответил Малек спокойно. – Спасибо, что пришли.
Она ничего не ответила. Просто взяла чашку, сделала глоток и поморщилась.
– Вы хотели знать про Викторию. Но я почти ничего не помню.
– Это ложь. Вы помните всё. Просто не хотите вспоминать.
Женщина подняла глаза. Они были тёмные, мутные, но в глубине – огрызок злости. Не к нему – к себе.
– Она раздражала всех. Не потому, что была особенной. А потому, что пыталась быть особенной. Пела громче всех на службах, носила ленту в волосах, когда все ходили с простыми косами. Плела волосы странно – по диагонали. Это сводило нашу наставницу с ума.
– То есть она не была избранной?
Женщина хрипло засмеялась, чуть не расплескав кофе.
– Избранная? Нет. Она была просто проблемной девчонкой, которая не хотела быть, как все. Это была её единственная вина.
Малек смотрел на неё, не перебивая. Иногда лучше дать человеку говорить, чем задавать вопросы.
– Родители злились. Наставница злилась. Мы злились. Не потому, что она делала что-то ужасное. Просто потому, что она напоминала нам, что есть мир за стенами. Что можно быть другим. А мы этого не могли позволить себе.
– И что с ней сделали?
Женщина посмотрела в окно, чуть передёрнулась.
– Отправили на «исправление». Это называлось «очищение». Долго молиться. Молчать. Пить специальную воду. Мы все это проходили, когда грешили. Но с ней… с ней что-то пошло не так.
– Что именно?
Она замотала головой, как будто хотела вытрясти из себя эти воспоминания.
– Я не знаю. Она начала говорить о вещах, которые никто не хотел слышать. О голосах, которые звали её по имени. Но самое страшное – она улыбалась, когда это рассказывала. Но было ли что-то еще я не знаю, я ушла до закрытия общины.
– Вам кто-то помог?
Женщина посмотрела на него, прищурилась.
– Я не собираюсь рассказывать про это.
– Понимаю, – Малек отодвинул свою чашку. – Просто я читал её дело. Там почти ничего нет. Только формальные записи. Истерические эпизоды, попытка побега, нарушения речи. Знаете, что это значит?
Женщина молчала.
– Это значит «чистка». Так делают в старых сектах и культах, когда хотят стереть настоящую историю. Чтобы снаружи никто не понял, что там происходило.
Женщина встала. Слишком резко, так что стул громко скрипнул по плитке.
– Мне больше нечего сказать.
– Вы боитесь? – спросил Малек.
Она не ответила. Просто поправила воротник, ещё раз огляделась и пошла к выходу. Малек не стал её звать обратно. Он просто смотрел, как она растворяется в сером свете улицы.
На столе осталась её чашка. На ободке – след помады. Малек достал телефон, сфотографировал, и положил чашку в свои вещи, так невозмутимо, что даже если кто-то и заметил, то решил, что это его личная чашка.
Он дождался счёт, расплатился, вышел следом. Женщины уже не было. Только мокрые следы её ботинок на тротуаре.
Малек прикурил, сделал пару шагов и сказал себе под нос:
– Значит, «очищение». Хорошо. Будем копать дальше.
***
Малек не сразу понял, когда это началось. Сначала это были мелочи: запоздалые звонки, в которых никто не говорил, только молчали в трубку. Кто-то стоял слишком близко в трамвае. Кто-то сидел за соседним столиком в кафе, не заказывая ничего, просто листая газету, которую больше нигде не печатали.
Он привык к паранойе – это часть профессии. Если ты достаточно долго работаешь с чужими страхами, рано или поздно они начинают дышать тебе в затылок. Но это было другое. Не просто паранойя, а то самое ощущение, которое бывает только в замкнутых системах: в сектах, культах, тюрьмах. Когда воздух становится липким, а взгляды цепляются за тебя даже сквозь стены.
Малек вернулся домой поздно. По привычке проверил дверь, окно, снова дверь. Потом достал телефон и набрал номер.
– Франтишек?
Голос друга был заспанный, раздражённый.
– Чего тебе?
– За мной следят.
Франтишек вздохнул, будто это был не первый раз, когда он слышит эту фразу.
– Ты уверен?
– Я это чувствую. – Малек сел на подоконник, зажёг сигарету. – И, как ты помнишь, я чувствую такие вещи не просто так.
Франтишек не стал спорить.
– Ты что-то нашёл?
– Ещё нет. Но я знаю, что они ещё существуют.
– Кто «они»?
– Те, кто стояли за Викторией. Эта секта. Она никуда не делась. Просто сменила название. Может, адрес. Может, лидера. Но суть осталась.
Франтишек выругался.
– И что ты собираешься делать?
– Вернусь туда. В тот дом.
– Ты спятил?
– Я не могу копаться только в бумагах. Бумаги – это следы, а мне нужны те, кто оставил эти следы.
На том конце провода повисла тишина. Франтишек, конечно, мог бы сказать, что это плохая идея. Что Малек снова лезет в грязь, которая ему самому стоила лет терапии. Но они оба понимали, что спорить бессмысленно.
– Ладно, – вздохнул Франтишек. – Только скажи, когда поедешь. И если не выйдешь на связь – я вызову полицию.
Малек усмехнулся.
– Секта переживёт ещё одну встречу со мной.
Он отключил телефон и открыл ноутбук.
Форумы бывших сектантов – это особенное место в интернете. Там редко пишут с настоящих аккаунтов. Никто не выкладывает фото или реальные имена. Только текст – резкий, скомканный, наполненный страхом, который не выветривается даже спустя годы.
«Я до сих пор проверяю зеркала. Потому что в секте нас учили, что через них наблюдает Бог».
«Они говорили, что мы особенные. А потом забирали тех, кто задавал вопросы».
«Некоторые секты не исчезают. Они просто меняют имена».
Эту фразу Малек перечитал трижды. Он знал это правило ещё с монастыря. Одно имя становится грязным – его сжигают, а на пепле рождается новое. Та же структура, те же люди, новые слова.
Малек открыл поисковик, вбил название секты, которую когда-то упоминали в старых делах Виктории. Потом ещё одно. И ещё. Через полчаса он вывел цепочку: пять названий, три закрытых дела, два скандала и один тихий переезд в другой город.
Название менялось. Суть – нет.
Он закрыл ноутбук, допил холодный кофе и достал из шкафа старый рюкзак. В нём до сих пор лежала старая зажигалка, сложенный нож, блокнот с кривыми записями, сделанными дрожащей рукой.
– Значит, еду, – сказал он вслух самому себе.
Он даже не удивился, когда снова услышал шаги под окном. Теперь Малек знал: они не просто следят. Они ждут. И набрал своего секретаря.
***
Лебедова всегда водила так, будто ненавидела машину. Она резко переключала скорости, плевала на ямы и могла одновременно держать руль одной рукой, а второй искать зажигалку в сумке. Малек это знал и поэтому молчал. Если бы он сказал что-то, она бы только назло врезалась в мусорный бак.
– У тебя точно есть права? – спросил он, когда машина с визгом влетела в очередную лужу.
– У меня есть любовь к скорости, – ответила Лебедова, доставая сигарету.
– Сказала бы сразу, я бы надел шлем.
– А ты думал, мы едем в спа? – она хмыкнула. – В сектантский спа с экзекуциями.
Малек усмехнулся, но быстро замолчал. Дорога к дому секты была длинной, и чем ближе они подъезжали, тем сильнее менялся воздух. Даже сквозь стекло чувствовалось – здесь пахнет старым деревом, водой из колодца и чем-то ещё, чуть сладким, почти болезненным.
– Почему ночью? – спросила Лебедова.
– Потому что днём тут слишком тихо. А ночью вещи начинают говорить.
Она молча кивнула. Её это не пугало. После пяти лет работы с Малеком её вообще мало что пугало.
Дом появился из тумана, как голодный зверь. Его стены были серыми, но не потому, что их так покрасили – это была серая от времени и сырости кожа. Забитые окна, косая дверь, следы копоти на стенах – будто кто-то пытался сжечь дом, а потом передумал.
– Симпатично, – сказала Лебедова, заглушая мотор. – Я бы тут сделала йога-ретрит.
– Очень смешно.
Они вышли из машины. Земля под ногами чавкала. Совсем рядом были следы шин – свежие. Кто-то приезжал сюда до них.
– Мы одни, да? – Лебедова достала фонарик.
– Сейчас – да. – Малек посмотрел на дом. – Но это может быстро измениться.
Дверь поддалась легко – словно сама хотела их впустить. Внутри пахло гнилым деревом, холодным железом и чем-то уксусным, как от старых яблок, которые забыли в погребе. Стены были влажными, воздух густым, как в старой бане. И тишина – не просто отсутствие звуков, а та тишина, в которой скрывается эхо старых голосов.
– Это ведь дом, да? – сказала Лебедова, проходя мимо выцветшего ковра. – А ощущение, будто мы зашли в чей-то сон.
Малек не ответил. Он знал это чувство. Он сам так думал, когда пришёл сюда впервые. Как будто дом – не просто место, а чья-то память, которую забыли выключить.
На стенах были надписи. Царапины, вытравленные ногтями. Малек провёл пальцем по одной из них – буквы шли криво, как если бы писавший был слепым.
«Скоро мы станем прозрачными.»
Он знал эту фразу. Когда-то, давно, в другой жизни, он читал её в истории одного пациента – девочки из психиатрической клиники, где он работал, когда только начинал. Девочки, которая говорила, что стены могут дышать.
– Вот это – плохо, – сказал Малек, показывая Лебедовой.
– Что именно?
– Эта фраза. Её писали в трёх разных местах, в трёх разных десятилетиях, и всегда – в местах, где потом исчезали люди.
Лебедова присвистнула.
– Слушай, я тебя, конечно, люблю, но давай договоримся – если тут вылезет призрак, я увольняюсь.
– Сначала найдём дневник, – сказал Малек. – Потом будем бояться.
Они пошли дальше – коридоры, комнаты, лестницы. Дом был не просто пуст – он был вычищен, как вычёсывают шерсть из старой собаки. Ничего лишнего, кроме пыли и тишины. Но в одной из комнат – на полу, прямо в центре – лежал дневник.
– Вот и то что мы искали, специально для нас, – Лебедова присела, коснулась обложки.
– Слишком просто, – сказал Малек. – Такое не оставляют случайно. Но слишком уж легко мы нашли их сообщение.
– Может, его оставил для тебя тот кто ценит твое время. – Лебедова подняла дневник, полистала страницы. – Кто-то знал, что ты придёшь.
– Не верь тому, что написано внутри, а лучше не открывай – сказал Малек. – Это главное правило старых сект. Они пишут дневники так, чтобы те, кто их найдёт, сошли с ума.
– Ты такой весёлый. – Лебедова сунула дневник ему в руки. – Читай тогда ты.
Малек сел на пол, спиной к стене, открыл первую страницу. Почерк детский, буквы пляшут, строки уползают наискось.
«Я не понимаю, почему мы молимся Астрее. Она не похожа на ангела. Наставница говорит, что это новая святая. Но её глаза – как зеркала.»
Малек перевернул страницу. Лебедова зажгла вторую сигарету, ходила кругами по комнате.
«Мы не должны смотреть в зеркала после службы. Зеркала – это двери. В них видно то, что не надо видеть.»
– Астрея – богиня справедливости, – сказал Малек. – Но в этой секте они превратили её в стража. В живое зеркало. Она смотрит на тебя, а ты – на себя. И чем больше ты видишь себя, тем прозрачнее становишься.
– Бред, – сказала Лебедова. – Какой-то народный фольклор для психов.
– Конечно, – Малек перевернул страницу. – А знаешь, что самое страшное в фольклоре?
– Что?
– Его придумывают те, кто уже ничего не боится.
В переплёте дневника что-то хрустнуло. Малек аккуратно разорвал ткань и достал несколько осколков зеркала. Острые, с засохшими следами пальцев – будто кто-то держал их слишком сильно, порезался, но не выпустил.
– Ты серьёзно собираешься это забирать? – Лебедова посмотрела на него, как на сумасшедшего.
– Конечно, – сказал Малек. – Я люблю сувениры.
Они вышли из комнаты. Дом не стал тише. Он стал слушать. Это было почти слышно – как если бы стены задержали дыхание.
– Нам пора, – сказал Малек. – Пока он нас не запомнил.
Они вышли в ночь, и дверь за ними закрылась сама.
Лебедова молчала всю дорогу назад. А Малек держал дневник на коленях, как личное приглашение в чужую голову.
– Ты ведь веришь, да? – сказала она, когда они уже были у клиники.
– Во что?
– В то, что дома могут помнить.
Малек закурил.
– Я верю, что они умеют ждать.
***
Клиника ночью всегда звучала иначе. Лебедова знала это, но сегодня тишина будто натягивалась на стены, как мокрая простыня. Плотно, липко, почти с хлюпаньем. Она осталась задержаться – закончить отчёты, проверить почту, пополнить запасы чая для Малека. Обычные ритуалы обычного вечера, но после дома секты ничего не казалось обычным.
Дневник лежал на краю её стола. Малек ушёл на вызов и сказал, что заберёт утром для расследования. Начальник оставил его как есть, даже не завернул в пакет, просто швырнул, будто это старая книга для рецептов. Но Лебедова чувствовала его. Как будто он смотрел.
Она специально отодвинула его подальше. Спрятала под папку с документами, но ощущение не исчезло. Даже когда она отворачивалась, у неё было чувство, что страницы сами собой приподнимаются. Что буквы текут по бумаге, как муравьи.
Она оторвалась от монитора, потёрла глаза, встала. Пошла на кухню, налила воды. На секунду ей показалось, что вода из крана тёплая, почти горячая – как дыхание. В голове мелькнуло слово – «очищение», но она сразу вытолкнула его, словно комок пищи, ставший поперёк горла. Помощница врача старалась не смотреть в окно, где отражалась комната и она сама.
Возвращаться к столу не хотелось. Лебедова никогда не считала себя пугливой – ну да, мрак, скрипучие полы, ну да, клиенты с мёртвыми глазами, ну да, Малек со своими играми в детектива и оккультизм. Но дневник был другим. В нём было что-то липкое – мысль, которая цепляется за сознание, даже если не читаешь.
Она открыла его. Не потому что хотела. Потому что это лишь дневник и его нечего боятся.
«Я не должна смотреть в зеркало после службы.»
Буквы были обычными. Чернила – чёрными. Но Лебедова почувствовала, как кожа на руках покрывается мурашками. Она заставила себя выдохнуть. Это просто старая книжка, написанная полусумасшедшим подростком. Это даже не её проблема.
Она захлопнула дневник и потянулась за телефоном, чтобы написать Малеку, что всё в порядке. Телефон погас. Она нажала кнопку. Ноль реакции.
– Отлично, – пробормотала Лебедова. – Началось.
Она вернулась к дневнику, подняла его двумя пальцами, как дохлую крысу. Хотела убрать в сейф – пусть Малек сам с ним разбирается. Но на обложке выступила влага. В самом центре, где лежала её ладонь. Она провела пальцем – вода. Или пот. Или что-то ещё, тёплое, как кожа.
Лебедова вытерла руку о брюки, но ощущение осталось.
В коридоре скрипнуло. Очень медленно, как если бы кто-то провёл ногтем по стеклу.
– Господи, – выдохнула она, но не пошла проверять. Это была ночь. А ночью не проверяют.
Она снова открыла дневник – просто чтобы доказать себе, что всё это чушь. Но буквы на странице изменились. Они дрожали, как капли дождя на оконном стекле. В тексте появилось слово, которого раньше не было.
«Лебедова.»
Она резко захлопнула дневник, отшвырнула его на стол, как если бы обожглась. Сердце колотилось так, будто кто-то стучал в грудную клетку с обратной стороны.
– Это невозможно, – сказала она вслух. Её голос показался чужим.
Она пошла в туалет, включила свет. Заглянула в зеркало – просто чтобы увидеть себя и убедиться, что всё в порядке. Но отражение не двигалось. Точнее, двигалось чуть медленнее, чем должно было. Губы замерли в полуулыбке, хотя она сама не улыбалась.
Зеркало было старым, с маленькими тёмными пятнами, где слезла амальгама. Лебедова наклонилась ближе. И в одном из пятен увидела буквы.
«Скоро мы станем прозрачными.»
Она развернулась и побежала обратно в кабинет. Захлопнула дверь, повернула замок. Запереться – всегда первый рефлекс, даже если это ничего не даёт.
Дневник лежал на полу. Хотя она точно помнила, что оставила его на столе.
Лебедова дышала через рот, пыталась вспомнить что-то логичное – что ей говорил Малек про страхи, про то, как они работают. Но внутри была только дрожь, сжимавшаяся в узел где-то под рёбрами.
Она подняла дневник. Открыла его наугад. И увидела там свою собственную запись. Её почерк, её слова, написанные только что.
«Я не хочу быть прозрачной.»
Лебедова бросила дневник на стол, схватила пальто и выбежала из клиники. Замок громко щёлкнул за её спиной. Воздух был холодным, свежим, настоящий. Настоящий, в отличие от всего, что только что происходило внутри.
Она достала сигарету, прикурила дрожащими пальцами. Телефон включился сам. На экране мигнуло сообщение от Малека:
«Если придёт страх, приезжац.»
Лебедова выдохнула дым, выругалась сквозь зубы.
– Но Малек не мог такое написать. Он вообще не общается по-чешски.
***
Больничная палата пахла йодом, несвежими простынями и чем-то сладким, как старый сироп от кашля. Окно было приоткрыто, ветер шевелил жалюзи, бросая тени на бледные стены. Лебедова лежала с закрытыми глазами, но Малек знал – не спит. Просто экономит силы.
Он сидел рядом, не выпуская её руку, хотя это было даже не рукопожатие – скорее, деловой жест, как при подписании контракта. Холодные пальцы, слишком сухая кожа. Пульс бился неравномерно, как метроном с севшей батарейкой.
– Ты выглядишь, как труп, – сказала она хрипло, не открывая глаз.
– Зеркало на входе видела? – ответил он. – Там я вообще как привидение.
Она усмехнулась, чуть качнув головой. Потом с трудом повернулась к нему. В голосе ни тени жалости к себе, только привычная сухая ирония:
– Ты же понимаешь, что я тебя не брошу?
– Мария… – Малек задержал дыхание. Он не любил такие разговоры. Они всегда пахли либо ложью, либо прощанием, а он терпеть не мог и то, и другое.
– Нет, ты послушай, – она стиснула его пальцы, резко, как при попытке отрезвить пьяного. – Ты можешь делать вид, что тебе плевать, можешь строить из себя монаха-одиночку с комплексом спасителя, но я-то знаю. Я видела тебя в тех домах. В архивах. В переулках, когда ты думал, что один. Я видела, как ты выдыхаешь, когда понимаешь, что я рядом. Так что не надо мне этой чуши про «я не могу тебя втягивать».
Малек медленно выпустил воздух. Положил её руку на одеяло, но пальцы не разжал.
– Ты слишком долго со мной, Лебедова. Ты уже не различаешь, где ты сама, а где я. Это опасно.
– Серьёзно? – она фыркнула. – Ты хочешь мне сказать, что заботишься о моих границах? После всего, что мы с тобой вытаскивали из этих стен?
Малек молчал. Только скрип пальцев по пластиковой спинке стула выдавал, что он держит себя в руках.
– Я не дам тебе сдохнуть, Малек. И не дам тебе сделать из меня очередную тень, которая уйдёт в дождь и не вернётся. Ты мой чёртов босс, ты мой проклятый психиатр, ты мой личный демон. И если ты сейчас скажешь мне «отдохни», я встану, сорву капельницу и догоню тебя, даже если ты убежишь в свою монастырскую задницу.
