Цивилизованны ли мы? Взгляд на человеческую культуру
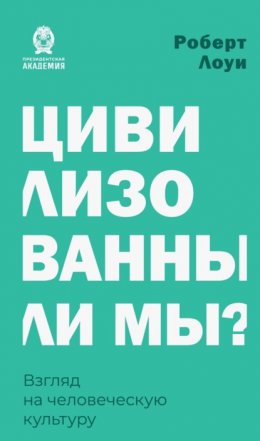
Robert H. Lowie
Are We Civilized?
Human Culture in Perspective
© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2024
Памяти
Эрнста Маха (1838–1916),
профессора истории и теории индуктивных наук
Венского университета
Предисловие
ЭТУ книгу о человеческой цивилизации я старался сделать одновременно как точной научно, так и популярной. За исключением геологического понятия «плейстоцен», для которого не существует замены, я думаю, мне удалось полностью избежать использования специальных терминов.
Пока я был погружен в эту работу, меня волновало прежде всего мнение тех моих друзей, которые не входят в ученые круги и которых слишком много, чтобы всех можно было перечислить здесь поименно. За ценные комментарии и внимательное прочтение большей части этой книги я особенно обязан моей сестре Ризе Лоуи и моим друзьям: Сюзанне и Радиане Пасмор, миссис Мэри Эллен Скотт Уошберн, миссис А. Айзекс, Мариетте Вурхиз, Дональду Кларку, профессору Фредерику Э. Брейтхуту и профессору Дж. С. Шапиро. Я бесконечно благодарен миссис Глэдис Франзен за то, что она порекомендовала мне труды Альфреда Франклина по истории французской культуры. Не менее полезным оказался совет профессора Эрасмо Бучеты, указавшего на малоизвестные испанские источники.
Моими антропологическими аудиторами были профессор А. Л. Крёбер и его супруга, доктора наук. Э. К. Парсонс, Эрна Гюнтер, Рут Бенедикт, М. Мид, доктор Хайме де Ангуло и его супруга и доктор К. Д. Форде. Настоящим я благодарю их всех за терпение и ценные замечания.
Я должен поблагодарить Th e American Mercury за разрешение перепечатать в главах «Образование» и «Гигиена и медицина» некоторые материалы, первоначально опубликованные в этом журнале.
Внимательный читатель заметит, что весь негатив в моих саркастических комментариях, касающихся скандинавской расы, направлен исключительно против приверженцев расовых культов. Поскольку сегодня я не верю в существование нордической расы, я не могу и относиться к ней с предубеждением. А вот скандинавские культуры я всегда очень ценил. Я нигде не чувствовал себя более счастливым, чем в Швеции и Норвегии, являюсь сотрудником Американского скандинавского фонда и в течение многих лет был членом Скандинавского клуба Калифорнийского университета. Именно по этой причине я считаю, что настоящих скандинавов следует защищать от тех их «друзей», которые прикрывают свои зловещие замыслы пропагандой превосходства нордической расы и в то же время насмехаются над скандинавами за то, что они стали цивилизованным народом[1].
Роберт Лоуи, Беркли, Калифорния, 1929 г.
Глава I
Культура
ЕСЛИ бы вы увидели, как один человек плюет в другого, то сделали бы вывод, что он выражает таким образом презрение к жертве. Что ж, это было бы справедливо во Франции, но вы оказались бы совершенно неправы, если бы наблюдали за происходящим в Восточной Африке среди негров джагга[2]. Там плевок является своего рода благословением в критических ситуациях, и знахарь четырежды плюнет на больного или новорожденного. Другими словами, отхаркивание мокроты, чтобы показать отвращение, не является «естественным» поведением человека. Такой символизм носит чисто условный характер. Французский ребенок, выросший в стране джагга, то есть в регионе Килиманджаро, будет плевать на ближнего только в знак доброжелательности. Воспитайте ребенка джагга во Франции, и ему и в голову не придет плевать на новорожденного. Его поведение – в том, что касается плевка, – будет зависеть от окружения, в котором он находится.
Большинство из нас лелеют комфортное заблуждение, что наш способ повседневного поведения – единственно разумный, если не единственно возможный. Что может быть более очевидным, чем трехразовое питание или ночной сон? Но в Боливии есть индейцы, которые считают иначе: они спят несколько часов, встают, чтобы перекусить, ложатся второй раз, встают для еще одного перекуса и т. д.; и когда им хочется, они не гнушаются спать днем. Мы ездим по правой стороне дороги, а разве может быть что-то логичнее для правшей? Но обычаи Англии, Швеции и Австрии[3] прямо противоположны, хотя левшей там не больше, чем где-либо еще. Но уж точно не может быть ничего более естественного, чем указывать указательным пальцем? И снова это не так. Многие американские индейцы делают это, надувая губы. Нет ничего общепринятого и в том, опять же, чтобы отнимать ребенка от груди в девять месяцев: у народов Восточной Африки и навахо Аризоны мальчик четырех или пяти лет вполне может прибежать к матери, чтобы пососать грудь.
Короче говоря, есть только один способ узнать, являются ли та или иная идея или обычай естественными или лишь условными привычками, а именно опытным путем, причем речь не идет о нашем ограниченном опыте, приобретенном в городке Оттумва, штат Айова, США, или даже об опыте западной цивилизации в целом, но об опыте, который распространен среди всех народов мира.
Люди обычно думают и действуют именно так, как они это делают, только потому, что переняли такое поведение и образ мыслей от какой-то своей социальной группы, будь то семья, банда, церковь, партия или нация. Каждое создающееся объединение людей такого рода обязательно придумывает какие-нибудь маленькие отличительные знаки, жесты, значки, песни или еще что-нибудь свое. Как иначе определенное университетское братство могло бы выделиться среди прочих? Определенная греческая буква, значок-заколка и свой собственный уникальный способ издеваться над новичками придают ему необходимую индивидуальность. Каждый человек принадлежит к ряду таких социальных групп, с философской точки зрения некоторые из них важны, некоторые тривиальны. Каждая группа каким-то образом выработала свой особый стиль мышления и поведения и преуспевает в культивировании собственных острот и чудачеств. Соответственно, каждый из нас делает огромное количество вещей, которые навязаны ему как члену какой-либо группы. То, как мы едим, флиртуем, любим, сражаемся, молимся, не является нашим личным изобретением и в значительной степени не зависит от нашего ментального склада. Все, что нам нужно сделать, – это поместить человека в новую обстановку, и он тут же начинает следовать новым правилам игры «жизнь в обществе». Американский негр говорит не на банту или суахили, а на английском; он не молится духам своих умерших предков, а причащается в баптистской церкви. Впрочем, стандарты поведения меняются даже без смены места жительства. Какая колоссальная разница между Англией при Доброй королеве Бесс[4] и при Кромвеле! Или, если взять то, что ближе нам, какова разница между нашим поколением и непосредственно предшествовавшим! Тридцать лет назад американки носили длинные юбки и называли ноги «конечностями»; не секрет, что с тех пор они стали менее привередливы.
Все и вся, что человек подобным образом получает от своей социальной группы, называется частью его «культуры». Учиться у своих собратьев – это особенность человека, ибо даже у высших приматов нет ничего подобного. Положите банан вне клетки шимпанзе, чтобы он не мог до него дотянуться. Желание заполучить фрукт подтолкнет его к изготовлению инструментов. Если под рукой окажутся бамбуковые палки, он будет втыкать одну в другую и, если у него получится достаточно длинный шест, подтянет к себе добычу. Он сделал изобретение – исходное сырье для культуры. Если бы его соседи подражали ему, если бы он учил их своему трюку и все они передавали эти знания своим потомкам, это означало бы, что шимпанзе находятся на пути к культуре. Но они не делают ничего подобного. Обезьяны не являются подражателями, какими их часто изображают, и нашего гипотетического изобретателя совершенно не волнует, станет ли его блестящая идея частью обычного поведения шимпанзе в будущем. Вот почему высшие приматы заходят в пограничные области культуры, но так и не пересекают границу.
Конечно, есть множество вещей, которые шимпанзе передают своему потомству, но это совершенно другой механизм. Шимпанзе рождается с торчащими острыми клыками, на которые нисколько не влияет стая, к которой он принадлежит; но никто из нас не сможет отрастить такие клыки, если покинет общество людей и поселится среди обезьян. Наследственность людей и обезьян неодинакова. Когда самец шимпанзе оплодотворяет самку, половые клетки, которые сливаются, чтобы сформировать эмбрион нового шимпанзе, содержат некую крошечную частицу, которая влияет на образование торчащих клыков. Половые клетки человека лишены этой частицы, поэтому у людей зубы не торчат наружу.
Таким образом, как люди, так и обезьяны наследуют множество присущих им свойств. Наш американский негр может быть баптистом и республиканцем, но он не становится от этого белым и его кудрявые черные волосы не распрямляются. Он может выпрямить свои волосы с помощью горячих щипцов, но его дети рождаются с такими же кудрявыми волосами, какими были его собственные при рождении. Индейцы, проживавшие по берегам реки Колумбия, не были удовлетворены естественной формой своих черепов и сплющивали головы своих детей в колыбели. Но чтобы достичь своей цели, они должны были применять эту меру индивидуально для каждого отдельного ребенка. Однако, поскольку у людей много свойств, являющихся социальными, и при этом столь же много тех, которые являются наследственными, нас начинают беспокоить вопросы, которые мы могли бы попросту игнорировать при изучении шимпанзе, не имеющих культуры. Какие из человеческих черт являются врожденными, свойственными всем людям и отличающими их от других животных, а какие определяются культурой? Являются ли некоторые из врожденных черт характерными для определенных рас, таких как негроидная или североевропейская? Даже если групповое поведение зависит от социальной среды, нельзя ли найти в его основе некие остаточные свидетельства того, то оно определяется наследственностью? Если бы западноафриканская деревня оказалась погружена в атмосферу Афин времен Перикла, стала бы она производить великих философов, скульпторов и поэтов? Или существует определенное ограничение для развития негроидной расы, потому что негроидным половым клеткам не хватает определенных ингредиентов, которые были у греков и передавались в ходе полового акта? Этому важному вопросу будет посвящена одна из глав этой книги.
Конечно, огромные вариации культурных явлений во времени и пространстве требуют некоторого объяснения. Почему сибирские кочевники доили коров, а их китайские соседи нет? Почему доисторические инструменты из Индии так удивительно похожи на те, что находят при раскопках в далекой Испании? Что делало жизнь в Калифорнии во времена индейцев столь отличной от той, которую мы ведем сейчас? Почему перуанцы в 1500-х годах н. э. не использовали инструменты из железа, тогда как у египтян они уже были за 1500 лет до н. э.? Почему японцы копируют наши науку и технологии, но не хотят заимствовать христианство? Почему Олдос Хаксли пишет романы, которые шокировали бы его храброго деда Томаса Генри, будь у него возможность прочесть их, гораздо сильнее, чем сам он шокировал викторианскую Англию пропагандой теории эволюции, так что его прозвали «бульдогом Дарвина»? Это всего лишь несколько из тысяч и тысяч интригующих головоломок. Некоторые из них можно попробовать решить.
Глава II
Перспективы
С ЧЕГО началась культура? Она не могла начаться с вдохновения единственного гения. Наш шимпанзе относится к этому типу, но его изобретательность остается культурно бесплодной до тех пор, пока его товарищи не будут в состоянии усвоить новую идею и сделать ее своей. Таким образом, одаренный человек может сделать потрясающее открытие, которое взволнует его до глубины души; и тем не менее, если у него не будет восприимчивой аудитории, которая передаст его послание потомкам, оно будет потеряно. Следовательно, чтобы культура начала обретать форму, у этого звездного исполнителя с самого начала должна была быть группа поддержки – актерский состав второго плана.
Можем ли мы определить самую раннюю дату совместной работы подобного рода? Ключ к решению дает нам геология. Некоторые орудия находят рядом с костями животных, уже вымерших к периоду, который геологи называют современным[5] или новейшим, то есть длящимся примерно в течение последних 10 000 лет. Орудия, следовательно, тоже старше: они относятся к так называемому плейстоценовому[6] периоду. В этот период земной истории климат, флора и фауна были не такими, какими они являются сегодня. В Сахаре, например, есть районы, где сегодня человек не может прокормить себя. Но именно в этих местах находят сотни орудий труда, а также скелеты животных, которые с тех пор или переселились южнее, или вовсе вымерли. И человек, и животные, должно быть, жили здесь тогда, когда в Северной Африке была эпоха дождей. Примерно в то же время обитатели нынешней Франции охотились на северных оленей, выцарапывали их изображения на стенах пещер и изготавливали гарпуны из их рогов. Значит, климат Западной Европы был тогда намного более холодным, чем сейчас, иначе там не водились бы стада северных оленей.
Итак, вот доказательство того, что человек изготавливал инструменты и занимался искусством в плейстоцене. И не один человек или несколько случайных талантливых мастеров, а целые школы, ибо артефактов и рисунков слишком много, чтобы их можно было объяснить каким-либо другим способом, и мы находим целые серии и тех и других, выполненных в едином стиле. Другими словами, они являются символами культурной традиции.
На сегодня Западная Европа исследована более тщательно в археологическом отношении, чем другие регионы; соответственно, мы знаем немного больше о найденных здесь доисторических останках. Например, люди, делавшие рисунки оленей, судя по найденным черепам и костям скелета, принадлежали к нашему виду, Homo sapiens. До них, конечно, в этих местах жили наши более дальние родственники, относящиеся к нам примерно так же, как осел к лошади. Они принадлежали к тому же роду, что и мы, но к другому виду, Homo neanderthalensis. Этот неандерталец – приземистый, сутулый человек с плоским черепом и обезьяноподобными выступающими надбровными дугами – жил, возможно, от 25 000 до 50 000 лет назад.
Везде, где останки неандертальцев находят там же, где и следы жизнедеятельности охотников на оленей, их изделия лежат в более глубоком слое, так что они, несомненно, старше. Неандертальцу тоже приходилось иметь дело с холодным климатом, и он искал убежища в пещерах, где находят следы его очагов и сделанные им инструменты. Эти последние в основном представляют собой каменные скребки, подходящие для обработки шкур, которые он, возможно, носил, чтобы защитить себя от непогоды.
рис. 1. Кусок кремня или керн с отколотыми отщепами (по Невиллу Джонсу)
Однако далеко не все подобные орудия лежат рядом со скелетами неандертальцев. Похожие формы, но без человеческих костей рядом встречаются также в Восточной Европе и Китае. Когда-нибудь скелеты их создателей, вероятно, будут найдены, и может оказаться, что они принадлежат к другим плейстоценовым расам. Возможно, несколько типов людей наткнулись на одни и те же способы обработки камня. Или, что более вероятно, один из них сделал это изобретение, а остальные скопировали его. Современные археологи научились воспроизводить подобные инструменты. Возьмите кусок кремня и каменным молотком отбейте от него осколки, называемые отщепами (рис. 1, 20). Выбросьте оставшийся большой камень, доработайте маленькие отщепы только с одной стороны, и у вас будет набор плейстоценовых наконечников и скребков (рис. 2). Это не единственно возможный способ обращения с материалом, однако самый простой. Мастер мог выбрасывать отколотые пластины и продолжать обрабатывать керн. Именно так и поступали жители Западной Европы до того, как занялись производством скребков и наконечников в больших масштабах. В качестве основного орудия они использовали сердцевину, сбивая отщепы как с верхней, так и с нижней стороны кремня, пока в руках у них не оставалось большое миндалевидное изделие. Это могли быть тесак или рубило без рукоятки, которые держали в кулаке (рис. 3).
рис. 2. Найденные в Испании инструменты из отколовшихся отщепов (по Обермайеру)
рис. 3. Найденные в Испании ручные рубила грубого и более тонкого типа (по Обермайеру)
Вместе с этими ручными рубилами не было найдено человеческих останков, поэтому мы не знаем, какой вид первобытного человека первым изготовил их. Подобно скребкам, они могут быть продуктом нескольких различных видов доисторического человека, поскольку они встречаются в Африке и Индии, а также во Франции и Англии. Наука также пока оставляет нас без ответа на другой вопрос. Рубила появились в Западной Европе раньше, чем пришла мода на изготовление скребков. Но старше ли они скребковой школы Китая и Восточной Европы? Здесь пока еще не найдено керновых орудий, залегающих ниже отщепочных (рис. 4). Поэтому вполне возможно, что люди в разных частях мира независимо друг от друга разработали две разные техники более или менее в одно и то же время. Западноевропейцы, возможно, изобрели метод отщепа позже или переняли его у восточных соседей. Это могло бы объяснить, почему на Западе рубила встречаются в более глубоких слоях, чем скребки. Но это ничего не говорит относительно времени их распространения в мире в целом.
рис. 4. Китайские инструменты (по Лисенту и Тейяру)
К счастью, наука сделала одно положительное открытие, которое очень помогает определить возраст определенной культуры. Более старые рубила, найденные во Франции, не относятся к ледниковому периоду, в отличие от найденных в Западной Европе скребков, потому что они найдены вместе с костями слонов и отпечатками листьев фиговых деревьев. Таким образом, они попадают в жаркую часть плейстоцена. Следовательно, мы должны учитывать переход от жаркого к холодному климату и обратный переход от ледникового периода к умеренному климату современной Франции. Далее, мы должны признать, что культура в Африке и Азии может быть старше, чем в Европе. Таким образом, если Новейший период Европы начался 10 000 лет назад, общий возраст культуры можно было бы консервативно оценить круглым числом в 100 000 лет.
Многие ученые сочли бы эту оценку чрезмерно скупой. Но даже если ориентироваться на такой скромный возраст, перед нами открываются удивительные перспективы. Как ничтожно коротка по сравнению с ней продолжительность существования высших цивилизаций! В Египте и Вавилонии они существуют шесть или семь тысяч лет, но разве это возраст по сравнению с предшествующей эпохой? Из этих грибовидных наростов на стволе дерева культуры нельзя познать ее суть; мы не можем игнорировать более 90 % истории ее развития до того, как появились первые письменные записи. Давайте тогда попробуем охватить взглядом весь диапазон. Железо впервые было выплавлено около 4000 лет назад; а за 2000 лет до того самые передовые народы земли, вавилоняне и египтяне, научились восстанавливать медь из медной руды. До этого – на протяжении более девяти десятых своего существования – человечество обходилось без металлических инструментов. Везде, где люди когда-либо использовали металлы в более поздние времена, до того как они начали это делать, у них не было ничего, кроме камня, костей, раковин и деревянных орудий. И только наиболее прогрессивные ветви человечества смогли вырваться из этого невероятно долгого каменного века. Для многих племен – например, для австралийцев и большинства американских индейцев – эта стадия оказалась в буквальном смысле бесконечной.
На последнюю, одну двадцатую часть от всей истории культуры приходится изобретение письменности и каменного зодчества, колесной повозки и плуга. Земледелие с мотыгой или копалкой и разведение домашнего скота старше, но ненамного. За 15 000 до начала н. э. и, вполне вероятно, даже за 10 000 лет на поверхности земного шара не было ни одного зерна, полученного из возделанного злака, ни одного выращенного человеком домашнего животного, ни одного металлического инструмента, ни одного сосуда, изготовленного гончарным способом. От восьми до девяти десятых времени своего существования люди кочевали, убивая дичь и собирая дикие корни орудиями из камня, кости, раковин и дерева. Прогресс человечества можно сравнить с прогрессом престарелого ученика, который большую часть своей жизни бездельничал в детском саду, а затем с молниеносной скоростью освоил программу средней школы и закончил колледж. Это ясно видно из таблицы основных стадий развития культуры с указанием их приблизительных самых ранних дат.
Даже самый закоренелый оптимист не может, взглянув на эту таблицу, поверить в естественную склонность человека к быстрому прогрессу. Рывок вперед должен быть результатом совершенно особых условий. Что это могут быть за усилия, станет яснее, если мы сравним с самыми передовыми народами наиболее отсталые. Тасманийцы, вымершие в 1877 году, были примером такой отсталости среди существующих в настоящем рас. У них были жалкие ширмы вместо хижин, они ничего не знали о гончарном деле, и даже их каменные орудия были не лучше, чем у неандертальцев, живших, скажем, 30 000 лет назад. Почему они отстали от других народов на десятки тысяч лет? Взгляд на карту позволяет предположить, что это произошло не из-за жаркого климата. Тасмания находится примерно так же далеко к югу от экватора, как Филадельфия – к северу. Но карта также показывает, что, когда древние тасманийцы пришли на свои исторические земли, они оказались отрезаны от контактов с внешним миром. Ибо ни у них, ни у их ближайших соседей, австралийцев, не было лодок, позволявших пересекать водные просторы. Сравните это с любой из сложных исторических культур. Древний Египет и Вавилония оказывали друг на друга взаимное влияние, а сами вавилоняне были смесью двух народов, шумеров и аккадцев. Китайцы в древности имели контакты с этими высшими цивилизациями, а позже заимствовали некоторые изобретения у малайцев, турок и монголов. Греки строили на фундаменте, заложенном Египтом, а римляне переняли у греков все, что могли. Наша современная цивилизация сшита из клочков и заплаток, собранных со всех уголков земного шара. Ее репертуар богат, а репертуар культуры тасманийцев беден, потому что у нас было бесчисленное множество контактов с чужеземными народами, а у тасманийцев не было почти ни одного. Ибо едва ли у любой одиночной группы людей есть в наличии огромный запас блестящих идей. Таким образом, изолированные племена отстали по той простой причине, что десять голов лучше, чем одна.
Но это верно только в том случае, если все головы более или менее равны по мудрости. В целом, конечно, гораздо более вероятно, что культурные прорывы будут исходить от людей с врожденной способностью к оригинальному мышлению. И снова тасманийцы находятся здесь в невыгодном положении. Даже если они и были примерно ровня современным нам, каковы были шансы, что среди этой горстки островитян южных морей родится гениальный ребенок? Сколько эпохальных открытий или художественных достижений можно записать на счет города Каламазу, штат Мичиган? Тем не менее в нем на сегодня, вероятно, живет больше людей, чем была когда-либо численность населения всей Тасмании. С другой стороны, все те впечатляющие цивилизации, о которых мы знаем, на протяжении своей истории имели огромный запас человеческого материала, из которого они могли черпать, как из океана, что, в свою очередь, давало гигантов интеллекта, как в толпе из миллиона человек можно случайно встретить семифутового[7] гиганта.
Когда население достаточно велико, эти одаренные люди могут быть дополнительно еще и освобождены от рутинной работы по ежедневной добыче пропитания и специализироваться в соответствии со своими талантами. Сегодня наши эксперты в области текстиля восхищаются полотнами, сотканными индейцами Перу. Но как они были произведены? Девушками, заточенными в женских монастырях и всю жизнь посвятившими своим ткацким станкам. Если бы их усилия были направлены главным образом на выкапывание картофеля, искусство ткачества не получило бы такого развития, как в западной части Южной Америки.
Таким образом, можно ожидать новых идей и изощренного ремесленного мастерства везде, где народы достаточно многочисленны, чтобы породить таланты и освободить их от рутинной борьбы за пропитание для выполнения соответствующих задач. Добавьте к этому наличие большого количества возможностей для тех народов, которые бдительно следят за своими соседями и готовы извлечь выгоду из идей, рожденных в других сообществах, и перед нами условия для возникновения действительно сложной культуры.
Однако в наличии возможностей нет и ничего неизбежного. Среди миллионов людей может возникнуть интеллектуальный гений, но соотечественники могут распять его, а его дар отвергнуть. Люди могут случайно войти в контакт с другими группами людей, но могут и держаться от них подальше, и даже если они будут интенсивно взаимодействовать, то могут как принять новые идеи своих соседей, так и отвергнуть их. Таким образом, случайность играет огромную роль в развитии культуры, а в истории цивилизации нет широких прямых скоростных магистралей, скорее она похожа на множество извилистых тропинок. Это печально, потому что приводит к тому, что некоторые светлые умы были сбиты с толку и пошли на свет одного из двух блуждающих болотных огней, географии и наследственности. Нужно установить на этих тропинках таблички, предупреждающие путника.
Глава III
География
КАКИМ образом лопари – иначе называемые саамы – пришли к разведению северных оленей? У одного известного географа есть готовый ответ: никакой другой вид животных не мог питаться скудной растительностью в этом холодном регионе, а природа не создала здесь никаких растений, которые человек мог бы съесть. Звучит правдоподобно, но в корне неверно. Поскольку человечество провело большую часть своей истории, занимаясь охотой и собиранием диких растений, людям, чтобы выжить, вовсе не обязательно заниматься ни скотоводством, ни земледелием. Эскимосы вполне сносно живут, занимаясь охотой, и сами лопари всякий раз, когда по какой-либо причине теряют свои стада, возвращаются к занятию рыболовством. С другой стороны, если бы лопари когда-либо занимались разведением не оленей, а какого-нибудь другого скота, они смогли бы выращивать его даже в Арктике. Это непросто, но возможно, потому что этим занимаются якуты, живущие даже в более холодных частях Сибири. В XIII веке эти скотоводы жили на юге региона, вокруг озера Байкал. Нашествие монголов оттеснило их на север, но, несмотря на это, им удалось сохранить своих домашних животных. Более того, около 6 % якутов переняли у своих новых соседей традицию оленеводства и быстро вытеснили эти племена из их собственного оленеводческого региона, так как смогли успешно применить к оленьим стадам свой опыт обхождения с крупным рогатым скотом и лошадьми.
Таким образом, географический ответ оказывается попросту ошибочным. Он не объясняет, с одной стороны, почему бы саамам не оставаться вечными охотниками и рыбаками, и также не объясняет, почему саамы не смогли научиться выращивать крупный рогатый скот и лошадей, если якуты успешно справляются с этим в столь же суровых условиях.
Индейцы пуэбло также были излюбленным объектом географических «объяснений». Возьмем, к примеру, их каменную архитектуру. «Любой примитивный народ, – утверждает известный археолог, – нашедший путь в эту скалистую страну, полную каменных убежищ и готового строительного материала, вскоре воспользуется этим благоприятным стимулом и начнет использовать камень для строительства». Почему же, зададимся мы вполне естественным вопросом, навахо веками жили именно в этом районе, не продвинувшись ни на шаг на пути к каменной кладке? Тот же автор продолжает рассказывать нам, как пуэбло изобрели ткачество: в их среде обитания было мало крупной дичи, поэтому одежда из кожи была практически недоступна, и им пришлось изобрести ткацкий станок. Но в этом утверждении нет ни складу, ни ладу. Живущие в том же районе пайюты летом ходили голыми, а зимой просто скручивали кроличьи шкуры в жгуты, сшивали их друг с другом и таким образом производили теплую одежду, не занимаясь изобретением ткачества и ткани.
Основная проблема такого рода рассуждений заключается в неправильном понимании человеческой природы. Поместите человека в любую ситуацию, рассуждает подобный идеалист, и он сразу осознает открывшиеся возможности. Соответственно, он сразу найдет как приспособиться к среде – с максимальным комфортом для себя и к эстетическому удовлетворению зрителя. Печальные факты говорят об обратном. Человек не похож на столь разумное существо даже в том, что касается одежды и жилища. Южная оконечность Южной Америки находится на широте Лабрадора, и даже летом там может выпасть снег, а ужасные шквалистые ветра делают жизнь крайне некомфортной. Двое людей капитана Кука замерзли там насмерть летней ночью 1769 года. Зимой леса засыпаны непроходимыми сугробами снега, а на открытых равнинах земля скована льдом. Однако жители Огненной Земли не сумели изобрести подходящей одежды. Мужчины и женщины часто ходили голыми или, в лучшем случае, носили накидку из жесткой шкуры тюленя или выдры, доходящую до талии. К северу от них, в Гран-Чако, хороти живут в соломенных хижинах, которые заливает при любом сильном дожде. Большая часть Канады заселена индейцами атабаски (на-дене). Как ни странно, у племен, живущих на самом дальнем севере, в качестве убежища нет ничего лучше, чем примитивные палатки или навесы, в то время как самые южные представители этих племен наслаждаются теплыми подземными домами. Как география может объяснить такие странности?
Конечно, и эти факты не рассказывают нам всю историю целиком. Физическая среда во многом определяет жизнь человеческих сообществ, хотя и не так прямолинейно, как это часто предполагается. Тому есть как позитивные, так и негативные свидетельства. В лесистых зонах Европейского континента крестьяне строят дома из дерева. Даже король Норвегии, когда останавливается в Тронхейме, живет в деревянном дворце. С другой стороны, в районе Средиземноморья так много камня, что он является очевидным материалом для строительства. В Египте также наблюдается довольно заметная корреляция между материалом, из которого строится жилище, и окружающей средой. Там, где нет камня и мало дерева, мы находим глинобитные хижины. Там, где плато из залежей песчаника подходит к Нилу, жилища вырубаются в скале или строятся из каменных блоков.
Будут ли люди делать свое поселение в определенном месте постоянным или не будут, может зависеть от природы еще больше, чем то, из чего сделаны их дома. В пустынях Туркестана караван может путешествовать неделями, не встретив ни одного жилья. И вдруг в поле зрения появляется густонаселенный оазис. Так как человек может жить только там, где есть вода, то такие города, как Мерв, сколько бы раз их ни разрушали в течение прошедших веков, неизменно возрождаются вновь на том же самом месте. Здесь география ставит ультиматум, и человек либо соглашается, либо погибает. Так что австралиец должен знать назубок расположение каждого водопоя в своей стране, если он хочет выжить, а жители лишенных рек или ручьев Бермудских островов или Тонга должны собирать и хранить дождевую воду. Подобное приспособление является вопросом жизни и смерти: это цена выживания. Напротив, приличная одежда на Огненной Земле или непромокаемые хижины в Чако имеют значение лишь для комфорта. Огнеземельцы и боливийцы не погибают из-за суровых условий жизни, просто их жизнь ужасно некомфортна.
Таким образом, если речь не идет в буквальном смысле о жизни или смерти, природа не предписывает ничего определенного и допускает широкий спектр возможностей приспособить к ней свое существование. Некоторые из них элегантны, другие представляют собой очень грубые способы решения той же самой проблемы. Люди могут строить десятиэтажные жилые дома с паровым отоплением или дрожать от сырости в травяных лачугах. Они могут бросить вызов холоду, наряжаясь в эскимосские меховые парки, или продолжать дрожать от холода, как огнеземельцы, до тех пор, пока не встанет вопрос о том, чтобы замерзнуть насмерть.
Иными словами, география не создает искусств и обычаев: она лишь предлагает возможности или чинит препятствия. Почему у индейцев Гран-Чако нет каменных орудий? Когда-то в прошлом они, должно быть, были у их предков, поскольку обработка камня – одно из старейших человеческих занятий. Простой ответ заключается в том, что, когда они добрались до своей нынешней среды обитания, то оказались в стране, абсолютно лишенной камней. То же самое произошло в Микронезии. Жители Океании, заселившие коралловые атоллы, утратили искусство изготовления каменных тесел, потому что на островах не было подходящего материала. Так что, безусловно, есть много вещей, которые человек не может сделать просто потому, что природа не позволяет ему этого. Например, он не может начать разводить животных или культивировать растения, которые не встречаются в дикой природе в его стране. Но сам факт их наличия никогда не является достаточным основанием для их одомашнивания. Будь иначе, человек был бы избавлен от длительного периода ученичества, который он провел за охотой и собиранием дикорастущих корней.
Пути миграции, по-видимому, являются явным примером влияния географии. Любой, кто увидит доисторические ручные рубила из Франции и Англии, должен будет признать, что они представляют одну и ту же школу; они настолько похожи, что мастерство их изготовления должно было быть перенесено из одной страны в другую. Но как такое было возможно, если в докерамическую эпоху не было лодок, чтобы пересечь Ла-Манш? Потому что в те дни существовал сухопутный мост, по которому докерамический человек мог посуху ходить взад и вперед. Здесь география, по-видимому, является решающим фактором. Но почему это было важно? Только потому, что люди еще не освоили мореплавание. Как только они научились навигации, то смогли позволить себе смеяться над тем, что когда-то было грозным препятствием. Таким образом, культура может восторжествовать над природой, как это было в доисторической Скандинавии. На территории Швеции не могло быть бронзового века без посторонней помощи, потому что там не было олова. Но к бронзовому веку искусство мореплавания достигло такого уровня, что люди легко могли перевозить по воде почти любые грузы, и, соответственно, племена, населявшие древнюю Швецию, были членами общей европейской культуры того периода – не благодаря своим природным ресурсам, а вопреки им. Конечно, есть условия, которые не может преодолеть никакая цивилизация. В XVI и XVII веках скандинавы были охвачены повальным увлечением выращивания фруктов, лютеранский епископ пытался культивировать в Бергене виноград, а датские короли экспериментировали с миндальными деревьями и фиговыми пальмами. Излишне говорить, что их усилия потерпели фиаско.
Таким образом, география может постановить, что таких-то и таких-то вещей не должно быть и что такие-то и такие могут быть, но не диктует, что должно быть. Чтобы понять, почему вещи таковы, каковы они есть, мы должны дополнить географию историей. Только что это значит? Вернемся к нашим канадским атабаскам. Что позволило их южным соплеменникам строить теплые жилища, которые, казалось бы, были гораздо более желанными и уместными для их северных собратьев? Ответ прост. Южные атабаски контактировали с другими племенами, у которых они смогли скопировать полуземлянки, крытые дерном. Их северным сородичам меньше повезло с соседями, поэтому они продолжали дрожать от холода.
Все, что нам нужно сделать, чтобы прояснить ситуацию, – это взглянуть на Калифорнию. Жизнь общества там уже совсем не та, что была во времена индейцев. Индейцы помо, испанцы и англосаксы уже не глина в руках окружающей среды. У каждого из этих народов были свои культурные стандарты, и они, с учетом установленных природой ограничений, определяли то, что они делали в ответ на один и тот же внешний раздражитель.
Иногда ярким примером того, что география может сделать с людьми, называют Японию. Не стоит и дальше повторять эту глупость. Японский климат или ландшафт не претерпели внезапных изменений в 1867 году. Просто государственные деятели Японии решили отказаться от привычной и проверенной временем политики изоляции. Поэтому они вступили в контакт с нашей цивилизацией и взяли от нее себе то, что хотели. Но еще до этого события вся высокая культура японцев целиком представляла собой заимствование таковой у Китая. Важнейшим фактором в развитии Японии были ее отношения с двумя чуждыми группами – не японская география, а японская история.
Короче говоря, география поставляет кирпичи и раствор для культурного строительства. Но план здания культуры народа составляется на основе его прошлого – он определяется тем, что эти люди думали и делали раньше, сами по себе или подражая своим соседям.
Глава IV
Наследственность (раса)
ШИМПАНЗЕ из зоопарка в Бронксе не может научиться говорить по-английски, а негр из Гарлема может. Как ни учи обезьяну, ей не подняться на уровень негра: она не может разделить социальную традицию какой-либо человеческой группы, потому что она «не так устроена». Когда родители негра объединились, чтобы сформировать новую особь, их половые клетки содержали то, чего не хватает шимпанзе, и эту недостачу обезьяне никогда не преодолеть. Наследственность имеет решающее значение.
Студенты колледжей из Соединенных Штатов с треском проваливаются, когда их тестируют на языковые способности вместе с русскими или голландскими сверстниками. Есть ли в половых клетках людей в России и Голландии лингвистический фактор, которого нет у американцев? Но подобное невозможно. Американцы, потомки иммигрантов северо-запада Европы, по наследственности определенно больше похожи на голландцев, чем голландцы на русских. Более того, мы можем обнаружить, что американцы, выросшие в Европе, лишены недостатков своих доморощенных соотечественников и умеют говорить по-французски, по-немецки и даже на правильном английском. Важны опыт, обучение, окружение – наследственность не имеет никакого значения.
Пока все выглядит просто: из всех живущих на земле видов только человек обладает врожденной способностью к культуре, и если человеческие группы со сходной наследственностью демонстрируют различия в культуре, то это различие по определению не является врожденным. Но разве у нас перед глазами нет промежуточных случаев между наличием культуры и ее полным отсутствием? У австралийцев, жителей Андаманских островов и индейцев сиу есть определенная культура, но ее достижения кажутся скудными по сравнению с культурой народов Евразии. Некоторые из этих групп, правда, малочисленны и вряд ли способны быть урожайными на великие таланты[8]. Но в Соединенных Штатах миллионы негров, однако не прослеживается никаких выдающихся культурных подвигов, совершенных этой расой. Почему они отстают, как не от врожденного недостатка?
Однако это обоюдоострый аргумент. Массачусетс выпускает в пятьдесят раз больше ученых, чем все штаты южно-атлантического побережья, – культурное различие наносит ответный удар. Содержат ли половые клетки жителя Бостона в пятьдесят раз больше исследовательского фактора, чем клетки жителя Атланты? Идея абсурдна, потому что в наследственности этих двоих нет заметной разницы. Но если такое огромное расхождение можно объяснить средой их обитания, то разница в достижениях негров и белых также может различаться из-за социального окружения. Я не утверждаю, что это истинная причина, только то, что это может быть фактором, соответствующим приведенному примеру аргументации.
Теоретически есть прямой путь решения вопроса. Психологи могут тестировать группы, набранные из представителей разных рас, одинаковыми наборами вопросов и сравнивать результаты. Те, кто попробовал это проделать, обычно приходят к утешительному выводу, что их собственная раса превосходит все остальные. Антропологи оспаривают справедливость подобных тестов, поскольку результаты обусловлены влиянием культурного опыта испытуемых. У психолога нет права предполагать, что его баллы являются прямым показателем способностей. Если негр получает 90 баллов, тогда как белый получает 100 баллов, мы не можем просто написать:
Негритянская наследственность = 90.
Белая наследственность = 100.
Уравнения должны выглядеть так:
Негритянская наследственность + + X (негритянская среда) = 90.
Белая наследственность + Y (белая среда) = 100.
Два уравнения содержат две неизвестные величины, и, соответственно, система уравнений не может быть решена. Антропологи и психологи до сих пор мучительно нащупывают способы оценить влияние среды и каким-то образом устранить его. Пока ничего не известно о каких-либо положительных результатах.
Между тем необходимо примирить между собой два важных факта. Большинство цветных рас, несомненно, отстали в своей культуре от белой расы, однако беспристрастные наблюдатели, такие как князь Максимилиан фон Вид (Вид-Нойвид), Александр фон Гумбольдт или Морис Делафос, не смогли обнаружить каких-либо поразительных ментальных различий между ними и европеоидами. Однако всем этим данным можно было бы найти объяснение, если предположить, что цветные народы обладали такими же средними способностями, как и белые, но были менее изменчивы. Тогда средний негр будет, условно, принадлежать к тому же интеллектуальному классу ростом 5 футов 8 дюймов, что и его белый конкурент, но гиганты его расы могут отставать от белых семи футов ростом на полфута. Если бы это было так, то негр мог бы на равных с белым заниматься будничными делами его повседневного мира, но не смог бы участвовать в рекордных забегах его интеллектуального гения. Таково мнение профессора Ойгена Фишера из Берлина, одного из ведущих специалистов по физической антропологии в Германии. Он ни на секунду не сомневается, что негры способны выучить арифметику или иностранные языки и получить квалификацию механиков и клерков. Он готов признать, что средний европейский крестьянин или пролетарий ни в чем не превосходит южноафриканца. Но, утверждает он, европейцы более изменчивы не только в показателях чистого интеллекта, но еще больше в отношении воображения, энергии, управленческих способностей. Если расе недостает одного или двух наследственных факторов, обуславливающих ее величие, она не сможет порождать людей-лидеров в науке, бизнесе или политике или сможет делать это очень редко. Это звучит правдоподобно и, по крайней мере, не может быть исключено из рассмотрения как явная бессмыслица. Однако на сегодняшний день это всего лишь предположительная догадка, поскольку никто не смог доказать, что негроидная раса действительно умственно менее изменчива.
Сторонников теории наследственности, конечно, не устраивает такая скромная подачка. Они предпочитают рассматривать негров как расу, лишь немногим лучшую, чем шимпанзе, и, как правило, находят поразительные умственные различия даже среди европеоидов из разных регионов. Высокие светловолосые скандинавы северо-западной Европы, коренастые широколицые альпийцы центральной Франции и южной Германии, маленькие смуглые жители средиземноморских стран, Испании, Южной Италии и Греции, – каждому народу они приписывают своеобразную национальную психологию. Скандинав обладает наследственной предприимчивостью и воинственностью, интеллектуален, идеалистичен и в то же время врожденный империалист. Средиземноморские нации умны, изменчивы, хитры и артистичны. И те и другие обладают превосходством над альпийским тупицей, который наделен только доморощенными добродетелями бережливости, терпения и честности и, естественно, играет роль слуги нордического господина. Эти живописные контрасты призваны объяснить историю европейской культуры.
Все это чистейший вздор. Европейские народы так часто кочевали и вступали в смешанные браки, что ни один регион на континенте не является чисто нордическим или каким-либо другим. По общему мнению, Швеция – самая нордическая страна в мире. Профессор Магнус Густав Ретциус, проведя тысячи антропологических измерений шведских призывников, подсчитал, что только 11 % из них были чистыми скандинавами. Под этим он имел в виду не что иное, как сочетание высокого роста, светлых волос, голубых глаз и удлиненных черепов. Несколько лет назад Шведский государственный институт расовой биологии провел исследование 47 000 призывников. К «более чистому (не абсолютно чистому!) нордическому типу» произвольно отнесены светловолосые люди ростом выше 168 см, ширина черепа которых составляла менее 78 % его длины. Тем не менее этот тип охватывал только 30,82 % обследованных, и ни в одном округе королевства не превышал 38 %.
Но эта оценка намного превышает количество действительно чистокровных скандинавов в Швеции, поскольку и Ретциус, и его преемники принимают во внимание лишь некоторые определенные антропологические свойства. Если мы рассмотрим другие физические черты, которые могли бы характеризовать действительно чистокровных представителей нордической расы, проживавшей на этих землях в 4000 году до н. э., количество ее современных представителей сразу же сократится. Так, Ретциус обнаружил, что более половины обследованных им призывников были выше 170 см (5 футов 7 дюймов) ростом, но едва ли 11 % при этом были светловолосыми и голубоглазыми и обладали вытянутым черепом. А если бы он считал чистокровными представителями расы только высоких голубоглазых блондинов, которые при этом были еще и интеллектуалами, наделенными воображением и особыми способностями к руководству, сколько осталось бы от начального количества?
Есть и другой способ рассматривать этот вопрос. Если передача по наследству интеллектуальных способностей идет по линии передачи расовых черт, то и законы наследственности должны действовать для них почти так же, как и для физических черт. Каковы же эти законы в случае смешанного населения? Современная наука учит нас, что каждая черта наследуется отдельно. Безусловно, лучше всего изучен случай с колонией Рехобот в Юго-Западной Африке. В XVIII веке голландцы и другие североевропейские колонисты начали жениться на женщинах-готтентотках, и их потомки продолжали вступать в смешанные браки. Ни нордическая, ни готтентотская раса не одержали верх. Согласно исследованиям профессора Фишера, их потомки высокие, как северные европейцы, но курчавые, как готтентоты; они унаследовали темный цвет глаз и волос их африканских родителей, но не похожи на них светлым цветом кожи, редко даже приближающимся к желтым оттенкам. Иногда они напоминали Фишеру чертами лица немецких крестьян. У некоторых были очень приплюснутые широкие носы и курчавые волосы, но в то же время они были высокими и тонкогубыми, как их европейские предки.
Какое отношение эти факты имеют к нашей «нордической расе»? Все просто: мужчина может быть высоким и светловолосым, но при этом не иметь никакого отношения к скандинавам по своей психологии. Если вернуться к периоду викингов, то тогда, как сообщает нам Шведский государственный институт, шведы совершали плавания во всех направлениях и привозили женщин и рабов из других стран. Со временем все они были ассимилированы. Позже в страну начали прибывать иммигранты из Южной и Северной Германии, а в начале XVII века в Швеции начали селиться валлонские ремесленники из Бельгии. Эти представители «альпийской расы» были, несомненно, не более чистокровными, чем любой другой современный европейский народ. Предположим, однако, что «чистокровный скандинав» женился на «чистокровной немке». Дети, которых он зачал, вполне могли унаследовать его телосложение викинга и темные волосы их матери, его управленческие способности и ее бережливость.
Короче говоря, если шведы, жившие шесть или восемь тысяч лет назад, и обладали определенными ментальными способностями, то время для определения их с помощью тестов на интеллект или любым иным образом давно минуло. Их склад ума непознаваем, и все рассуждения на эту тему годятся только для метафизических спекуляций. Любое утверждение об этом имеет научную ценность бабушкиных сказок. Действительно, могут существовать групповые различия, но группы, которые различаются, не являются расами. Когда психологи проверяют умственные способности людей, родившихся в Швеции, Англии, Франции и Италии, и строят из этого предположения, что обнаруженные различия являются следствием расовых различий, они демонстрируют прискорбное невежество в истории, антропологии и биологии. С тем же успехом натуралист мог бы взвесить 365 слонов, 500 морских свинок и 135 пауков и объявить миру, что их вес превышает сумму веса 118 слонов, 620 морских свинок и 262 комаров. Какими бы безупречными ни были его расчеты, их результат – бессмыслица. И нет, эта иллюстрация не слишком саркастична, скорее недостаточно саркастична. Ибо каждое из указанных животных наверняка принадлежит к определенному виду, но для данного итальянца мы не знаем пропорций альпийской и средиземноморской, а может быть, и нордической крови. Мы не знаем, будет ли доминировать предприимчивый нордический характер при скрещивании с простодушным альпийским. Мы не знаем, подчинится ли безрассудное нордическое пьянство строгой альпийской трезвенности. Если предположить, что несколько европейских рас, живших, скажем, в 6000 году до н. э., отличались друг от друга, у нас действительно нет ни малейшего основания предполагать, что их особенности были чем-то похожи на те, которые им обычно приписывают.
На самом деле у нас, напротив, есть веские причины сомневаться в этом. Согласно существующей схеме, валлонские шахтеры и кузнецы, переселившиеся из Бельгии в Швецию, были (по крайней мере, в значительной степени) представителями альпийской расы. Однако в окружении чистокровных скандинавов они вовсе не стали занимать подобающее им скромное место. Шведские антропологи описывают их совсем по-другому. «У них живой, откровенный, разговорчивый, вежливый и дружелюбный нрав, быстрое восприятие, тонкое чувство прекрасного, горячее влечение к музыке и неоспоримая творческая сила в области как литературы, так и науки. Их практические способности проявляются не только в самой превосходной в мире кузнечной работе, но и в достижениях, которых добились многие потомки валлонов, будучи государственными служащими на важных должностях. Очевидно, что эти валлоны оказались ценным приобретением».
Как странно! Альпийская раса – хотя, возможно, смешанная со средиземноморской и скандинавской – заняла достойное место среди самых чистокровных в мире представителей нордической расы. Они даже снабдили их важными государственными деятелями. Что станет с излюбленной догмой о том, что скандинав по божественному праву врожденных способностей является господином и повелителем альпийской расы, правителем всего человечества?
Эта изысканная доктрина выглядит довольно сомнительной и еще по одной причине. Если бы это было правдой, самые чистокровные представители нордической расы были бы главными империалистами. Общеизвестно, что скандинавы не таковы. Действительно, наш самый выдающийся расовый теоретик, мистер Мэдисон Грант, проливает горькие слезы по поводу упадка Скандинавских стран. Они перестали быть «питомником солдат» – сегодня «все три кажутся интеллектуально анемичными». Мы не только не разделяем этого вывода, но и не готовы оплакивать то, что потомки викингов больше не грабят города и не насилуют женщин, а производят безопасные спички, превращают вересковые пустоши в пастбища и открывают Южный полюс. Но если они таким образом позволили обойти себя немцам, смешавшимся с альпийской расой, и британцам, разбавившим свою чистую кровь средиземноморской, то это могло случиться только потому, что светлые волосы не являются обязательным признаком успеха в имперской колонизации.
Оставим поэтому поиск интеллектуальных различий между древнейшими европейскими народами метафизикам, шарлатанам и их друзьям-близнецам – жуликам.
Даже если бы между расами существовали врожденные умственные различия, они могли бы объяснить лишь малую часть наших проблем.
Ибо история культуры постоянно показывает нам культурные различия там, где расовый базис был идентичным. Возьмем уже приводившиеся примеры количества исследователей из Массачусетса и с Юга США[9]. Британская культура демонстрирует поразительные колебания. Не несли ли елизаветинцы в своих половых клетках лишнюю дозу животного духа, который был подавлен зарядом мрачности при пуританстве, но оживлен Реставрацией? А как насчет Японии? В 1867 году там не было внезапного притока нового населения; внезапные изменения в культуре произошли из-за того, что власти допустили в страну новые идеи. Ни география, ни наследственность не объясняют разницы между старыми и новыми условиями: ключ держит в руках история.
Есть еще более сильный пример. Художники эпохи охоты на оленей, около 20 000 лет назад, были по меньшей мере равны талантом любой современной расе. Все анатомы, похоже, согласны с этим. На самом деле их мозг был даже значительно больше нашего. Поднялись ли они до высот, которых нам никогда не достичь? Нисколько. Они так и не вышли за пределы охоты и собирательства, так и не вылепили ни одного горшка. Таким образом, благоприятная расовая наследственность может идти рука об руку с докерамической культурой; она также идет рука об руку с нашей сложной индустриальной цивилизацией. Две вещи, столь далекие друг от друга, не могут быть объяснены этим общим фактором. Раса не может объяснить культуру.
Глава V
Пища
Томатный суп
Котлеты из телятины в панировке с жареным картофелем
Стручковая фасоль
Хлеб в ассортименте (пшеничный, кукурузный, ржаной)
Фруктовый салат из ананасов Рисовый пудинг
Кофе, чай, горячий шоколад, молоко
ВОТ взятое наугад меню из какого-то кафе. Несомненно, предложенный набор продуктов превосходит все, что можно найти в любых первобытных сообществах. Но как такое стало возможным? Не благодаря нашим географическим или расовым преимуществам, а лишь потому, что мы без смущения направо и налево заимствовали продукты питания со всех четырех сторон земного шара. Четыреста лет назад наши предки жили там же, где и мы сейчас, и их наследственность ничем не отличалась от нашей сегодняшней, но три четверти блюд из этого меню были им недоступны. Все дело в усовершенствовании средств передвижения. Могли ли тасманийцы отправиться в Америку или Китай на своих жалких плотах? (Рис. 5 и 6.) Испанцы, голландцы и англичане имели парусные суда и не только могли, но и делали это. Но до эпохи трансатлантического мореплавания и великих географических открытий разница между европейской и первобытной кухней была не так уж и велика. До экспедиции Колумба ни один повар в Мадриде или Париже не имел в своем распоряжении ни помидоров, ни стручковой фасоли, ни картофеля, ни кукурузы, ни ананасов, потому что все они родом из Нового Света. Представьте себе Ирландию без картофеля или Венгрию без кукурузы!
рис. 5. Тасманийский плот (по Лингу Роту)
Но давайте разберем наше меню подробнее и начнем с напитков. Что ж, в 1500 году в Европе в буквальном смысле никто ничего не знал ни о какао и шоколаде, ни о чае или кофе. Когда, наконец, они появились, они были слишком дорогими, чтобы сразу стать предметом всеобщей любви. Более того, о них ходили самые странные и ужасающие слухи, так что их нынешнее место в нашей повседневной жизни – вещь совсем недавняя.
Испанцы привезли горячий шоколад из Мексики, где местные жители варили напиток из смеси обжаренных семян какао, кукурузной муки, перца чили и других ингредиентов. Они также использовали бобы в качестве денег, но испанцы не переняли этот обычай и упростили рецепт напитка. Из Испании напиток распространился во Фландрию и Италию, достигнув Флоренции около 1606 года. Во Франции, по-видимому, первым попробовал его брат кардинала Ришелье – как средство от болезни селезенки. Врачи и публика соперничали друг с другом в приписывании заморской диковине чудесных свойств – как добрых, так и злых. В 1671 году мадам де Севинье[10] писала о знатной даме, которая так неумеренно баловала себя шоколадом, будучи беременной, что родила маленького арапчонка (un petitgargon noircomme le diable[11]). Некоторые врачи нападали на шоколад как на опасное слабительное, подходящее только для грубого пищеварения индейцев, но большинство все же придерживались более доброжелательного мнения. Один из них даже рекламировал свой собственный препарат на основе какао как лекарство от венерических болезней. Церковь тоже приложила руку к его популяризации. Должен ли шоколад считаться едой или питьем? От ответа зависело его потребление во время Великого поста. В 1664 году епископ Франческо Бранкаччо опубликовал латинский трактат, доказывающий, что шоколад сам по себе не является едой, хотя и оказался питательным. Сомнения благочестивых прихожан были развеяны, и эта удобная доктрина возобладала.
рис. 6. Каноэ пайютов в тасманийском стиле из Невады (по фотографии Лоуи)
Чай культивировали в Китае еще в VI веке н. э., но в Европе о его употреблении в качестве напитка ничего не знали примерно до 1560 года, а в Голландию его завезли лишь полвека спустя. Англичане начали пить чай ближе 1650 году, а десять лет спустя Сэмюэл Пепис описывал в своих знаменитых «Дневниках» первый опыт употребления нового напитка. Однако в течение долгого времени чай оставался прерогативой высшего общества. Сколько англичан могли позволить себе платить от 15 до 50 шиллингов за фунт? Даже в 1712 году хороший чай все еще стоил 18 шиллингов, а более низкого качества продавался по 14 и 10 шиллингов за фунт, и цена заметно не снижалась вплоть до 1760 года. Как и в случае с шоколадом, новому товару приписывали настоящие чудеса. Французские медики рекламировали его как средство от подагры, а один писатель объявил его панацеей, то есть легендарным лекарством от всех болезней: среди многих других недугов он гарантированно излечивал ревматизм, колики, эпилепсию, камни в мочевом пузыре, катары и дизентерию. Французский ученый Пьер Даниэль Юэ, епископ Авранша, много лет страдавший от катаракты и гастритов, начал пить чай и – о чудо! – зрение и пищеварение наладились. Неудивительно, что его благодарность нашла выражение в латинской элегии из пятидесяти восьми строк, воспевающих этот напиток.
