Протуберанцы
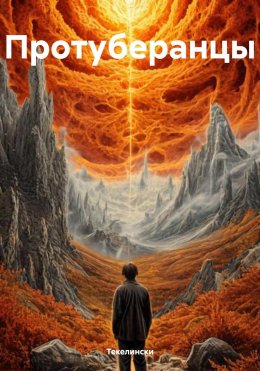
Часть 1
«Только когда ты достигаешь того уровня осознанности, той глубины своего созерцания, при которой почти физически начинаешь ощущать иллюзорность всего и вся, когда прошлое и будущее перестают быть чем-то действительно существующим, когда сам миг бытия, миг твоей жизни превращается в фантом, который невозможно ощутить ни одним органом чувств, когда даже движение в своей определённости, становиться таким же недостоверным и сомнительным фантомом, таким же недоразумением, как и полная безмятежность действительности, = тогда мир открывается для тебя во всей своей фатальной инертности, абсолютной нейтральности и чрезвычайной неопределённости. Пропадают всякие критерии, основы и доминанты, – всё растворяется в бурлящей пучине абсолютной реальности хаоса. И тогда всякое «великое мудрствование», всякое гениальное философствование, самое глубокое и серьёзное становится нисколько не важнее простого заливистого смеха ребёнка. И тогда всякая мелочь, и всякая глобальность, занимает своё место, и ты начинаешь оценивать всё, с чем тебе приходится сталкиваться в жизни, как игру порядков твоих собственных оценок, игру форм и оттенков твоих фантомов. И даже фатум, как аподиктическая необходимость мироздания, становится не таким серьёзным и фатальным.
И тогда для тебя в этом мире перестаёт существовать что-либо важное само по себе. Впрочем, как и что-либо неважное само по себе, и ты вдруг понимаешь, что каким бы не казалось серьёзным твоё глубокое философское воззрение, на самом деле оно нисколько не важнее простого полового акта влюблённых людей. Ведь теперь, ты в глубокой степени осознаёшь, что и то, и другое, лишь – удовлетворение твоей сакральной природы. Лишь удовлетворение различных её плоскостей, удовлетворение различных субъектов твоего внутреннего органоида. То есть удовлетворение своих потребностей различными в своих мотивациях, но одинаковыми в своих механизмах самодостаточными и полноценными «ганглиями осознанности», лишь условно отнесёнными к низменным, в отношении одних, и к возвышенным, – в отношении других. И что присущая всей спекулятивной и трансцендентальной философии важность и величие собственной мудрости, есть лишь важность и возвеличивание собственного мира воззрения, с его специфическими полями созерцания осмысления и оценками, и не более того.
И вот только тогда, когда в тебе просыпается этот демон противоречия, разметающий всё вокруг, и превращающий самые архаичные устоявшиеся истины в труху, – демон потустороннего мира, для которого должна выстроиться новая эстетика, новая платформа бытия, ты вдруг испытываешь настоящее удовлетворение, на которое только способен твой разум! Вкус этого, – несравним ни с чем!»
+++
«Друг мой! Ты говоришь, что нет никакого смысла писать, ибо невозможно написать ничего лучшего и значительного, чем ….
Поистине, таким людям как ты, лучше вообще ничего не читать. Ведь то, что ты разочарован в своих возможностях, идёт от того непонимания, что твои, столь значительные оценки чужих произведений, это твои и только твои способности оценивать, твои и только твои возможности слышать, видеть и чувствовать Великое! Ни одно произведение не имеет в самом себе, ничего конкретно величественного, ничего окончательно и истинно завершенного, и только твои оценки, твоё воззрение делает его столь значительным, столь запредельным и великолепным. А значит и талантливость, и даже гениальность всякого оцениваемого произведения, полностью соизмеряется с твоей способностью к талантливому и гениальному созерцанию. Придание произведению идеальной талантливости, талантливости самой в себе, вне воззренческой оценки наблюдателя, это такая же нелепость, как и то, что мир и его материальные предметы существуют сами по себе, вне нашего воззрения, и имеют свою собственную абсолютную идеальную форму.
Не суди наскоро и поверхностно о выше сказанном, вдумайся, и истинность этих слов откроется во всей своей простоте…»
+++
«Вы не найдёте в моих сочинениях ни полной истинности идеального воззрения, ни абсолютной гармоничности рационально-аналитического знания, ни тем более совершенной мудрости интуиции. Всё – только «человеческое…»
+++
«Во всяком мнении, как бы оно ни казалось абсурдно, на дне его котла всегда можно найти истину. Как и во всяком мнении, блистающем и переливающемся своей истинностью, на дне можно обнаружить откровенную ложь…»
+++
«Я знаю, что в моих произведениях много так называемой «воды». Но также знаю, что это необходимо. Ведь я, пусть неосознанно, стремлюсь к созданию аквариума, а не консервной банки. Ведь для того чтобы в «аквариуме» жило достаточно много «живых рыб», необходимо много воды. Мысли должны иметь пространство для жития, они не должны лежать, словно килька в банке бок обок».
+++
«Тот, кто способен к настоящей возвышенности человеческого духа, тот способен, как на настоящую возвышенную любовь, так и на совершенную искреннюю ненависть».
+++
«Настоящая возвышенность человеческого отношения, это когда ты, к примеру, в беседе с человеком, слушая его, совершенно забываешь о его принадлежности, как к полу, так и к статусу. Мало того, ты совершенно не допускаешь причастности его к чему-либо «низменному», включая не только естественные отправления духа, но и тела. Подобная утончённая возвышенность духа, сталкиваясь с естественными свойствами более грубого плана, отрынивает словно оголённый нерв, боящийся покрыться коростами. И это положение вещей относится не только к области трансцендентального построения и восприятия мира, но и ко всякой сфере человеческого, где только возможна бесконечно утончающаяся возвышаемость…»
+++
«Возвышающаяся над всем обыденным, тянущаяся к облакам «метафизическая иллюзия», не приемлет ничего грубого, ничего низменного. Она освещает своими лучами всё вокруг, обостряя в каждой душе стремление ко всему изысканному. И в то же время, отвергая всё грубое и пошлое, превращая даже всякую естественность, в нечто неприемлемое и недопустимое. Здесь рождались и расцветали не только «цветы великого», но и все «моральные сорняки».
Попробуйте представить себе Будду, занимающегося естественными отправлениями тела, или удовлетворениями своего либидо? Так в наших душах рождались кумиры и идолы, и становились – Боги! А как они умирали, в холодном пламени грубого низкого невежества, напоминать не надо…»
+++
«Надежда, – иллюзорная надежда! – Это, то единственное, что даёт тебе силы и желание двигаться дальше в этом абсурдном и безнадёжном океане реальности…»
+++
«Выстраивание мира трансцендентального различными «ганглиями» нашего единого рефлексивного сознания, чьи воззрения отличаются принципиально, ибо отличаются генетически, повторяют и олицетворяют динамику выстраивания мира феноменального «ганглиями» рассудка, берущими материал из образов, поставляемых слухом, зрением, обонянием и пр. Нам только кажется, что мы слышим, видим и обоняем один и тот же мир. Единым он становится апостериори, при всей иллюзии априорного его существа. Этот мир форматируется в нашем сознании благодаря синтезу «ганглий» рассудка и наших рецепторов, превращаясь в нашем сознании в объёмную действительность. То же относится и к другой категории «ганглий» нашего сознания, к рефлексивному осмыслению. Каждая «ганглия» нашего фолиомультофационного сознания моделирует свой мир, и затем, мир синтезируется в нашем мозге, становясь объёмным целым.
Благодаря наладке неких мостов между «ганглиями», индивидуализации и общей объективации, наш мир становится как разноплановым, так и обобщённым. Точно так же, как мир для нашего эмпирического созерцания слышимый, видимый, пахнущий, осязаемый, вкусовой и т. д. (оттенков бесконечное множество), а в целом обобщённо-объективный. Так мир для нашего мышления, – рациональный, идеальный, интуитивный и т. д., а в целом – разумно-субъективный.
В нашем разуме «ганглии» могут рождаться и развиваться в зависимости от того, какому из направлений мы отдаём предпочтение в своих осмысливаниях, куда устремляет русло реки нашего сознания, наша воля. Условно говоря, куда приходит наибольшее количество «крови». Поэтому, собственно, для него нет ничего невозможного! Ведь в любой момент может появиться совершенно новая «ганглия», которая развившись, смоделирует вокруг себя совершенно новый мир. Это появление и развитие новой, не существующей до сих пор «ганглии», мы называем – Гением».
+++
«Неоценимая заслуга нашего «рационально – аналитического воззрения» в том, что никак, кроме как с помощью инструментариев «рационально – аналитического», мы не в состоянии передать образность своего «идеального», на страницах наших рукописей. То, что я пытаюсь сделать на этих страницах, было бы невозможно, не обладай я, хотя бы в малой степени инструментами «рационально – аналитического». И вот здесь, как раз играет роль образование, как необходимое условие, для возможности передачи всяких метафизических и трансцендентальных идей.
Свои сформировавшиеся образы «идеального воззрения», я трансформирую в «рационально – аналитические коды», раскладывая идею на составляющие, которые в состоянии воспринять бумага. Эти «составляющие», затем расшифровываясь вашим трансцендентным воззрением, снова трансформируются в разуме в «образы идеального», в нечто целокупно законченное. И пусть изначальная суть, по всеобщим законам трансформирования, изменяется до неузнаваемости, но всё же, это единственная возможность хоть как-то зафиксировать и передать «образ идеального воззрения» с помощью языка слова».
+++
«Чтобы стать «хорошим писателем» необходимо по преимуществу, больше читать и меньше думать. Чтобы стать «хорошим философом» необходимо больше думать и меньше читать. Ибо «хороший писатель» пишет для массового читателя, «хороший философ» же, в первую очередь для себя, и для того небольшого круга, которому будет интересна его глубина. И в том их принципиальная разница. И это только на первый взгляд, этот тезис – спорный. Кто осознает всю глубину этого различия, тот поймёт, почему у «хорошего писателя», в его трудах, как правило, мало глубины, и много музыкальной гармонии образности сюжета, и красоты хрестоматийно правильного слога, воплощающегося в художественно отточенное и слаженное изложение. У «хорошего философа», как правило, мало всего того, что так привлекает массового читателя, но всё это с лихвой компенсируется глубиной умозрения, и проникновенным угадыванием незримого и потаённого.
Всё это часть той парадигмы, в которой соотношение глубины и поверхности, для всякого созидающего творчества – дифференцированно относительно. Парадигмы, определяющей всякие поля искусства, на которых талантливое, отличается от гениального, именно этой соразмерностью, форм относительных парабол воззрения.
+++
«Взаимодействие вещей, на примере нашего разума: Желания – ищут возможности, возможности – рождают желания» …
+++
«Человек именно тогда стал настоящим человеком, когда начал ограничивать свою животную свободу, то есть когда обрёл ответственность. Но кем он стал, когда начал ограничивать свою психофизическую свободу, свободу своего духа и своего разума? …»
+++
«Тебя всё время мучает один и тот же неразрешимый вопрос: Что важно в жизни, а что не очень, что первостепенно, а что второстепенно, что по-настоящему достойно чтобы посвятить ему свою жизнь? И хотя ты понимаешь, что разрешить этот вопрос всё равно, что найти окончательную истину, – что найти «философский камень», но, тем не менее, этот вопрос периодически встаёт несгибаемым колосом в твоём воспалённом разуме. Ибо ты постоянно замечаешь, что всякая на первый взгляд «неважность», при определённом угле зрения становится наиважнейшей, как и всякая «важность», – переворачивается, высвечивая своё покрытое ракушками дно. И ты снова в недоумении…»
+++
«Чтобы заглянуть за грань, необходимо видеть эту грань, или хотя бы априори знать её. Ведь невозможно перелезть через забор, не видя его, – не будучи уверенным, что он существует. Мы, люди, очень хитрые натуры, мы сами для себя определяем условные границы, чтобы затем преодолевать их. Ведь мы подсознательно чувствуем, что иначе удовлетворение как таковое, – невозможно. В отсутствии естественных границ и препятствий, наше желание удовлетворяться, заставляет нас рисовать себе искусственные границы, строить для себя самих, номинальные и откровенно фальшивые препятствия».
+++
«Вы когда-нибудь задумывались, почему человек так склонен ограничивать себя, в чём смысл его самоистязания? Зачем нужна эта внутренняя напряжённость? Для усиления аффектов? Может быть. Но он не может не понимать, что усиление аффектов – опасно! Впрочем, когда это наша «воля» задумывалась над опасностью и останавливалась перед ней? Она скорее всегда стремилась к ней и жаждала её. Её «сила» всегда была прямо пропорциональна желанию опасности. (Или наоборот). «Слабая воля» лежит неподвижно под камнем, не смея высунуть носа. Для неё представляет опасность даже лёгкий ветерок. «Сильная же воля» – сама ищет бурю, чтобы насладиться той великой опасностью, которую несёт собой всякая буря.
Всякая сила, чтобы ощутить своё бытие и мощь, обязательно должна удариться во что-то достойное её. Другой возможности, чтобы почувствовать себя, у неё нет. Все разговоры по поводу того, что «сила» может не действовать и, тем не менее, сохраняться как «сила», – полные бредни. Ибо то, ныне повсеместное убеждение, что человек обладая определённой силой, может спокойно жить, не проявляя эту свою силу, и всё же оставаться сильным, я считаю именно бреднями. Как только в «силе» нет необходимости, она не минуемо засыхает. Её существование и её потенциал определяется только - необходимостью. «Сила» любого порядка, существует и развивается только при наличии объекта воздействия, то есть – врага. И вот мы опять пришли, к необходимости врага…»
+++
«Мы ищем главную причину алкоголизма, как ищем единственную причину меланхолии. Но у всякой страждущей души, могут быть различные причины бросаться во все тяжкие. Алкоголизм страшен не тем, что разрушает семью, ухудшает здоровье, выдавливает человека из выложенных и закреплённых в обществе порядков вещей, но в первую очередь тем, что человеку становиться не интересно жить на трезвую голову. Мир для него потихоньку закрывается, и жизнь становиться пустой и безрадостной. Всякие изысканные тонкие желания, возвышенные стремления, имеющие своей необходимостью некоторое напряжение сил, натыкаются на внутреннее – «зачем?!» Стремления – умирают. Трезвое проведение времени, в силу растущей пустоты, становиться тягостным. Внутренние силы затухают, душа – атрофирована. Потихоньку умирают последние надежды, мир давит своей фатальностью».
+++
«Жизнь – чреда страданий. Но представьте себе, какой была бы жизнь, в отсутствии всякого страдания, то есть, в отсутствии всякого желания…»
+++
«Рай – место удовлетворения всех желаний. Трудно представить себе, более адское место…»
+++
«Философ – политик, – смешон! Так как со своим идеалистическим мышлением, занимается рациональными вещами…»
+++
«Шизофренику, по крайней мере, не грозят муки одиночества…»
+++
«Почему мы ищем истину у древних? Ведь по логике вещей совершенство достигается со временем? И, казалось бы, чем дольше живёт человечество, тем больше набирает мудрости. И самые тонкие, самые выверенные истины, должны исходить от поздних поколений. Но, тем не менее, мы ищем мудрость у древних. Может потому, что подсознательно чувствуем, что «древние», как «пионеры философии», говорили исходя из чистой интуиции? Ведь во всяком осмыслении первична именно интуиция. Позже, она обрабатывается нашим рационально-аналитическим разумом, который наделяет идеальную мысль – «разумным порядком», и некоей обязательной целесообразностью. И она, приобретая свойства «практицизма» и «рационализма», теряет свою первоистинность.
Древняя цивилизация в целом, – цивилизация инстинкта. Нынешняя – всё более, и более разума рационализма. Древние были наивны, а значит, глубоки в самых сокровенных, самых скрытых от простого взора, вещах. Их душа не была нагружена под завязку «мешками полезности», «тюками – зачем» и «для чего». Их паруса наполнялись ветрами, идущими из глубоких пещер. Их инстинкты не были ещё так подавлены рациональными, практическими мотивами. У них ещё сохранялась некая «первородность духа».
Истинная мудрость вытекает подобно роднику, из самых глубин души. Позже этот «родник» вбирает в себя слишком много всего. Он вбирает в себя «соли практичной разумности», той, что делает человека способным выживать в толпе себе подобных. Но тем самым, отбирает у него искрящуюся чистоту, и глубину прозрачности, делая его поверхностным во всех отношениях, более приспособленным к практической жизни, а значит, к жизни мелкой, жизни поверхностной. Человек потерял «глубину первобытности», в угоду практической выгоде. Его разум всё более и более превращается в один из винтиков общего механизма, и он, механически реагирует на всё, в соответствии с разумной рациональностью толпы.
Древние знали истину потому, что черпали её из чистого источника познания, из собственной души, где сверкающая отблесками вода, где дно открыто для взгляда страждущего, где «карпы умозрения» медленно плавают в прозрачной стихии провидения.
И древние ценили эту истину, пока не появилась диалектика. Диалектика – это рациональное в идеальном. Её возникновение и развитие, на почве общего мышления, такая же закономерность, как возникновение и развитие математики, на почве рационального мышления. С возникновением в разуме человека «ганглия математического», появление диалектики, было лишь вопросом времени.
=Там, где впервые возникает торговые, (изначально обменные), отношения, там возникает необходимость в математике.
=Там, где впервые возникает интерес, там возникает необходимость в диалектике.
Возникла потребность придать всему номинал, нечто, что можно ощутить в ладони. Полезность во всём! Этот лозунг, как никакой иной объясняет развитие всего нашего мышления, от древности, до сегодняшнего дня.
И вот, на почве идеального мышления, которое не знает, что такое интерес, появляется Диалектика. И началось! – Распространение и развития «целесообразного разума» по всему свету. Вакханалии спекуляций, – игр с рассудком! В этой новой реальности, истина становилась чем-то, чем можно манипулировать, в угоду собственной латентной выгоде. Обменивать, продавать, и даже прикреплять словно кокарду, к головному убору.
«Рациональный разум» узурпировал власть, и возомнил, что может создавать свои истины, путём создания логических постулатов, и закреплять их очевидными неопровержимыми доказательствами. Где уже не сама истина играет первую скрипку, не суть, а то, как это преподнесено, то есть – форма.
В первородной истине важна не форма, но причина. – Откуда исходят её лучи, где питает свои глубины? Здесь форма не имеет значения. Ибо по большому счёту она, просто-напросто, не может быть определена.
Первородная истина, если она глубока, и идёт из самой сути вещей, не нуждается ни в каких доказательствах. Они только портят её, упрощая её, и, в конце концов, убивая…
Мы ищем истину у «древних» потому, что подсознание нам подсказывает: «Первый взгляд на вещь, всегда наиболее близкий к истине. «Идеалистический» интуитивный взгляд, – правдивее «практического», в нём мало заинтересованности, он почти не ошибается. И мы, где-то в глубине души, тоскуем по той чистой воде горного озера, со стайками серебристых карпов, и мечтаем, что когда-нибудь вернём себе «девственность природы собственного умозрения». Но все эти мечты тщетны, ибо «свинец» уже никогда не станет «ураном», а мы никогда не станем свободными от гнёта «рационального практицизма», в который окунулся, и уже практически в нём переродился, наш разум…»
+++
«Отличительная стагнация духа, на примере возникновения и становления религий. Сущность «старых вероучений», их внутренняя природа – ближе к «инстинкту». Относительно «молодые вероучения», всё более ближе к разуму, к практицизму. Отсюда и противоречивость «молодых вероучений». (Хотя, дело может и не в этом, но в том, что молодость вообще противоречива и воинственна в своей сути)».
+++
«Какой правды вы хотите от истории, если никакой правды нет даже в ежесекундной современной реальности. Какой истины вы ждёте от исторических артефактов, если истины нет, даже в формирующейся на твоих глазах, современности…»
+++
«Все что мы есть, все наши внутренние и внешние ощущения, то есть, весь внутренний и внешний мир, всё феноменальное и всё ноуменальное, есть суть отражение. Мы отражаемся во внешних предметах, они отражаются в нас. Никто никогда не сможет достоверно определить где «истинная сущность», а где его «отражение», кто в ком отражается, и кто кого на самом деле создаёт. Всё лишь – относительное взаимодействие, в котором не существует абсолютных форпостов и бастионов.
Вы когда-нибудь ставили одно зеркало перед другим? – Это, хотя и не точная, но достаточно наглядная модель нашего эмпирического воззрения и феноменального постижения. Модель взаимоотношения с самим собой, и с окружающим миром. Наша «действительность» – есть синтезированное отражение ноумена – в феномене, и феномена – в ноумене».
+++
«Всякое наше искусство есть то же самое «зеркало», отражающее многочисленные формы динамических сущностей, (ганглий), принадлежащих разумной и душевной организации наблюдателя. И всякое произведение совершенного искусства, – лишь совершенно вылитое мастером, – зеркало, способное чисто, без погрешностей, отражать всю палитру одной из сторон душевной организации наблюдателя, предрасположенного к восприятия собственного отражения.
Изобразительное искусство, или музыкальное, – вопрос лишь в определённых формах отражения, в «реагирующих ганглиях восприятия» наблюдателя, имеющих каждая свою сферу, своё поле обзора, и соответствующего метафизического образа вытекающего совершенства. Синтез этих разноплановых возможностей порождает новые формы искусства. Но они всегда определяются источниками, сенсорными возможностями определённого плана. То, что можно услышать, – нельзя ни увидеть, ни потрогать. То, что можно увидеть и потрогать, – нельзя услышать.
Но то, что существует лишь на полях трансцендентального опыта, невозможно ни потрогать, ни услышать, ни увидеть. (Литература, поэзия, философия). Здесь существуют и развиваются совершенно абстрагированные от эмпирики феноменального восприятия, формы искусства. И для того, чтобы найти собственное отражение в этих «зеркалах», необходимо развить совершенно новые «ганглии», – «ганглии трансцендентального опыта».
+++
«Знаете, какие произведения литературного искусства, я считаю совершенными воплощениями синтеза инстинкта и разума, идеального и рационального, трансцендентального и эмпирического, и отношу к самым великим когда-либо изготовленным человеческим духом, «зеркалам». «Зеркалам», в которых наверняка, каждый, кто будет в них смотреть, всегда будет находить что-нибудь до сих пор неизвестное, и, в сущности, до сих пор не существующее. Ещё не одно столетие люди будут находить здесь отражение не похожее на другие, ибо это всегда будет собственное отражение. Произведения, которые всегда будут трактоваться так, как на то способен смотрящий в них.
Ибо, как в изобразительном искусстве все, что написано символами, так в литературном «написанное притчами», – не имеет дна! А значит, не может быть до конца рассмотренным, до конца объяснённым и истолкованным. В первую очередь это, конечно же Библия. И вряд ли когда-нибудь её «общая наивность» кого-нибудь оттолкнёт. Кто ищет, тот обычно находит даже в «наивном», в «наивном» – прежде всего. Библия – есть воплощённое в слове отражение сути воспринимаемого нами мира, воспринимаемой действительности, невозможность познания которого до конца, невозможность вычерпывания этого колодца, отражено в невозможности окончательного познания Библейской апологии, доведения её до простого осмысления.
В каждой существующей и развивающейся культуре, на определённом этапе развития были созданы подобные «зеркала». От Востока до Запада, от Юга до крайнего Севера, – всюду, где укреплялся «человеческий клан», где созревало общее метафизическое сознание, возникали подобные «зеркала». И пусть они отличались своей кривизной и глубиной отражения, но, тем не менее, каждое из них всегда вызывало трепетное к себе отношение. Ибо только они, в эти тёмные времена, могли отразить всю глубину и совершенство человеческой души, только они могли спровоцировать человеческий дух на самое великое, только они были способны объединить вокруг себя всякое разрозненное стадо.
И в большинстве своём, такие «зеркала» выливались именно на основе религии. Ибо в тёмные времена религия всегда была источником и форпостом человеческого духа. Ведь только религия была способна твёрдые камни грубого невежества, превращать в утончённые ростки гармоничного цвета на полях всякого житейского опыта. И хотя и это должно быть пережито и изжито (и этого уже требует современный дух) но всё же уже в этом их величайшая заслуга.
Но не только религиозные поля осмысления были историческим источником и основанием для подобных «зеркал». Существуют «евангелие» антирелигиозного характера. Знакомы ли вы с «Заратустрой» Фридриха Ницше? Вы всё ещё полагаете, что «форма евангелие» может быть только в рамках определённой религиозной конфессии? Сталкивались ли вы когда-нибудь с Нострадамусом, с его катренами? Чем не «Евангелие»? Несколько иного направления, иной формы, ограниченное и разорванное на куски, но всё та же великая недосказанность и таинственная бездонность притчи. – То же «зеркало для героя»!
Эти «зеркала духа» вечно будут вызывать у нас восторг. Мы всегда будем получать наслаждение высшего порядка, заглядывая в эти «изогнутые гиперболические метафоры нашего духа». Здесь наиболее непосредственно наш разум, возбуждённый собственным отражением, услаждается своими догадками, удовлетворятся обнаружением и угадыванием собственных тонких форм и движений, собственной внутренней архаической гармонией. Мы всегда будем удивляться, и восторгаться этими воплощёнными в слово фолиантами судьбы. А по сути, восторгаться собственными глубинами, игрой собственного воображения, и способностями видеть слышать и чувствовать, за пределами эмпирического мира реальной действительности».
+++
«Как только ты начинаешь задумываться над тем, зачем собственно ты живёшь, для чего вообще дана тебе жизнь, ты тут же встаёшь на неверную дорогу. Ты встаёшь на тот путь, который неминуемо ведёт к абсурду. Ведь с таким же успехом можно задавать вопросы, вроде: Для чего существует материя и вообще всё сущее? В чём цель сущего, в чём цель бытия? Бытие – не может иметь цели. Ибо наличие цели, – подразумевает гипотетическое её достижение. А достижение есть – законченность. Законченность бытия – что может быть абсурднее?
Но в силу строения своего рассудка, человек не может не задаваться подобными вопросами. И на этом пути, в конце концов, он неминуемо приходит к Богу. Это последнее пристанище на пути к истине. Это то, что даёт хоть какую-то надежду на «целесообразность мира». По крайней мере, есть куда устремлять свой внутренний взор, есть основа для нашего действительного разума не дающая проваливаться в бездонную пропасть.
Но существуют вопросы иного порядка, имеющие иную «векторность», такие как: в чём суть нашего существа? Как мы существуем? И хоть эти вопросы так же не имеют конечного разрешения, но всё же периодически находят удовлетворение в нашем сознании и не приводят к «переворачиванию лодки». То есть не дисгармонируют нашу волю и всё наше существо».
+++
«Вечный диссонанс, как и окончательный консонанс – убивают волю, этот апологет бытия. Ведь суть воли – периодическая смена желания и удовлетворения. И всё, что не соответствует этому «вездесущему маятнику», этому балансу, – чуждо ей, опасно, а значит, противно…»
+++
«Любовь – есть Бог. Это выражение, в моём понимании символизирует собой апофеоз ощущаемости нами жизни, как некое выходящее за пределы физики мира, чувствование собственного тончайшего бытия, – бытия глубин собственной природы…»
+++
«Когда я берусь за какое-либо произведение, я совсем не представляю себе, что может из этого получится. Так, наверное, Бог совершенно не знал, что у него получится, когда взялся сотворить этот мир…»
+++
«Не к тайне, олицетворённой проекции «Великой пустоты», мы тянемся в нашей бытовой действительности, но к откровенности, к этой воплощённой иллюзии, к этому апологету всякой жизненности. Откровенность. – Вот именно то, что прельщает в человеке, что завораживает и околдовывает нас. Нет, не тайна, как непроглядная темень безотзывности, где брошенный камень никогда не отдаётся эхом, где нет отражения, в силу лукавой грубоватости душевного зеркала, но откровение, – сияющее чистотой и блеском отражаемой палитры, привязывает нас к объекту созерцания. Отсутствие «дощатых заборов» в душевном поле, открывает перспективы озарённости идеала душевной гармонии, в которой так легко, и где полёт одухотворенного вдохновения покоряет вершины и озаряет глубины, не отравленные таинственностью недоступного запределья. В откровенности, отражается вся глубина иллюзорности, вся твоя добрая сущность…»
Метаморфозы осмысления
= «Что есть перспектива бесконечности бренной жизни, – пред счастьем одного единственного мига?!»
= «Что есть надёжность всего возможного рационализма, – пред безнадёжной мимолётностью величественной парадигмы идеального просветления?!»
= «Что есть вечность бытия, – пред скоротечной реальностью твоей жизни, твоей действительности?!»
+++
«Каждая система, или сказать языком биолога так называемая «морфологическая единица», будь-то человек или человечество, есть совокупность, – альянс миллионов отдельных единиц, отдельных личностей, каждая из которых мыслит по-своему. Но в совокупности, в слиянии, даёт обобщённую разумность единицы следующего уровня. Хотите найти истоки мудрости нашего инстинкта, истоки нашей необъяснимой интуиции? Ищите их в клетках! – Там, в самой потаённой глубине, гнездятся истоки нашей мудрости…»
+++
«Почему тебе так необходимо признание, зачем оно тебе? Зачем ты непременно хочешь показать своё творчество людям? Тебе недостаточно того, что ты уже сам оцениваешь свои произведения достаточно высоко, что ты сам ценишь себя, как незаурядную личность? А может здесь кроется то недоверие своему собственному мнению? Ведь в силу того, что ты сам лицо заинтересованное, а значит, скорее всего, не можешь быть достаточно объективным в своих оценках к самому себе, и тебе просто необходимо мнение хладнокровного, незаинтересованного взгляда. Ведь тебе просто необходима независимая оценка, чтобы быть уверенным, в объективности собственной оценки. Тебе необходимо подтверждение? Кто же, кроме посторонних наблюдателей может дать такую оценку? Тебе нужна полнота оценки, и получить ты её можешь, лишь опубликовав свои произведения. Но дело в том, что и в этом случае ни о какой объективности речи быть не может. Во-первых, твою «кровь» вряд ли кто-нибудь поймёт и оценит. Во-вторых, о какой объективности ты вообще мечтаешь? Кто способен оценить это?!»
К музыке
«Музыка, это метафизический диалог между тончайшими сущностями человеческих душ. Этот язык понятен только этим тончайшим сущностям…»
+++
«Весь секрет музыки, её волшебного влияния на нашу душу, – в резонансе, который зиждется на диссонансах и консонансах, символизирующих собой волновую смену стремления и удовлетворения, присущую нашей воли, и берущую свои начала из волновой парадигмы самой природы. Наша воля, а вслед за ней и душа и разум, воспринимая родственные переливы, резонирует и начинает петь в унисон. И это положение является главным аргументом, что музыка представляет собой некую «звуковую матричную основу», отражающую последовательность во времени, всяких трансформаций эмпирического воззрения. Форму соразмерных рядов диссонансов и консонансов, в точности повторяющих душевную устроенность. Именно в последовательности во времени, присущих всякой музыке, соразмерной внутреннему балансу всплесков и спадов душевного агрегата, заключено, то резонирующее воздействие, так удовлетворяющее весь наш организм, от «самых низов», до «самых верхов». Именно в этой соразмерности, заключена тайна воздействия музыки на нас. Музыка являет собой отражение сокровенной сущности нашей воли, нашей души. Она есть воплощение её гармонии, олицетворённого в звуковой палитре внутреннего устройства. Палитры, отражающей и воплощающейся в звуках, как некоей матрице сокровенной структурности душевного агрегата, его тонкой совокупной фигуральности, в синтезе разумно – инстинктивных мотивов».
+++
«В музыке мы можем ощутить то, что не доступно нам ни какими иными путями. А именно, в ней скрыта возможность для нашей души, почувствовать саму себя, свою глубинную сущность, своё самое сокровенное «Я», и даже более того. Она даёт возможность почувствовать саму природу, – тайну мира! Ведь звуковая гармония, это отражение гармонии всего нашего «организма», совокупное отражение каждой его клеточки. Словно на вылитом мастером зеркале, где каждая крупинка серебра, отражает свой кусочек мира, а в совокупности общую палитру мироздания.
Голос каждой клетки нашего тела, спетый в унисон, словно капля дождевой воды, падающая в ручеёк и вливающийся в полноводную реку, бурным потоком выливающуюся наружу. Именно эту реку мы называем сакральным и метафизическим именем – Душа. И придаём этому понятию трансцендентальный смысл. Она транслирует все свои упорядоченные в алгоритмы движения, – во вне, моделируя тем самым общий поток гармоничного течения природы…»
+++
«Музыка, которую мы слушаем, оказывает на нас следующее действие: Она проделывает в нашей душе и в нашем разуме, некие «хреоды», колеи или тропинки. И чем чаще та, или иная музыкальная форма прослушивается нами, тем глубже эти «хреоды». И эта форма динамического воздействия на нас, сохраняется во всех аспектах восприятия нами мира вообще. Всё, с чем мы, так или иначе, сталкиваемся в своей жизни, все, что так или иначе воздействует на нас, проделывает в нас эти «хреоды».
Вы, наверное, замечали, что в музыке очень редко придумывается что-то по-настоящему новое. Как только кто-либо пытается придумать что-то новое на этом поле, новую гармонику, он тут же сталкивается с проблемой. Она скатывается в эти уже однажды пробитые «хреоды». И, в сущности, получается всё-то же. Проложение в нашей душе новых «хреод», сопряжено с длительным напряжением сил, и требует не дюжинного таланта.
Так и во всём, что вообще касается нашей души. Наше поведение, проложив глубокую «хреоду» собственной динамики, поменяться, может только с большими усилиями. «Хреоды нашего обучения», «хреоды нашего вкуса», «хреоды разумения», да они – повсюду! Всякое наше восприятие, всегда имеет «хреодную конституцию». Не важно, динамического или статического характера, то, или иное восприятие…»
+++
«Наша душевная организация так устроена, что ей, хоть и нравится периодически двигаться по уже «проложенным трассам», но если это делать часто, то ей скоро надоедает, и она требует новых путей, вызывая в нас страдание скуки. И наша душа находит эти пути незамедлительно. В музыкальных произведениях это воплощается в музыкальную орнаментику, различного рода мелизмы, транспортирование, и наконец, в откровенное нарушение, – синкопу.
Так как наша душа имеет в себе бесчисленно возможное количество «плоскостей восприятия», каждая из которых испещрена «хреодами динамического воздействия», «кривыми тропинками осознания действительности», то и всё разнообразие окружающего нас мира символизируется этим «хреодным принципом». Ты можешь сколько угодно «испещрять плоскость восприятия» новыми «хреодами», но сама «плоскость» останется неизменной. Ибо она – есть трансцендентальное воплощение сформировавшейся «глобальной ганглии» твоего сознания. И, в этом смысле, любое разнообразие – иллюзорно. Его концептуальность, на самом деле, находится в поле бесконечно возможных, по своей конфигурации, а значит бесконечно возможных по своим восприятиям, «ганглий осознанности». Всякая «ганглия» нашего восприятия, имеет свою неповторяющуюся нигде и никогда, плоскость. За которой, для неё, – не существует ничего. И даже появление новых «ганглий», новых «плоскостей восприятия», выводящих нас на новый уровень, так же не решает общей проблемы иллюзорности разнообразия».
+++
«Музыкальность – присуща всякому искусству. Музыка, в сути своей, олицетворяет природу спектра, воплощающегося в цветовую гармонию изобразительного искусства. То же самое, но в звуковых формах и их тональностях. Музыка, её игра, в отличии от игры света и теней, проходит на полях времени. Игры света и теней, имея туже природу, проходят на полях пространства. И точно так же как в световых воплощениях, художник, при всех своих бесчисленно возможных композиционных конфигурациях, имеем только семь цветов, так музыкант, имеет в своём распоряжении музыкальный спектр лишь в семь нот. Но в противоположность световым возможностям искусства, где помимо игры цветов и оттенков, присутствуют критерии бесчисленно возможных форм, в музыке, есть лишь линия, она отражает чисто временное движение души, и поэтому в её поле деятельности чаще всплывает понятие – плагиат.
На мой взгляд, то, что называют плагиатом в музыкальном спектре, в подавляющем большинстве случаев, лишь случайное стечение обстоятельств, обусловленное скатыванием в наиболее глубокие хреоды выложенные и утоптанные ранее. Ведь здесь, на самом деле так мало плоскостей, в которых допустимо творение, и по большому счёту, как бы нам ни казалось обратное, мы всегда создаём одно и то же, и только наше ежесекундно меняющееся настроение, меняющийся угол, фокус зрения, позволяет нам слышать нечто новое. Наш фокус зрения, отражает трансформирующееся каждую секунду наше тело и нашу душу. Мы каждую секунду умираем, и рождаемся заново. И то, что мы представляли секунду назад, ушло безвозвратно. Мы каждую секунду превращаемся в других людей, и только наши иллюзии, метаморфозы нашей памяти и оценок, заставляют нас думать, что мы, как и прежде те же.
Нет, ни музыка меняется вокруг нас, но мы меняемся. И словно смотря на мир из следующего поезда, обманываем свой разум проплывающей и меняющейся за окном действительностью…»
+++
«Наша воля, метафорически условно, представляет собой «ствол древа». Где «низ этого древа» – соответствует более инстинкту, а «верх» – более разуму. И музыка, по преимуществу возбуждает в нас какой-нибудь «сектор» этого древа. И сложность понравившейся музыки, символизирует собой развитость и широту способностей резонирующего с ней, «сектора» восприимчивости.
Когда музыка возбуждает в нас и «инстинкт» и «разум», мы получаем наибольшее удовлетворение. Ведь задействованной оказывается наибольший сектор нашего волевого восприятия, весь наш организм начинает резонировать, создавая внутри наисильнейшую волну. И в такие моменты в нашей душе, и в нашем разуме, остаётся наименьшее количество «скучающих ганглий».
+++
«Музыка, на которую ты реагируешь, всегда отражает твоё внутреннее содержание. Она всегда отражает твою внутреннюю сложность, и твою развитость. Чуждые в своей гармонии, переливы, – будут дисгармонировать, причиняя страдание. Слишком простая музыка, будет вызывать скуку и раздражение. Слишком сложная, – так же».
+++
«Определённый характер музыки, откликающийся в нашей душе, должен соответствовать развитости нашей души, её гармоничной утончённости. Иначе резонанс будет невозможен. А при сильном несоответствии, такая музыка даже будет причинять страдание. В чём же секрет этого? Я полагаю, что если условно классифицировать музыку вообще, то её разнообразные формы, для того, чтобы резонировать с переливами отдельно взятой души, должны соответствовать общему внутреннему гармоничному укладу этой души. Сложность понравившейся музыки, говорит о сложности душевной организации, простота же, – соответственно. У каждого индивидуума своя планка душевной организации, и она всегда необходимо соответствует планке воспринимаемой музыки. Людям с низкой развитостью душевного агрегатива, и музыка нравится соответствующая. Тем же, кто развил собственную внутреннюю организацию, у кого, условно говоря, развиты как «нижние части ствола», так и «верхние», у кого почти не осталось в душе «атрофированных сегментов», у того и диапазон восприятия музыкальной полифонии, гораздо шире».
+++
«Человек, говоря метафорически, с развитой «верхушкой», вполне может гулять по собственному «стволу восприимчивости». Но человеку слаборазвитому, движение вверх, – заказано».
+++
«Спящий, – не слышит и не видит ничего. Сначала надо потрудиться, чтобы разбудить все «ганглии своего ствола». Ибо для того, чтобы получать широту восприятия, наибольшую по возможности полноту жизни, необходимо постоянно насиловать свои органы. Ведь для того, чтобы функционировали все сегменты лёгких, необходимо напрягаться с болью во всём теле, и заставлять спящие сегменты глубоких отделов лёгких, подключатся к процессу. Необходимо работать над душой и разумом так же, как работаешь над телом. Разум и душа, как любой другой орган нашего тела, всегда сопротивляется насилию. Но на то и дана нам воля, – эта воинственная Паллада…»
+++
«По большому счёту, можно привить восприятие любой музыки. Ведь «хреодность» твоих эмоций, можно искусственно отчертить, и тем самым, настроить твоё восприятие на определённый лад, «кормя» твою душу, определёнными формами музыкальных рядов. Наша душа, как и наш разум, являясь продолжением нашего тела, его одухотворённой квинтэссенцией, – кроной, сохраняют в себе генетику физиологических принципов тела. Они меняются, в зависимости от среды обитания, подстраиваясь под условия пребывания. И эта генетическая особенность, как нигде в теле, очень быстро проявляется в нашей душе и в нашем разуме, в силу тонкости их структурной организации.
Конечно, изменения происходят в зависимости от многих факторов, как то; интенсивность воздействия специфической внешней среды, продолжительность, внутренняя устойчивость сложенного душевного агрегата, глубина уже существующих «хреод» твоего «диско Порта», и т. д.»
+++
«Причина, по которой наша воля стремится менять «хреодность» нашего восприятия, менять устоявшиеся «русла», заключается в том, что, двигаясь по проторенным дорогам, происходит привыкание, и возникает скука, – эта великая провокаторша всего нового. Пропадают ощущения, которые напрямую зависят от преодоления, от сопротивления. А всякое преодоление и сопротивление в разы ослабевает на проторенных дорогах. И хотя сопротивление и преодоление вызывают чувство родственное всякой боли, но всё же, наша душа готова испытывать боль, чем не испытывать ничего. Она не терпит пустоты! А наполняемость зависит от полноты ощущений. И, в конце концов, для неё становится неважно боль это, или наслаждение, и то и другое приносит с собой удовлетворение. Ведь пустота для нашей души, мучительнее, ибо она, – вестник небытия».
+++
«Музыка, когда она включает в себя большую часть акцентов нашей души, когда она в своей полноте резонирует с самым широким спектром нашего восприятия, доводит нас до исступления, до экстаза душевного резонанса! Все струны нашей души, резонируя каждая в своём диапазоне, передают эту волну всему организму. И наш организм, откликаясь, начинает петь в унисон. Мы всем своим телом и душой начинаем петь и танцевать в такт этой музыки. И здесь совершенно не важно, каков характер музыкального произведения, лишь бы тональность этой полифонии попадала в такт твоему внутреннему настроению. И тогда ты получаешь удовлетворение от этой музыки. Она, образно говоря, зажигает в тебе огонь».
Но если музыка не соответствует твоей душевной настройке, то происходит естественный дисбаланс, который дисгармонирует твою душу, и раздражает всю нервную систему».
+++
«Услышать музыку собственной души ты можешь, только провоцируя её на резонанс, который становится возможен, при прослушивании внешней музыки. (Как в асинхронном двигателе, для того, чтобы он заработал, необходима возбуждающая катушка). Чтобы ощутить и понять собственную душу, её необходимо спровоцировать. Только в результате резонанса, ты можешь ощутить, всю полноту своей души. – Только косвенно, только в отражении.
Как глубину колодца ты осознаешь, бросив в него камень, и услышав эхо, так и душу свою, широкую и бездонную, ты можешь почувствовать, только благодаря отголоскам, эху её глубины. Ведь саму её потрогать невозможно, как невозможно потрогать суть мироздания! Мы жаждем узнать, ощутить свою душу, и всякий раз ловим лишь её отголоски.
Конечно, существуют души, способные к «само излиянию». Души, «материя» которых содержит в себе такое внутреннее напряжение, что достаточно лёгкого внешнего толчка, и она возбуждается, разрешаясь гениальными произведениями искусства!
+++
«Способность одного индивидуума выстраивать музыкальные формы, и неспособность другого, есть вопрос чистой продуктивности, – душевной продуктивности. Наполненность «душевного сосуда», не требующего для своего разрешения дополнительного сильного внешнего провоцирования, является признаком высокого развития внутренней душевной организации. Основная масса людей, для того, чтобы душа их начала разрешаться гармоничными переливами нуждается, как минимум в мощной внешней провокации. Поэтому людей, у которых гармония сама выливается наружу, которым благодаря переполненности душевного сосуда не требуется никаких провокаций, часто называют – Гениями. У такого Гения внутренняя «тонкая материя» мечется, словно в переполненной народом, темнице. Стоит немного приоткрыть «форточку», и из него начинает выливаться гармония душевного устройства. Но и ему, для того чтобы родилось нечто Великое, необходимо – оплодотворение».
+++
«Способность человека создавать музыкальное произведение, это вопрос способности «рожать формы», соответствующие его внутреннему содержанию. Эти формы, подобно мыльным пузырям, завораживают, как своей красотой, так и своей мимолётностью. Они напоминают нам о том, что и наша жизнь, так же прекрасно – мимолётна…»
+++
«Вообще, ощутить, потрогать, осмыслить собственную душу, мы можем только в её внешних проявлениях. И это касается не только музыки. В искусстве, какого направления бы не представляло это искусство, будь то живопись, стихи, или скульптура. Направлений в искусстве много, но лишь музыка стоит особняком, потому, что она есть самое тонкое и непосредственное отражение души. И хотя латентно «музыкальная генетика», присутствует во всех остальных видах искусства, и её гармоничные формы застывают даже в архитектуре, но всё же, в своей непосредственной форме, музыка – единственный вид искусства, который в сути своей, является неким воплощённым рафинированным субстратом тонкой душевной организации, её космодинамической сакральной генетики, в детерминистическом поле осознанности».
+++
«С помощью инструментов различных искусств, мы наслаждаемся отражением своей души, во всех доступных нам ракурсах. Мы радуемся и наслаждаемся её эстетическими воплощениями во внешних формах. Градация восприятия этих форм отражений; От чисто «пространственного», – к чисто «временному». От наиболее «грубого», – к наиболее «тонкому», и эфемерному. От архитектуры, – к чистой музыке, и поэзии. Мы подходим к нашей душевной организации, как бы со всех сторон, но заглядываем всегда в одну и ту же бездну…»
+++
«Всякие произведения искусства, от непосредственной музыки, до архитектуры, отражают наиболее полно строение нашей души, от «грубого», – к «тонкому», и наоборот. А по сути, – сущность мира вообще. Ведь если музыка существует для нас, – лишь во времени, то архитектура, – только в пространстве. И если первое можно только услышать, то второе только увидеть, и потрогать. Между ними же, как между отражёнными полюсами нашей души, бесчисленное множество произведений искусств, включающих в себя, как время, так и пространство. Одно – в большей, другое – в меньшей степени, в одном произведении в одной пропорциональности, в другом, – в иной. Но сущностная основа всегда – музыка, как некая «матричная субстанциональность» нашей души, воплощённая в волновую гармонику звука, и отражающейся в ней, действительности. Наша душа, существует для нас, лишь в отпечатках, в слепках произведений искусства. Её истинная сущность не доступна нам, как не доступна нам суть самого бытия…» = «Мы отражение своё – в широкой речке жизни ловим!..» =
«Скажу больше. Всё что окружает нас, воспринимается нами только в свете музыкального содержания, только в форме музыкальной волновой гармонии, и ни как иначе. Вопрос лишь в явности и скрытости, непосредственности и латентности, но суть воспринимаемого нами внешнего мира всегда в одной формации, – формации музыкально-волновой дисциплины.
То есть те шедевры изобразительного искусства, скульптуры и архитектуры, и даже пейзажи, всевозможные природные строения и ландшафты, так резонирующие с нашей душой, и, казалось бы, не имеющие никакого отношения к музыке, воспринимаются нами только в музыкальной формативности. Эту музыку, в её непосредственной ощутимой форме, мы не слышим, но всегда чувствуем. И даже в дуновении ветра и шепоте листьев, всегда находим нотки своего душевного оркестра. Наша душа, в ином формате, воспринимать и резонировать просто – не способна.
И даже люди, с которыми нам приходится общаться, воспринимаются нами, (на «тонком уровне»), в соответствии с тем, как резонирует музыка их внешней и внутренней формы, сливающейся в некий полифонический образ, с нашими душевными вибрациями, в самом широком смысле слова. И здесь, словно при прослушивании сонаты, ничто не будет упущено из вида. Ни сказанное слово, ни мимическое движение, ни мимолётный жест. Так рождается любовь, или ненависть. Так рождается всякая оценка. Для нас в мире всё и вся – имеет свою музыку…»
+++
«На примере музыки нагляднее всего представить сущность времени, сущность пространства, и наше отношение к этим синтетическим субстанциональностям (субстанциональностям, – в кавычках). Понять, насколько это возможно, и осознать наше иллюзорное восприятие времени и пространства как фундаментальных сущностей вовне.
Попробуйте представить себе музыку, как нечто сущее вне нас, как нечто существующее «само по себе», существующее как самостоятельная, независимая субстанция. Музыка, не идущая из нас, не создаваемая нашей душой, не представляющая параболу звуков, соответствующую структуре тонкой материи нашей души, но нечто привходящее извне. – Невозможно! Её абсолютная зависимость от нашей души, как сущности, создаваемой целиком ею, как отпечаток её внутренней структуризации, полностью повторяет зависимость времени и пространства, как «субстанциональностей», от наших архаически устоявшихся органов чувств. Как наша душа, своими «тонкими ганглиями» создаёт «тонкую материю музыки», так наш разум, с помощью органов чувств, своих инструментариев, создаёт время и пространство. Он ткёт время и пространство из отношения и взаимодействия внутренних и внешних скоростей, синтезируя затем эти сотканные стихии, в динамический образ действительности, наделяя его определёнными формами каузальных движений, трансформаций и преобразований, благодаря которым мы чувствуем феноменальный мир. Наш разум формирует его, из «нейтральной субстанциональности мира», из «неопределённого эфира», точно так же, как наша душа, формирует музыку, из хаоса звуков. Создавая полифонический образ новой упорядоченной волновой гармоники, новой сущности, живущей в полях времени и пространства.
Всё это в своём синтезе, в совокупности всех внутренних движений и внешних отражений, и создаёт собственно, иллюзию существования, иллюзию действительной реальности, как таковой».
+++
«Рождение музыки и последующее восприятие её, в сути своей полностью повторяет рождение, и последующее восприятие нами времени и пространства, которые в своём синтезе, создают общий образ действительности. Действительности, которую мы сами рожаем, и ей же питаемся. Ведь по большому счёту, ничем иным питаться не можем. Мы каннибалы по сути, пожирающие то, что сами порождаем. Удовлетворяющиеся только теми формами, которые сами же и создали».
+++
«Наша душевная организация, вытекающая из нас в виде музыки, словно родник, бьющий из недр земли. Мы наслаждаемся его прохладой и чистотой. Мы наслаждаемся собственной внутренней гармонией. Гармония тончайшей организации нашей души, выливается вовне в виде переливающейся волновой гармоничной субстанции, с полифонически слаженной конституцией».
+++
Трансформация нашей души в мелодию так же необходима, как трансформация материи, из одного состояния в иное. Как превращение древесины в огонь, воды в пар, электричества в свет и т. д. Волшебность этих преобразований необъяснима рациональным мышлением, как необъяснима и волшебность рождения самой музыки. Самое же загадочное и недоступное осмыслению физическое преобразование, это преобразование «грубой материи» в «электромагнитные поля». Ибо они, есть – основа нашей мысли, как таковой».
+++
«Существует звук, вибрация волнового характера, не представляющая собой формы близкой нам, но всё же имеющая в нашем представлении, свою форму. Звук существует лишь как некое движение, «голос материи» в эфире. Это некий «крик упругой напряжённости», отражающийся от всякой «упругости» во вне. И характер звука всегда соответствует характеру формы, внутреннему содержанию материального предмета, его динамических качеств. Предмет, издающий звук, и предмет, отражающий его, должны иметь примерно одинаковую внутреннюю тональность, иначе не будет резонанса. Это некое метафизическое общение, так называемых неодушевлённых предметов между собой. В таком же отношении находятся и мело трансцендентальные отношения человеческих душ. Для того, чтобы музыкальное произведение откликнулось и зазвучало в твоей душе, оно должно иметь похожую тональность, иначе резонанс – не происходит».
+++
«Звуки – это то, из чего строит наша душа собственную действительность. Она берёт «хаотичные звуковые субстанциональности», и выстраивает из них собственное упорядоченное на определённый лад, здание. Она выстраивает из них полифонию синтетического взаимодействия, отражающего синтез «хаотичной нейтральности внешнего», – с «формативной определённостью внутреннего». Она строит гармоничные формы из звуков так же, как природа строит свои формы, свои «животные сущности» в бесформенной воде океана. Ведь всякое «живое соединение», это всегда результат синтеза хаоса материала, и определённости формы, то есть порядка».
+++
«Звуки, хаотично блуждающие в эфире, это материал для нашей мелоничной души. Как пчёлы, собирающие нектар с цветов, с помощью своих ферментов превращают его в мёд, (в нечто «синтезированное внешнего – с внутренним»), питаются этим «синтезированным продуктом» и питают им своих детей, так наша душа с помощью своих «ферментов», синтезирует из хаоса внешних звуков и собственных душевных флюидов, нечто «формативно-упорядоченное», чем затем питается сама и кормит себе подобных окружающих. То есть музыка в сакральном смысле бытия, – это некий мёд для нашей души. Наша душа, собирая нектар с цветов совершенства природы, делает из него собственный неповторимый по качеству и вкусу мёд, для собственного же потребления.
И вслед за музыкой, вся наша действительность, в сути своей, есть тот же «мёд», – нечто лишь синтетическое. Мог бы пчелиный мёд существовать в природе, как нечто самосущное? Могла бы существовать действительность бытия, как нечто самосущное?»
+++
«Но что может служить строительным материалом для нашей души, в выстраивании ею, времени и пространства, в формировании этих архаических основ действительности? Это самая недосягаемая тайна бытия! Ибо, как никогда, и никто не скажет, что есть в своей сути звук, так и никто и никогда не скажет, что в своей сути есть «глубина материи», что есть простой феномен внешней реальности сам в себе…»
+++
«Материя без формы, для нас – «ничто». Так же как звук без формы ничто, для нашей душевной организации. Формирование из звуков формы, и есть появление «действительности». Точно так же, как и формирование из бесформенной материи, – субстанций, превращаемых нашим сознанием в объекты, и их взаимодействие. Как не существует самой по себе музыки, так не существует самой по себе материи, так и не существует самого по себе пространства и времени. «Само по себе» существует лишь «ничто», – хаос! – То, что вне нас, и в нас одновременно. Бог – сущий, и несуществующий – ежечасно! Мир – создающий нас, и создаваемый нами. «Пустота» – опирающаяся на «существенность», и «существенность», опирающаяся на «пустоту». «Действительность» – на грани осмысления! Два «зеркала», стоящих друг напротив друга. И вся наша «действительность», есть бесконечное отражение в этих зеркалах. Отражение, не имеющее ни «отражённого», ни «отражаемого», как фундаментальных сущностей. «Синтетическая действительность», не имеющая ни начала, ни конца, и в то же время, акцентированная нашим рассудком, как нечто происходящее во времени и пространстве, то есть имеющая начало и конец, но лишь в иллюзии нашего рассудка, в рамках создаваемой этим рассудком, реальности».
+++
«Мелодия, сложенная из звуков, есть форма. То есть, самый наглядный пример для осмысления нашей существенности, как таковой. Её «формативность», и есть параллельное отражение нашей существенности. Кроме «формативности» в нас, – нет ничего сущностного! Ведь мы, как субъекты, как личности, лишь упорядоченные на определённый лад формы, сложенные из отдельных клеток. Клетки же, в свою очередь, лишь формы, сложенные из белковых соединений, и т. д. Без формы мы ничто, – хаос инертного и нейтрального материала. Наше тело – это музыка природы, её гармония, – апофеоз природной полифонии».
+++
«Форма – вот то, к чему мы всегда приходим в своих размышлениях о сущности мира и бытия. Морфокинез – суть действительности. За морфо кинетической динамикой – нет ничего. Нам лишь кажется, что всё трансцендентальное нашего разума, выходит за рамки общего морфокинеза. Здесь, опять же вопрос лишь в тонкости и грубости. Но на самом деле там, где нет формы, нет ничего. Что есть мир? – Мир есть форма. Форма – в самом широком смысле слова. Форма, как всякая организация, всякая структуризация, будь то луч света, лошадь, или стихотворение.
Кстати сказать, в качестве самого наглядного явления, для осмысления отношения тонкости формы, к грубости, можно привести песню. Эта форма создаётся нашей душой, её появление и исчезновения в эфире, в силу её скоротечности и эфемерности, не оставляет видимых следов нигде, кроме нашей души. Стихи и музыка, в своём сочетании, отражают синтетическое воплощение в нашей душе «инстинктивного» и «разумного». Суть песни, есть наиболее полный отпечаток матрицы нашей души. Отпечаток, где есть и идеальное, и рациональное, и интуитивное, и аналитическое. То есть присутствует и как нечто чувственное, и как нечто осмысленное».
+++
«Музыка, налагаемая на стихи, подчас действует как «инсулин». Она открывает доступ к клеткам души твоего разума, к клеткам фантазии. Её помощь в усвоении поэзии, порой невозможно переоценить».
+++
«Как мыльный пузырь, пущенный в свободное плавание, олицетворяет нашу планету, переливаясь всеми красками мира, так песня, в своём переливающемся синтезе музыки и стиха, отображает сущность нашей души, её гармонию в бесконечно широкой и тонкой организации. Звуки, расположенные в определённом порядке, создают нечто, что отражает нашу внутреннюю душевную морфодинамику. Звук, как вибрация, для нас – чужд. Но сочетание, упорядоченное строение в своей законченности, воплощённый порядок соразмерных диссонансов и консонансов для нас уже – нечто родное, нечто сущее в близкой нам форме. Диапазон звуков, которые мы способны воспринимать, это широта нашего мира. За этим диапазоном, – пустота. Отдельный звук относится к мелодии так же, как отдельная клетка, – к общему слаженному образу нашего тела. И, в сущности, мелодия в своём трансцендентном поле, является законченной формой так же, как в поле физическом, этой законченной формой является наше тело, соединённое в единую «полифонию», слитую из отдельных эукариотов. Музыкальная форма состоит из определённого количества вибраций, каждая из которых, на своём уровне, является законченной формой, состоящей из своих сочетаний. И этот ряд, на пути своего регресса, уходит в бесконечность.
Так всякая форма, как феноменального мира, так и трансцендентального поля мировоззрения, на пути регрессивного её осмысления, уходит в бесконечность глубины. Форма же реальности, построенная нашим разумом, являет нам действительность, нашу действительность. Её полифония, есть – истинна в своей субстанциональности. Но таковой она является, только в нашем миросозерцании».
+++
«Песок, где каждая песчинка в своей плоскости бытия, есть законченная форма, для нашего миросозерцания, и в соответствии с его формативной транскрипцией, является лишь материалом, некоей метафорой хаоса. Пока эти песчинки не выстроились в нечто резонирующее с нашей конструктивной тонкой формодинамикой, в нечто последовательно-упорядоченное, то есть – объективное. В нечто, чем являемся, в сути своей мы сами. До тех пор же пребывает материалом для нас, – «материей без формы», (при всей невозможности определения нами эмпирически, что она есть в себе, эта материя). Но выстраиваясь в фигуру, например, в песчаный замок, становится формой нашего произведения, нашей кровью и плотью, – нашей воплощённой действительностью.
Глина, – бесформенная субстанция, превращаясь в кирпич, приобретает форму нашего «рационализма», чтобы стать материалом на следующем уровне. Выстраиваясь в дом, она приобретает форму нашей мысли, в воплощённом мериле сочетания художественного политеса и комфорта. И на этом, его «формативность», для нашего рационального разума, заканчивается. Но для мира, (в прогрессивном умозрении) цепь уровней форматирования форм в пространстве, – бесконечна так же, как цепь каузальных связей трансформации материи во времени. Различие лишь в «векторности» и форме нашего осмысления. Такова суть мира, как отражённая нашим разумом метафора. Такова суть мироздания. Мироздания, как некоей условной формы последней инстанции, для нашего воззрения».
+++
«Хотите заглянуть в себя? Взгляните вокруг! Ваш внутренний мир давно открыто лежит перед вами! Ваш внутренний мир раскинулся на полях внешней реальной действительности! Божественность и тонкость песни, и угрюмая инертность скалы! Бесстрастная безмятежность горного озера, и взрыв вулкана!..»
Ко времени
«Итак, время. Загадочная субстанция, всемогущая и всесильная, непобедимая и беспощадная, -недоступная осмыслению. В чём секрет её фатальности? Метафизическая модальность времени, как я уже не раз отмечал, повторяет метафизическую модальность пространства. Во времени, как и в пространстве, нет ничего сущего, ничего объективного. Как пространство не существует без объектов, наполняющих его, так и время не существует без этих объектов, их изменений трансформаций и движений. Диапазон трансформаций и их скоростей, как в эмпирике обобщённого действительного, так и внутри материи, как субстанциональности, ограничен возможностями нашей «сенсорной системы». С одной стороны, эмпирическим восприятием нашего рассудка, с другой трансцендентальным опытом нашего разума».
+++
«Диапазон динамики нашего восприятия всякого движения в эмпирики мироздания, условно говоря, ограничен, с одной стороны, «взрывом», неким сверхбыстрым трансформированием материи. С другой стороны, к примеру, окислением металла, как неким сверхмедленным в нашем эмпирическом познании, трансформированием. С одной стороны, полётом стрелы. С другой, движением тектонических плит нашей планеты, или движением земли вокруг солнца, олицетворяющемся в движении минутной стрелки на циферблате часов. Движение часовой стрелки, как и движение тектонических плит, уже не доступны для эмпирического восприятия, и мы лишь а priori знаем, что они двигаются. Только трансцендентальный опыт говорит нам о этом движении. Но, во всяком случае, оценка связана всегда с опытом. И то, и другое, – доступные для нашей идентификации, скорости, и являются для нас, некими условными «полюсами» нашего восприятия. И в соответствии этому диапазону, отталкиваясь от него, пребывает наше чувство времени, как таковое».
+++
«Из чего складывается категорический императив времени, как абсолютного доминирующего закона природы, на котором всё стоит и всё зиждется? В первую очередь, из строгой последовательности восприятия нашим эмпирическим воззрением, всех трансформаций, движений и изменений в природе. Во вторую очередь, трансцендентальным опытом, где все законы сходятся в некую синтетическую закономерность отношений, образуя целостный объективный образ слаженной упорядоченной действительности, с абсолютно закономерной строгой динамикой.
Первые показатели, можно отнести к прикладным, вторые, – к фундаментальным. Ибо только последние показатели убеждают нас в сущностной парадигме времени, и только благодаря ним мы оцениваем время, как нечто очевидное. Ведь, как бы мы не смотрели на внешние объекты, как бы они не убеждали нас, главное, – это наше внутреннее чувство времени, которое вытекает из движения нашей крови и нашего внутреннего сложного метаболизма, воплощающегося в движение нашей мысли.
Эти внутренние скорости, и соотношение их с внешними скоростями, и даёт нам чувство «обобщённого времени», как такового».
+++
«Представьте себе, как бы выглядел мир для вас и вокруг вас, если бы скорости ваших внутренних движений, ваших внутренних трансформаций, были бы сродни скоростям трансформаций в камне, или металле. Ну, например, «урана» в его необходимой трансформации в свинец. Для вас, все окружающие теперь движения и преобразования, представлялись бы в виде, в тысячи раз ускоренной плёнки кинофильма! Смена дня и ночи, фиксировалось бы вами как мерцание, как еле определяемое моргание солнца. Ваше время стало бы совершенно иным.
А для такого «наблюдателя», у которого «внутренний метаболизм» в самом широком смысле слова, в тысячу раз быстрее нашего, и сгорание нашей спички будет представляться вечностью…»
+++
«Вопрос, существует ли объективное само в себе время, не зависимое от наблюдателя, не имеет разрешения ни практически, ни гипотетически. Как и тот же вопрос, по отношению к пространству. Да, на этом пути мы неминуемо приходим к полному отрицанию, к отрицанию всего и вся. Но наш разум, противится этому отрицанию, ибо он знает априори, что-сам-то он – сущ. И для истинности этого, ему не нужны никакие рассуждения. И так как он часть мира, то он уверен, что и мир сущ. И здесь наш разум начинаем углубляться в ту область, где наше сознание вступает в противоречие, – в непримиримый конфликт с самим собой. С одной стороны, наше внутреннее «Я» говорит о том, что мир существует именно в том виде, в каком мы его видим и ощущаем. Его существование не может быть опровергнуто, в силу достоверности наших чувств. Нам не разрушить очевидное, ибо мы никогда не найдём для этого оснований. С другой стороны, наша «внутренняя критическая убеждённость» говорит: Мир, окружающий нас – лишь наша фикция, он создаётся нашим разумом и в своей сути просто не может иметь ничего достоверного и основательного. В противном случае, Мир был бы конечным, и доступным к полному и безусловному рассмотрению его до конца. А это – абсурд.
Но тогда что же, чёрт возьми, существует?! Если даже сама материя как суть, есть лишь соотношение скорости и характера внутренних движений «наблюдателя», к наблюдаемому во вне. То есть к форме этой «материи», за которой для нас, нет ничего достоверно существующего, достоверно реального. Ведь мы знаем, что «материя» без формы не существует, она лишь может мыслиться. А если форма – это лишь отношение, то значит «материя» не существует как данность, как нечто сущее вообще».
+++
«Абсурдность всего этого наталкивает на следующее заключение. По всей видимости, наш разум так устроен, что в своих размышлениях, он обречен всегда приходить к этому абсурду. Иначе, он обязательно нашёл бы выход из этого замкнутого круга. Когда доходишь до такого осмысления, то неминуемо начинаешь задумываться, а имеет ли мир вообще, ту ценность, которую мы привыкли ему придавать? Когда перестаёшь видеть в нём что-либо сущее вообще, неминуемо понимаешь, что его истинная реальность – лишь иллюзия. Как ничтожны в таком ракурсе осмысления становятся все наши амбиции, и все наши аффекты! Жалость, презрение, любовь, ненависть и т. д. – Всё пыль!..»
+++
«Мир, который мы же и создаём! – Какая нелепость! И в то же время, какая великая мудрость природы!»
+++
Так что же есть то, на чём всё и вся зиждется? Что есть та «Великая пустота», то «безвременье – в беспространственности», в океане которого зачем-то зарождается иллюзия, как некий бастион всякого сущего. Бездна, рождающая ограниченность! – Пустота, рождающая «материю»! Небытие, порождающее бытие! – Зачем?! Это великое «Зачем», уходящее в ту же бездну, в вечность, в бесконечность. Где уже нет даже бездны! Ибо нет – ни «пространства» ни «времени…»
+++
«Иллюзия и реальность, расположены на одной линии, которая не пресекается, ни в динамике, ни в сущности своей. Точно так же как прошлое и будущее, в своей сакральной сущности, – одно целое. Нечто неделимое в себе, и разделяемое лишь нашим «ноуменом», для обеспечения собственного бытия, в созданной им реальной действительности. Ведь между иллюзией и реальностью нет объективных границ вне нашего «ноумена», точно так же, как нет объективных границ между прошлым и будущим, как только по отношению к нам, к «наблюдателям». И точно так же, как мы создаём своим разумом деление мира на прошлое и будущее, (они, как будто клинчем сходятся в нас), так и реальность, и иллюзия сходятся в нашем разуме клинчем, не имея вне нашего разума никакого настоящего деления, и объективности этого деления. Они есть «виртуальные полюса действительности» создаваемые нашим разумом, – некие, в обе стороны от себя, – «крылья воззрения». Крылья, на которых ноумен, – парит в эфире проведения, создавая вокруг себя поля действительности…»
+++
= «Фундамент, – нечто наиболее грубейшее нашего мира, нечто абсолютно реальное, (условно говоря, начало действительности), есть – «пустота». Она настолько нейтральна и инертна, что не имеет собственной существенности, не имеет собственной определённости, и своих собственных категорий. Она – сверх реальна! С неё начинается всякая действительность.
= «Апофеоз», – высшая точка действительности нашего мира, (условно говоря, вершина этой действительности), есть – нечто сверх тонкое, и так же не имеющее собственной существенности, собственной определенности и собственных категорий. Но здесь, в силу своей сверх тонкости, сверх эфемерности, а значит сверх иллюзорности. Нечто, что находится на вершине этой иллюзорности. Что в сути своей есть так же нечто сверх реальное, но лишь иного полюса бытия.
В своём бытовом воззрении и оценке, в силу неимения иного способа познания и иных критериев для определения, мы обозначаем эту вершину понятием – «Любовь». Нечто неуловимое сознанием, сверх возвышенное, – нечто жизненно гипертрофированное во всеобъемлющей иллюзорности бытия…»
+++
«Задумывались ли вы над тем, почему всякое неоднозначное суждение, как правило, трактуется слушателями в сторону более «низменного», более «грубого»? Это наша сущность стремится к наибольшей фундаментальности в воспринимаемой реальной действительности. Ведь мы, как продуцирующие действительную среду, и одновременно воспринимающие её, константы, во всех без исключения плоскостях собственного восприятия, всегда находимся на лестнице градации от «грубого» к «тонкому», воплощающейся в нашем воззрении в градацию от фундаментальной реальности, – к иллюзорности, в критериях соотношения парабол нашей восприимчивости, – их архаических возможностей».
+++
«Тот, кто хочет найти абсолютную истину, тот найдёт лишь пустоту. Ведь только она – абсолютна. Всё остальное, включая и всякое философствование, есть лишь форма. – Нечто Меняющееся в абсолютном. Оазис в пустыне. Сущее – в ничто!..»
+++
«Мысль есть форма, построенная из тонких токов. – Нечто действительно-формативное и упорядоченное, сложенное из ткани бесформенной неопределённой нейтронной материи. Мысль, по своей сути, есть сформатированный в некую законченную гармонично упорядоченную форму, альянс хаотичных электромагнитных импульсов. Мысль, в сути своей, тот же замок, выстроенный из материала бесформенного песка. Только существование её, проходит на иных, на метафизических полях этого бытия».
+++
«Усложнение своих апперцепций и дефиниций, насильственное расширение своих чувств и мыслей, – вот где лежит наше счастье, и наша же беда. Мы усложняем свой мир, и он становится настолько же желанным, насколько и отвратным. Весы между преисподней и раем на земле, определяются именно этими усложнениями, развитиями в нашей душе тонких сверхчувственных переживаний, определяющих меру наших наслаждений, и меру наших же страданий. Насильственным усложнением и утончением наших мыслительных способностей, определяется всякая утверждаемая нами истинность и заблуждение, всякая возможность критерий всего оцениваемого, – всего как утверждаемого, так и отвергаемого. Здесь не существует альтернатив, ибо не существует ничего по-настоящему само собой разумеющегося, не существует ничего по-настоящему окончательно завершенного и абсолютно истинного в себе.
Мерилом всего на нашей бренной земле служит наш разум, наше создающее собственную модальность жизни, всех её простых и парадоксальных явлений, мировоззрение. Наше сакраментальное тело, как некое «органистическое лекало», словно «вирусный органоид» штампующий и заполняющий пространства действительного мира своими «индивидуумами-копиями» скопированными с собственной биологической матрицы. В фолиомультофации собственного размножения, идея, как некая органистическая монада, размножается и делает то же самое в полях трансцендентального опыта бытия нашего сознания».
+++
«Формирование мысли в нашей голове обусловлено отношением на тончайшем уровне, нашей внутренней энергии, (воли стремящейся наружу), к внешним энергиям. И взаимодействия с этими внешними энергиями, стремящимися нам внутрь. Встреча этих разно полярных энергий где-то посредине, завязывается в некий клубок, – «синтетический коллапсирующий шар». То есть появляется новая форма пребывания. Мысль, – «дитя» столкновения разно полярных монад бытия. Так зачинается и развивается всякое «дитя». Так зачинается и развивается наша действительность…»
+++
«Полагаю, ни у кого нет сомнений, что мысль материальна в своей сокровенной сути. Ведь на самом деле в нашей действительности абсолютно всё материально. Всё нематериальное неминуемо выпадает из этой действительности, как чужеродное образование. И агрегативность мысли как материальной организации, её строение и функционал происходят по общим для всего материального мира, законам. И как всякая форма грубого феноменального мира, так и форма нашей мысли в своей среде тонкого ноуменального бытия, всегда оставляет желать лучшего. Но не потому, что несовершенна, (ведь всякое совершенство относительно), но в силу устройства нашего оценивающего разума. Его главное свойство, это его бесконечное стремление к совершенству, к Абсолюту в гармонии. И это сакраментальное свойство заложено в нём самой природой, её началами и основоположениями. Произошедшее когда-то, на заре времён нарушение абсолютного баланса пустоты, безупречной гармонии природы, приведшего к возникновению бытия действительности, и возникшей одномоментно с этим нарушением врождённого стремления этой действительности вернуть всё на круги своя, стремления к возвращению абсолютного баланса природы, определяет всякое регрессивное, и всякое прогрессивное движение в этом мире, – мире действительности бытия. И всякое становление, есть лишь форма того же возвращения, но нарисованное нашим воображением в виде стремящегося вперёд вектора надежды.
И эта основополагающая динамическая платформа бытия, генетически передалась всему, что так или иначе принадлежит действительности, и воплотилась в категорический императив нашей мысли. Наша мысль, в силу своей сверх тонкости сверх мобильности и сверх агрессивности, уходит на этом пути, дальше всего остального действительного мира. И в силу этого постоянного стремления, весь феноменальный мир для нашего разумения, остаётся всегда на шаг сзади, и поэтому любой объект воззрения для его оценки, всегда будет апологетом несовершенства».
+++
«Вы когда-нибудь замечали, что лучше всего и наиболее чётко воспринимается и запоминается та информация, которая содержит в себе музыкальную основу, некую близкую к музыке тональность. И это относится не только к стихам, как к некоему воплощению в слово музыки нашего разумения, но и любой другой информации. Для того, чтобы легко запомнить набор слов, надо расположить его в некий музыкальный ряд. Даже набор цифр, если его расположить в некой последовательности, наиболее приближенной в произношении этих цифр к музыке, то он, до того совершенно не запоминающийся, вдруг очень быстро начинает запоминаться. Это наша воля, реагирует на относительно близкое себе, формодинамическое бытие. Ведь когда информация, её воплощённый в формы ряд, – неупорядочен, бесформеннен, он по характеру своему ближе к хаосу, к чему-то чужеродному жизненным позициям нашего существа. Когда же он принимает некую музыкальную форму, он становится ближе к действительности нашего упорядоченного умосозерцания, как и к нашей основополагающейся на порядке, воле».
+++
«А замечали ли вы, какое затруднение вызывает в нас незаконченность музыки нашей фразы, как хочется сказать ещё что-то, что завершило бы диссонансно-консонансный ряд. Наша речь всегда настроена на завершение музыки фразы, и когда этого не происходит, наша воля начинает испытывать дискомфорт. И именно в связи с этим появляются смягчающие дубликаты в конце слов, с твёрдыми окончаниями».
+++
«Знаете, что в сущности своей, есть наше классическое образование? Классическое образование, это насильственное выпрямление извилин. Или сказать точнее, закручивание их на лад обобщённого воззрения социума, что в сущности, одно и то же. Ведь каким бы прогрессивным не было образование, оно всегда, в сути своей нечто усреднённое. При всём своём желании улучшить твоё разумение, её динамика не может следовать всем твоим врождённым изгибам, изгибам твоего природного индивидуального разумения. Оно в сути своей, есть некая «обобщённая дорога», заставляющая твоё разумение следовать уже сформированным, таким выверенным но чуждым тебе путём, всё время ставя твоё воззрение, стремящееся, словно тропическое животное в лес, на рельсы «нужного» направления.
Чем тоньше и глубже природный ум, тем сильнее он сопротивляется всякому насильственному внедрению чужих извилин, чужих истин. Мало того, так называемое высшее образование, у большинства людей отбивает всякое желание учиться дальше, учится всю жизнь. И в силу отношения к так называемому законченному высшему образованию, как к законченности всякой учёбы, – некому «выдоху» и последующей расслабленности разума, это укоренившееся заблуждение выливается в общую распущенность.
Мало того, в силу влияния сложившегося в маргинальных кругах нашего общества, мнения, что высшее образование необходимо закончить, чтобы затем всю жизнь ничего не делать и, тем не менее, зарабатывать приличные деньги, молодёжь вновь засыпает разумом, выходя из университетов. А ведь только постоянная учёба, учёба на протяжении всей жизни, позволяет достичь настоящего просветления, и действительных результатов в своём познании жизни и мироздания».
+++
«Да, образование – это выпрямление извилин. Но это самый действенный, и для большинства, единственный способ заставить свои мозги работать. Здесь как нигде проявляет своё влияние конъюнктурность. Ведь на самом деле способов заставить свои мозги работать, не ущемляя своего природного наклонения, – масса. Прослушивание серьёзной музыки, лицезрение художественных произведений, общение с созревшими умами, путём изучения их трудов, и т. д. Весь вопрос лишь в серьёзности подхода, глубине осознанности, и главное, в желании получать «образовательную прибыль», в стремлении к совершенству собственного сознания, которое невозможно без боли, без шомполов воли, стегающих тело разума, желающего по-настоящему всегда только одного, – заснуть и не тратить энергии.
Лишь самообразование можно назвать истинным образованием. Ибо при нём, ты изучаешь только то, что хочешь изучать. А хотение, как таковое, отражает твои способности, изгибы твоего индивидуального разумения, потребности «желудка» твоего разума. Я не случайно употребил здесь слово «желудок», ведь по большому счёту, именно желудок нашего организма, диктует нам наши гастрономические вкусы, и пристрастия. Ведь нам и в голову не приходит пичкать собственный желудок пищей, которая вызывает у нас отвращение. Мы не станем пихать в рот пищу, не обращая внимания на рвотные спазмы. Но с усердием запихиваем в наш разум то, что он не в состоянии переваривать, то, что чуждо ему, чуждо его конституции».
+++
«Человеческий разум не в силах одновременно уделять достаточно сил и глубине, и поверхности. Обучаясь в учебном заведении, ты уделяешь слишком много внимания памяти, в ущерб глубинному проникновению в суть. Ты накапливаешь знания, словно воплощённый в золотые слитки, капитал, складывая его в закрома. Твой разум становится похожим на бричку, доверху забитую, словно дровами, всякими нужными и ненужными вещами, которые будто бы априори, могут понадобиться тебе в жизни. И ты тянешь эту набитую телегу, словно упрямый осёл, по инерции подкладывая сверху. Но к середине пути понимаешь, что всех вещей в мире, в бричку не сложить, и лучше иметь инструмент, с помощью которого ты мог бы сделать всякую необходимую при случае, вещь. Лучше иметь одну «волшебную палочку глубокого осмысления» в своём кармане, чем тащить на себе нужный и ненужный хлам.
Кто приспособлен более к выживанию, гибкая змея, или жирный неповоротливый поросёнок? А этому, как правило, в наших учебных заведениях не учат».
+++
«Наверное, важно дать некое направление своему ребёнку, в раннем детстве. И стараться поддерживать это направление, пока оно не устоится, сформировав некую «хреоду» его сознания, его взгляда на свою жизнь, и на своё место в этом мире. Особенно это относится к детям с генетической расположенностью уйти, что называется, вразнос. Когда его поведение наберёт свою динамику, приобретя вместе с ней и инерцию, изменить что-либо, будет – крайне сложно. Ибо инерция, как для «феноменов», так и для «ноуменов», играет очень важную роль. Набрав свои обороты в созревшем человеке, инерционные силы динамики его поведения, так же фатальны, как катящийся с уклона кусок скалы! Повернуть, или остановить крайне затруднительно. 90% личностей, набрав свои обороты, так и катятся по инерции к водопаду вечности. И если динамика направления была задана неправильная для данной личности, то судьба его будет необходимо несчастной. Лучше уж не задавать никакого направления, и тогда будет шанс, что человек сам выберет свой путь, свой собственный вектор. В таком случае его судьба сама найдёт свою гармонию. «Черепашьи хвосты» проведения и произвола, лаская друг друга, найдут златую середину своего бытия».
+++
«Как камертон необходим, как эквивалент звука для музыки вообще, так человеку необходим эквивалент во всём, что он пытается осмыслить. Ему необходима точка отсчёта, в самом обобщённом смысле слова, иначе он словно ежик, блуждающий в тумане, не знает в каком направлении ему двигаться».
+++
«Для того, чтобы понять, как это – «мир, создаваемый тобой», необходимо иметь несколько иное воображение. Надо представить себе мир глазами, например, внутриклеточного паразита, совершенно абстрагировавшись от перспектив привычного воззрения. Каким будет этот мир? Будет ли он походить на наш, привычный мир? Ведь здесь дело даже не в размерах, хотя и размеры, конечно же, играют важнейшую роль. Но дело в том, что этот так называемый паразит имеет совершенно иную внутреннюю структуризацию, иной внутренний биохимический порядок, иное качество внутренних синтезов, и соответственно иное отношение к внешнему целокупному миропорядку. И мир для него, мир окружающий его, будет адекватно его метаболизму, совершенно иным.
А каким будет мир для существа, размерами к примеру, с галактику? Существа, у которого скорости и качество внутренних обменов будут соответствующими этим размерам, и все воззрения, и оценки, адекватными его природной форме. Представьте себе существо, внутри которого все процессы, с нашей точки зрения, настолько заторможены, что для него, к примеру, движение тектонических плит нашей планеты, будут проходить в тысячу раз быстрее, чем это представляется нам. Какими будут для него, все иные, знакомые нам, внешние движения?»
+++
«Наша действительность, возникает подобно появлению узоров на замерзающем стекле. Медленно расползающиеся лучи, одновременно, и хаотичного и строго упорядоченного характера. То есть и случайного в сути своей, и строго предначертанного качества. Мы смотрим, на эти узоры, и они получаются великолепными, красивыми и завораживающими. Так возникают и становятся прекрасными, узоры нашего бытия, узоры нашей реальной действительности. Но всё дело в том, что эти узоры, на «прозрачном стекле пустоты», существуют только в нашем разуме, и нигде более. Только здесь и сейчас, и нигде и никогда прежде. Нам кажется, что узоры на стекле существуют сами по себе, а мы лишь видим их. Но на самом деле, они есть плод нашего воображения. И свою неповторимую упорядоченность, свою красоту и ценность, имеют только для этого воображения…»
+++
«Напрягите свой разум, и вам откроется то, что я называю – отсутствие ориентиров. Когда мир, как объективная реальность, просто исчезает! Когда уже нет ничего достоверного, – самого в себе сущего. Когда весь феноменальный мир с его реальностью, становится лишь нашей иллюзией, – фикцией заинтересованного глаза, и заинтересованного разума.
Но где-то в глубине нашего подсознания сидит основа всего, – нечто сущее само по себе, независимое от наблюдателя, некое основоначало всего нашего бытия, – суть материи и мироздания.
Это неразрешимое противоречие, словно генератор нашего сознания и нашего бытия, моделирует и экспансирует вовне, все метафизические и трансцендентные образы, сохраняющие в себе стремление, как обязательный фактор для всякого существования. Транслитируя идеальную полифонию нашего сознания в образы доступного языка, оно создаёт некое необъятное поле действительности, обещающее очерчивание собственных границ, и в то же время, не имеющее таковых. Ведь всякое стремление должно непременно умереть, обнаружив эти границы».
+++
«Мои чувства, и полная уверенность в своих заключениях по отношению к миру, к его твердости, текучести, отражаемости и т. д. Всё это непререкаемой истинностью кричит: Всё вокруг тебя – есть сущее! Во всём этом есть что-то «само в себе», что-то независимое и незыблемое! Ведь должно быть нечто, от чего наш разум имеет возможность отталкиваться. Что же есть на самом деле, эта независимая от наших чувств, от нашего разума «первооснова», – где она? Как её можно оценить и потрогать? Вот видите, опять – «потрогать и оценить». Мы не можем выйти из этого круга, нам необходимо здесь иметь нечто феноменально-объективное, а значит, всё возвращается на круги своя. Нам необходим опыт! И не смотря на всю эту неоспоримую истинность «действительности», всё вокруг тебя было и остаётся – «по отношению». И выйти из этого порочного круга нет никакой возможности. Нам никогда не узнать истинный мир в себе, ибо это оборотная сторона нашего мира. Она, абсолютно точно, не доступна нам. Это всё равно, что столкнутся лоб в лоб с собственной иллюзией! – Глаз, взглянувший в самого себя! Это уже граница здравого рассудка, где-то рядом притаилось безумие! Подойдя единожды слишком близко к этим «воротам», и обжегшись о «холодное тело хаоса», «пустоты», ты уже вряд ли станешь искать мир, – за миром. И как «послушный агнец», будешь вариться в собственном соку, пережёвывая, перемалывая, уже бесчисленно перемолотое. Тебе суждено всегда существовать, как тому «внутриклеточному паразиту», только в своём круге реальной действительности, не в состоянии выйти из своей клетки, из своего собственного выложенного и закреплённого миропорядка».
+++
«Мои догматические по форме воззрения, по сути, не являются таковыми. Ибо нисколько не исключают иных взглядов, и даже наоборот, предполагают наличие оных. Ведь я не перестаю повторять, что сколько «наблюдателей», в самом широком смысле слова, столько и миров. Именно миров, не воззрений в единый для всех мир, но именно миров. И каждое догматическое воззрение, касается только своего мира. Мой взгляд, это только мой мир, не доступный другому. Но я знаю, что он обязательно должен соприкасаться краями с «чужими мирами», иметь с ними «общие сектора мировоззрения». Так устроена природа вообще. Ведь я – часть «животного», называемого «человечеством». И часть моих воззрений, неминуемо должно найти свой отклик у других мыслителей. Хотя для меня, всё это, с некоторых пор, – не важно. Ведь по существу, нет и быть не может никакого абсолютного признания. – Всё растворяется в бездне вечности! Одно раньше, другое позже, – какая, в общем-то, разница? Ведь время, только с нашей точки зрения имеет продолжительность, а в масштабе вечности его отрезки не представляют никакого значения. Когда-нибудь раствориться всё, без исключения. Забудут всё! И даже наш мир, Вечность забудет и никогда не вспомнит».
+++
«По большому счёту, я продолжаю писать свои пасквили только для того, чтобы мой разум давал мне возможность ощущать себя более-менее значимым, – чуть выше посредственного. А значит, в сущности, я удовлетворяю этим свою волю, – её ноющее тщеславие. Мой разум, как высшее органоидное явление, как олицетворение моей воли, так же жаждет удовлетворения, как и всякие иные её «ганглии». Насколько он властен над истиной, насколько он состоятелен, насколько он достоин властвовать на полях высшего бытия.
О презренный разум! И ты, на самом деле хочешь того же, что и вся низменная воля! Ты так же жаждешь власти. Но власти уже иного толка, – власти тонкого мира! Высшего удовлетворения этой властью и сопряжённого с этим адекватного удовлетворения собой, своей мощью. Для этого тебе, конечно же, необходимо признание.
Но вот в чём фокус. Дойдя до осмысления того, что признание, как таковое, каким бы оно не было, есть фикция, и в своей скоротечности обгоняет даже время, и что любая власть в сути своей, – иллюзия, разум – успокаивается. Ему уже не требуется никакого признания кроме собственного. Он сам оценивает себя, сам вознаграждает и может даже позволять себе молчать!! И только здесь он по-настоящему возвышается над всей остальной низменной волей. Ведь воля как таковая, не может не говорить. Её природа такова, что молчание для неё, – равносильно смерти».
+++
Но, несмотря ни на что, в глубине своей наш разум, следуя природной парадигме собственного существа, растущей из основополагающих принципов воли, всё же ищет признания, как некоего отражения и олицетворения вовне своей собственной сути. Лишь для возможности «потрогать» себя вовне, как нечто сущностное реальное и объективное, ощутить себя в той форме, которая доступна внешним сенсорам твоего органоида. «Ноумен», всегда желает ощутить себя в качестве «феномена». То есть ощутить себя не только как «субъект», но и как «объект». Не только «ноуменально», но ещё и «феноменально». Получая тем самым резонанс, и как следствие экстаз собственной воли».
+++
«Чем слабее и несостоятельнее разум, тем сильнее он жаждет внешнего признания. Он подспудно ощущает себя плоским и мелким. Он хочет этим признанием, убедить себя в обратном. Ведь его терзает мысль, что он никчёмный бездарный субъект. Он готов обманываться, лишь бы не терпеть эти муки. Он даже элементарную лесть принимает за драгоценный дар, подтверждающий его значимость. И кушая это «фальшивое блюдо», как изысканную еду, обсыпает себя «фальшивыми банкнотами». Он радуется своему отретушированному изображению, своей личине, приукрашенной чрезмерной восторженностью льстецов. – Возведённый на пьедестал, слишком восторженной публикой, – осёл!»
+++
«Инстинкт нашего разума, так же слеп, как всякий иной инстинкт. Он не позволяет осознавать, что на самом деле, то, к чему стремится разум, в своей крайней точке должно необходимо привести его к гибели. Ибо, получив самое высшее удовлетворение, он впоследствии не сможет удовлетворяться ничем, и должен будет умереть. Ведь всё последующее его пребывание, в нём будет вызывать лишь муки скуки.
Как природа спасает кальмара или лосося, умертвляя его после того, как он, выполнив функцию икромета, получает своё высшее удовлетворение, так и нас, получивших наивысшее удовлетворение, – апофеоз собственной константы бытия, природа должна была бы обязательно убить».
+++
«Некоторые вещи ты не сможешь понять до поры до времени, как не силься. Понимание придёт само собой в своё время. Помимо «эксплицитного» и «имплицитного», есть ещё один вид знания – «синтетическое», или трансцендентально-опытное».
+++
«Самая наглядная иллюзия разнообразия, это то, что даёт нам музыка. Нам всё время кажется, что мы создаём и слушаем нечто новое, нечто до сих пор небывалое…»
+++
«Любовь, есть апофеоз иллюзорности нашего бытия. Иллюзия – её плоть и кровь! В ней, в любви, нет более ничего, она соткана из чистого обмана, – она, сама по себе – гипостазированная иллюзия, в самой своей гипертрофированной абсолютной сути.
Но посмотрите, что ещё мы могли бы обозначить в нашей жизни, как неоспоримо главенствующее? На чью голову мы надеваем корону всякий раз, когда ищем наиболее важное в жизни? Во что верим более всего на свете, чему придаём истинную реальность? Отвергать любовь, как нечто существующее, всё равно, что отвергать саму жизнь».
+++
«Что бы понять насколько серьёзно мы относимся к иллюзии, насколько мы ценим её, посмотрите повнимательнее, как мы относимся ко всякого рода условностям. Как самое важное в нашей жизни, мы почитаем именно – условности. С каким пиететом мы смотрим на людей, обладающих званиями и титулами. Как сами жаждем получить эти титулы».
+++
«Антиномия. Если мы сами строим, сами создаём наш мир, и сам по себе он – не существует, спросит каждый здравомыслящий, то скажите на милость, почему же мы строим его таким враждебным нам, таким опасным и непредсказуемым?
Во-первых, Кто вам сказал, что враждебность и опасность, – отрицательны? На самом деле большой вопрос, – что положительнее и важнее для сохранения и становления жизни, опасность, враждебность, или полная безопасность, сострадание и благонамеренность природы. Попробуйте представить себе на миг, какой была бы ваша жизнь, и каким был бы мир вообще, без враждебности и опасности присущей ему в нынешней степени. Вы варитесь в этом котле, вы плаваете в этом бушующем море, вы привыкли к собственной жизни, ваши слабости вопят! Но вы даже представить себе не можете насколько угнетающей стала бы жизнь, не имей она в себе этой враждебности и опасности. Что могло бы стать в ней по-настоящему Великим, не будь в ней трагедии, – настоящей трагедии! В конце концов, чем была бы жизнь, не будь в ней смерти?
Во-вторых, То, от чего бегут одни наши инстинкты, к тому стремятся другие. То, что положительно для одного «клана», отрицательно для другого. То, что важно, что является главными мотивами для процветания нации, угнетает отдельных её представителей. То, в чём наш разум находит опасность для себя, то является необходимым условием для инстинкта. То, в чём инстинкт обнаруживает разлагающую форму существования, разум определяет, как доминанту прогресса. Здесь, никто ни в чём не ошибается. Здесь каждый, лишь старается блюсти собственные интересы. И по большому счёту интересы природы, всегда идут вразрез с интересами человека. Но откуда взяться самим интересам, не будь в нашей жизни нужды и страдания?»
+++
«По большому счёту, человека делает, только его интерес. Там, где кончается нужда, там начинается интерес. Он является ростком того могучего древа, которое называется стремлением. Чем жизнеспособнее будет этот росток, тем мощнее и развесистее вырастит это древо. Иногда, оно вырастает таким высоким, что начинает доставать до небес всего сознательного, выходя за пределы возможного, ломая всякие границы и приближаясь своими ветвями к невозможному!
Почва же, на которой вырастает росток интереса – Фантазия. Она – даёт и получает, она – фундамент желания и удовлетворения нашего разума, она – его либидо, она – начало и конец всего нашего разумения…»
+++
«Самым вредным для индивидуума пороком я считаю – «скромность». Да, ту скромность, которая перекрывает кислород искренности. Скромность, убивающая эго. Скромность, как умаление себя самого, как пошлость, ломающая любовь к самому себе, как стыдливость своей индивидуальности. Этот маразм, словно якорь, не даёт взлететь твоей душе ввысь! Как вязкая грязь, он не позволяет свободно и легко двигаться всем твоим чреслам, – чреслам твоего творческого».
+++
«На самом деле не существует никакой узурпации власти. Если ты захватил власть, значит ты уже достоин её, и никакие моральные аспекты здесь, не имеют никакого значения».
+++
«Можно не признавать моральных догм общества, и быть в тоже время глубоко моральным человеком внутри себя. Точно так же, как можно быть глубоко верующим человеком внутри себя, и не признавать при этом, ни одной из существующих религиозных конфессий».
+++
«Нет ничего иллюзорнее реальности…
Нет ничего реальнее иллюзии…
+++
«Стремление к истине – одна из форм мазохизма, ибо всегда причиняет лишь страдание. Истина, как противоположность иллюзии, всегда заключает в себе совокупное отрицание фундаментальных жизненных основ, как таковых. И стремление к истине всегда вразрез всему жизнеутверждающему, всегда в противоположную сторону от всего, что должно окружать эту жизнь».
+++
«Открыть очередную истину, всё равно, что узнать об измене жены. Это обстоятельство может лишь огорчать. Ты жил в счастливом неведении, плескался в счастливых водах своей иллюзии, и вдруг открылась истина, которая уничтожила эту сладостную иллюзию. Истина обжигает своим холодом. И чем дольше ты пребываешь в тёплых водах иллюзии, тем больнее, тем мучительнее будет для тебя этот холод. Здесь как нигде необходима закалка».
+++
«Многие счастливчики так и проживают всю жизнь в счастливом неведении, так и не познав горестей открывающейся истинности мира».
+++
«Романтика – это «розовая пенка» на поверхности варенья любви, – любви к жизни. Именно из этого варенья, словно из почвы, питается и, вырастая, разветвляется в разные стороны, древо, на ветвях которого созревают плоды иных разновидностей любви. Как только это «основное варево» начинает киснуть, сладкая «розовая пенка» на его поверхности превращается в пену ненависти, зависти и злобы. А ветви древа любви, одна за другой, начинают засыхать, роняя свои плоды…»
+++
«Для бесконечного пространства, (если вообразить себе такое), размеры не имеют никакого значения. Ведь размер, это всегда относительно чего-то. А что может быть ориентиром в бесконечном пространстве? Наши параметры, и все параметры окружающего мира, это сугубо наши относительные оценки, и более ничего. По отношению же к безграничному пространству, нас, – вообще нет!
То же самое и в отношении продолжительности нашего существования. Что такое наша жизнь, с точки зрения вечности? Мы представляем что-то из себя, только в своих же глазах. Наше нахождение здесь и сейчас – что это, для вечности и бесконечности? Ведь если нет ориентиров ни во времени, ни в пространстве, то какая разница, где мы находимся и когда?
Мы отличаемся от микробов размерами, но для бесконечности, этих различий не существует. Наша продолжительность жизни отличается от продолжительности жизни солнца, но для вечности, и этой разницы – не существует».
+++
«Наш феноменальный мир, (по аналогии), это «русская матрёшка», но с бесчисленным и бесконечным уменьшением фигурок, на пути регресса, как и бесконечным их увеличением, на противоположном пути, – пути прогресса. Если исключить недоступную нашему сознанию пустоту без пространства и времени, то только в таком виде, вообще, возможна бесконечность».
+++
«Вы хотите узнать кто вы? Посмотрите внимательно на свои игры. Посмотрите в саму суть того, что в них отражается, и вы поймёте не только кто вы, но и что вы. Да, ваши игры стали более мягкими, и не такими кровавыми, как у древних людей, признающих самым большим развлечением, бои гладиаторов, но сама суть нисколько не изменилась. Ваша воля продолжает жаждать войны, даже пусть эта война происходит на шахматной доске».
+++
«Посмотрите внимательнее на себя, на свои амбиции и свои эмоции, от чего вы получаете удовольствия? В чём человеческая натура находит своё удовлетворение? Приглядитесь! Вы привыкли к тому образу жизни, который ведёте. Но если вы осознаете его зерно, это приведёт вас в ужас! Ведь вы находите своё счастье, как правило, ценой чужого горя. И, как правило, чем сильнее это чужое горе, тем сильнее ваше удовлетворение. Вы говорите, успокаивая себя, что счастье не построить на чужом несчастии. Но взгляните непредвзято на свою жизнь! Где ещё вы можете получить самое сильное удовлетворение, как ни там, где проявляется ваша сила, ваша мощь как физическая, так и духовная. Ведь даже ваши игры сохраняют в себе генетику боёв. В ваших играх, нечего делать без жестокости, злости и хитрости. И как на поле всякого сражения, победит всегда тот, кто наиболее обладает этими качествами, так и в ваших играх, где бои переведены на трансцендентальные поля, но всё же остаются такими же жестокими, и такими же кровавыми.
Не стройте иллюзий, что, придумывая для себя игры, вы придумываете что-то новое. Любая ваша игра явно или завуалировано, всегда, в своей сути, есть отражение войны. И все правила нашептываются вам, вашей внутренней воинственной сутью. Не одна игра не выходит за рамки этого основного принципа вашей воли. Игра, не замешанная на противостоянии, не просуществует и дня! Ибо будет не интересна вашей воинственной в своей плоти и крови, воле».
+++
«Плету косы своего разумения, постоянно вплетая в них случайные локоны, случайные мысли. Коса получается, – угловатой…»
+++
«Настоящая сила воли проявляется не там, где требуется выносливость страдания, но там, где требуется выносливость искушения. Где человек имея все возможности для получения удовольствия, отказывает себе в этом, и продолжает вести обычный образ жизни. Именно благосостоянием, проверяется наличие внутреннего стержня. Намного легче выносить страдания нищеты, чем отказывать себе во всём, имея на это полную возможность».
+++
«Посмотрите, как развилось, во что превратилось некогда простое ремесло. Например, «ремесло портного», или «ремесло лицедейства». – Не узнать! И примеров подобных метаморфоз и трансформаций, можно привести массу. Всё, что создаёт человек, все, в конце концов, – облагораживается.
Так простой аффект нашей воли, вытекающий из инстинкта продолжения рода, вырос в наших душах, в такое грандиозное явление, как – Любовь полов».
+++
«Все мы живём в мире волн, параметры и характеристики которых – бесчисленны. Сами, являясь носителями и источниками волны, неповторимой в своей форме. Мы ищем родственные души, но, по сути, ищем близкие нашим колебаниям, источники. Ведь нам просто необходим резонанс, чтобы как можно явственнее, как можно чётче, как можно весомее почувствовать самого себя, свою душу и свою жизнь…»
+++
«То, что, так или иначе доставляет нам удовольствие в искусстве, должно необходимо иметь в своей сути, ту же генетическую основу, что имеет наша воля. Некую соответствующую в себе, волну, с близкой нам частотой. Всякое искусство, будь то кино, живопись, скульптура, поэзия, содержит в своей сути, адекватный последовательный ряд желаний и удовлетворений, некую волну, рождаемую продуцирующей душой автора. И от характера этой волны, её синтетической последовательности и согласованности, способной резонировать с вашей волной, зависит ваше отношение к тому, или иному произведению искусства. Ведь у каждого воспринимающего субъекта, собственная, неповторимая волна желаний и удовлетворений, некая волна душевного высвобождения. Она имеет индивидуальную неповторяющуюся длину и частоту, и соответствующую способность настраиваться на близкие волны, (то, что называется, резонированием). Соответственно и реакции, на одно и то же произведение искусства, у всех различные. Вот собственно, та причина генетической сущности вкуса, как такового».
+++
«На самом деле, читая ли стихи, слушая ли музыку, или рассматривая полотно великого мастера, ты видишь и чувствуешь настолько глубоко и широко, насколько глубока и широка твоя собственная душа. И видеть дно, ты способен лишь своего собственного колодца, (и только опосредованно). Пред всяким произведением искусства, ты стоишь, словно пред зеркалом. И никакое, пусть и самое величайшее творение, само по себе не способно чудесным образом расширить твою душу, и углубить её. Всё это, вопрос твоего кропотливого труда, душевного труда».
+++
«Тонкая душа требует тонких воздействий, тонких возбуждений. Она реагирует на лёгкие прикосновения, на лёгкий ветерок. Душе же грубой, требуется не ветерок, но шторм, не толчок, но удар. Как бы она могла реагировать на тонкие воздействия?».
+++
«От грубых раздражителей тонкая душа грубеет, и уже не в состоянии реагировать на изысканное, лёгкое воздействие. Её «тело» покрывается коркой. Она дубеет, защищая свою нежную плоть».
+++
Что может ещё делать жизнь прекраснее и желаннее, как не её тяготы и лишения? Что ещё может сделать её ощутимее и существеннее, как не страдание и боль? Какой невероятный взрыв, какой подъём! Все силы организма мобилизуются, происходит взлёт эмоций, влёт ощущений собственной души! Нет, не счастье, и не благоденствие, но страдание и боль – вот то, что даёт нам желание жить и существовать, – желание быть вообще…»
+++
«Вы когда-нибудь задумывались глубоко над тем, почему наши часы, своим ходом, так напоминают бой нашего сердца? Почему так схож ритм этих ударов? Всё дело в том, что любое наше измерение, есть суть отношение к ритму нашего сердца, к нашему кровообращению, в самом широком понимании. Время, текущее вокруг нас, и все возможные трансформации, происходящие вокруг, по сути, есть отношение к ритму нашего сердца, скорости нашей крови».
+++
«Благочестие – благочестию рознь. Иной благочестив из трусости, из плоскости, мелкости и ограниченности собственного внутреннего существа».
+++
«Истинная любовь не терпит фамильярностей, они её разрушают, и, в конце концов, убивают. Как влага постепенно разрушает железо, так фамильярности, словно коррозия, потихоньку уничтожают любовь».
+++
«Антитезис каузальности мира: в своей глубинной сущности, мир не ограничивается порядком «основание – следствие», «одно – за другим». В нём есть «одно – в другом», и это «другое», не только в «третьем», но также в этом же «первом».
+++
«Вес высказываемых тобой идей, в глазах других людей, прямо пропорционален весу твоих предшествующих деяний. Люди всегда оценивают твои высказывания через призму твоих достижений. То, из чьих уст звучит высказывание, имеет решающее значение для окончательной оценки мысли, содержащейся в этом высказывании. Мы всегда предвзято относимся к тому, что и как высказывается. Для нас всегда имеет большее значение не что говориться, но кем говорится. Одна и та же мысль, высказанная разными по статусу людьми, приобретает своё значение в зависимости от нашего отношения к этому статусу. Объективность в принятом значении слова, здесь отсутствует, впрочем, как и всюду. И в этом смысле написанное на бумаге и вышедшее в печать, каким бы ни было бредовым, для нас приобретает ореол почти истинности. Ведь авторитет печати для нас остаётся – неумолим».
+++
«Эмоциональный фон книги, – вот то, что создаёт интерес к ней. Книга, в которую не вложены эмоции, в силу ли не способности автора, либо в силу характера описываемого предмета, будет не интересна читателю. И чем ярче эмоциональная подоплёка, тем интереснее для читателя будет повествование. И совершенно неважно, какую моральную ценность представляет собой корень этой эмоциональности. Например, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, – книга, где каждая строчка буквально пропитана местью. Где почти каждый абзац бунтует против несправедливости. И где наказание автором носителей этой несправедливости, вызывает сладостное чувство удовлетворения местью. Переживать эмоции, – вот то, чего мы хотим, когда наш желудок полон».
+++
«Вообще, самая глубинная сущность музыки, её истинная причина рождения, если уж быть точными насколько это вообще возможно, лежит не внутри нас, и не вовне, а где-то посредине. Она результат сношения нас, нашего разума, нашей души, с внешним миром. Музыка, это некая форма, появляющаяся в результате метафизической реакции, некоего синтеза наших «внутренних «флюидов», с «флюидами внешними». Она рождается где-то посредине точно так же, как рождается наша реальная действительность, – феноменальный мир. По большому счёту то, что мы воспринимаем как мир, есть продукт этого сношения. Он не существует вовне, и не существует в нас, он зарождается где-то посредине. Он дитя сношения, – дитя взаимодействия».
+++
«Доказательство как таковое, это локальная парабола рефлексивного разума, его рациональной ганглии, не доверяющей никому, и даже себе! Чувствуя подсознательно, что всё вокруг иллюзия, она, эта ганглия нашего разумения, по большому счёту пытается заменить одну иллюзию, на другую, – «иллюзию интуитивного» на «иллюзию рационального». Тем самым удовлетворив себя причастностью, и даже властью».
+++
«Как бы я не мыслил, откуда бы ни заходил, всегда прихожу к одному и тому же, – к пустоте. К тому, что всё так называемое сущее, это лишь продукт отношения. Отношения внутреннего и внешнего, рождающего в нас иллюзию действительности. Что в мире нет ничего по-настоящему фундаментального. И даже сама материя, не может иметь своей абсолютной законченной фундаментальности. Она фундаментальна лишь в нашем воображении, которое строится только на перспективах воззрения и осмысления. И стоит сменить такую перспективу, и её фундаментальность, её объективная основательность – исчезает. Будь материя фундаментальна сама по себе, то был бы возможен «конец» как таковой, в самом абсолютном смысле слова».
+++
«Всё и вся растворяется, как только ты пытаешься взять нечто в свои руки».
+++
«Хотите посмотреть, как исчезает мир, как он превращается в «ничто»? Так смотрите! Наш мир – это материя в различных формах пребывания. Всякая форма обусловлена пространством и временем, без коих существование формы – невозможно. Пространство и время обусловлены только нашим воззрением, нашей перспективной осознанностью внешнего бытия. Без субъектов, вне их познавательной способности, время и пространство – невозможны, и даже абсурдны. Эти две монады нашего мира, не имеют иных пенатов, кроме черепных коробок наблюдателей. Из этого необходимо вытекает положение, что субстанция материальности, также, как и всякая форма этой материальности, невозможна вне перспективных взглядов наблюдателей. Лиши материю формы, и она исчезнет как объект, останется лишь в нашей фантазии, в нашем рассудке, в виде фантома осознанности. С исчезновением же самого рассудка, исчезает и последняя возможность существования материальной субстанциональности. Так исчезает оплот мира, и мир превращается в «ничто», растворяясь в пустоте».
+++
«Дозирование напряжения мозга так же необходимо, как необходимо дозирование напряжения мышц. Ведь наш мозг подобно мышце, во время сильного напряжения разрушается, и для того, чтобы восстановится, ему необходимо определённое время. Чем сильнее и продолжительнее было напряжение, тем продолжительнее требуется время для восстановления. Перенапряжение длительного характера пагубно как для мышц, так и для разума. Существует опасность истощения ресурсов, что ведёт к неминуемой деградации и разрушению».
+++
«Единственно доступное нам осмысление «пустоты» при жизни, это так называемый «медленный сон». Здесь нет даже снов. Мы можем осознать эту «пустоту» только тогда, когда просыпаемся, только смотря на неё из реальной действительности, только – «по отношению». Только тогда, когда у нас появляется «реальная действительность» мы чувствуем, что до того была какая-то пустота. Само же это состояние, не ощутимо для нас, мы не в силах почувствовать пустоты».
+++
«Частота смен напряжений и разрешений в музыке определяет её характер, а количественное наличие в одном музыкальном ряду различных по частоте и длине более мелких напряжений и разрешений, символизирующихся диссонансами и консонансами, определяет её сложность. Так же как определяется сложность всякого предмета в феноменальном мире, его структурной сложенностью. Сложенность же, всякого предмета – есть лишь перцепция нашего разума. Ибо в мире вообще нет ни сложного, ни простого. – Мир нейтрален в себе, во всех смыслах».
+++
«Скорость движения в нашей действительности, есть лишь скорость «по отношению». Скорость «вообще», – такая же нелепость как лево, или право вообще».
+++
«Всякая воспринимаемая нами форма феноменального, или ноуменального мира, есть воплощение «пространственно – временного синтеза». Воплощение некоей диффузии, проникновения одного в другое, или точнее вытекания одного из другого. И тем самым искусство как таковое, и все его формы, есть воплощённое отражение нашей сути, как некоего «коллапса», в котором в клинч сходятся время и пространство. В искусстве, чистое олицетворение «временн`ого», – это музыка, чистое олицетворение «пространственного», – архитектура. Эти формы нашего искусства воплощают в себе «полюса» доступного нам проецирования собственных душевных динамических органоидов ноуменального характера, – во вне, на внешние воспринимаемые уже феноменально, предметы.
И что характерно, и в высшей степени удивительно, восприятия первого «полюса» (музыки), вызывает в нашей душе образы, то есть чувство «пространственного». Восприятие второго «полюса» (архитектуры), вызывает в душе чувство музыкального, то есть «временн`ого».
