ЦАРСКАЯ ЧАША. КНИГА 1.2
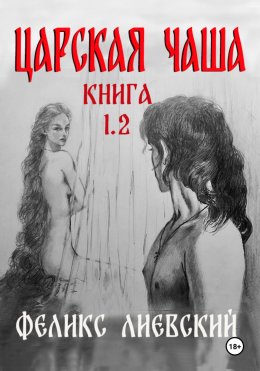
Глава 1. Хлопотное дело
Елизарово.
Начало сентября 1565 г.
Петька хотел войти в сени чинно, да не вышло: нарочное письмо из Москвы от батюшки, запылённый гонец с провожатым, и спавшая, наконец, жарища, благодатному осеннованию первому начало дающая, переполняли его неугасимым нетерпением… И память свежая о братнином приезде, да с такой свитою товарищеской, что в груди щемило. И досада, ведь ничего толком ему показать своего не успел! – а лук-то подаренный он приспособил, хоть и тяжка пока что была тетива для мальчишьих пальцев, да всё ровно приладился стрелять! И ещё как похвалиться хотелось, что они с Терентием надумали тут, силков ловко наделали на дичину, к осени готовясь, да и на конях умело такие штуки наловчились выделывали, что и черкасским княжичам не зазорно показалось бы… Другое дело, кони у них пока не те – справные, да стати простецкой. Как увидал Петька братнина жеребчика, Атру этого, так и спать вовсе перестал… Мать перепугалась, не захворал ли! А как тут не захворать. От похотения и себе такого же аргамака у Петьки жар разыгрался не в шутку. И брат шепнул, что, как только минет ему пятнадцать, то в свой «московский» стан его примут, и уж тогда и коня-ферязя молодого драгоценного он сам ему выберет. По нраву чтобы… По нраву! Как жену, говорит… Жену человек, воинским долгом облечённый, реже видит, чем коня своего и друзей своих, так уж повелось, и потому надо всему, что вокруг тебя есть, что служит тебе, душу придавать. Так и сказал – "душу придавать". Тебе да мне, сказал, не дома умирать в тихой старости, братишка, а, даст Бог, во поле при битве, и это – счастье, а потому люби всё, что тебе доблесть и стать воинскую составляет, как и род свой, как себя самого… Да и не справиться, говорит, ему сейчас с таким конём, и уход за ними нужен особенный, не то загубишь сокровище, да и всё.
Смотрел и слушал тогда Петька всеми своими возможностями. Никогда брата таким он не видал. От блеска и красы его новоявленной слепило, мутился разум – поменялся Федя неузнаваемо… – а и прежним остался. Как приобнимал его, и голосом мягким на ухо говорил, просто и понятно так, как в детстве бывало, шутил… И стал он выше не только ростом – смотрел иногда задумчиво, как бы забываясь и отрешаясь от всего вокруг, и тогда делался незнакомым, нездешним каким-то. Отчаянно хотелось Петьке стать вровень с ним, ведать его думы, дышать одними заботами и радостями, но даже слова спросить он не умел в такие минуты, не мог придумать, как чаяния эти свои выразить, а просто ждал, пока отпустит брата, и снова будет всё мирно, легко, тепло и весело…
В этот раз матушка по прочтении послания пришла в неописуемое волнение, и девкам её теремным пришлось бегать за мятными каплями и холодной водицей. Арина Ивановна велела себя наверх в горницу отвести, отдышавшись, перечла всё ещё раз. Было послано за Фролом, все вдруг засуетились, обмениваясь, почему-то, громким шёпотом, и Петька даже испугался, не случилось ли чего худого. Но девки шушукались по углам очень лукаво, а Марфуша, промокая слёзы концами платка, бормотала явно благодарности Пресвятой Богородице, из чего было видно, что событие случилось хоть и очень важное, но, скорее, радостное.
– Петенька, ангел мой, подойди. Нашлась Феде нашему невеста, и от батюшки наказов нам не счесть теперь – ко свадьбе, стало быть, готовиться будем. А пока нам с тобой ехать в Москву…
– Федька женится?! Вот это да! И ни словечком не обмолвился… А чего вы все плачете-то?! – тут до него дошло, что в Москву скоро ехать, и в полном восторге он кинулся матушку обнимать. – А невесту-то видели? А жить где станут, здесь, или на Москве? Или в Слободе? Тогда и я, и мы, может, с ними, а?
– Экий скорый ты у нас. Такие дела не вдруг делаются1… Вот на смотрины да на сговор нам прибыть и надобно, чтобы по чину всё было, по обычаю… Только ты пока помалкивай, дело то семейное, не вышло бы сглазу до времени!
– Что, и Терентию даже не сказывать? А я б его с собою взять хотел. А, матушка? Да и чего кому мне говорить – сам ничего ж не знаю толком…
– Посмотрим там, поглядим. Не одни мы отсюда поедем – почитай, все Плещеевы Ярославские, да из невестиной родни тоже собираются, соседи наши, как оказалось, Захарьины… Батюшка нам их дождаться тут велит, и с ними поездом единым уж тронемся.
– Долго ль собираться будем? А Захар поедет? Только, чур, я верхами, не маленький уж!
– Кто знает. Неделю-другую, может. Алексей Данилыч просит не медлить. Вот дождёмся всех, и тронемся. Погодка б не испортилась… Столько волнений! – Арина Ивановна знамением осенилась, глянув на лампадку в Красном углу. – Не приведи Боже что не так сделать, не ладно показаться…
Почему-то Петьке стало жаль мать, и вместе с тем – обидно, и зло даже на эту новую и незнакомую родню будущую, перед которой она так опасалась негоже выглядеть. Она, краше, милее, разумнее и добрее кого на свете не было. Разом припомнились сетования и отца, и брата, да и ближних дворовых их на великокняжескую спесь иных семей, и тут почуял Петька, что невеста братнина из таких как раз, по всему выходит. Да и о Захарьиных он слыхал тоже – родичи царицы Анастасии покойной, царевичей, а стало быть – люди большие… А отец невесты – так и вовсе свояк царю.
Нахмурившись, Петька сжал рукоять ножа, привешенного к поясу, и ласково погладил мать по плечу.
Как бы то ни было, а на другой день уже всё село, не то что двор хозяйский, знали, что старший боярский сын просватан за княжескую дочку из московских… И что терем будут городить пристроем в отцовской доме, для молодых – Фрол со старостой отправились звать к ним на эту работу плотницкую артель из сопредельных владений помещика дворянина Арефьева, где, по их сведениям, как раз завершалось ею какое-то дело. Имелись в обширном хозяйстве свои плотники, конечно же, но, по незапамятному древнему суеверию, если у хозяев было достаточно средств расплатиться, плотников-строителей приглашали не своих, но не потому, что свои хуже, а потому, что чужие мастеровые наверняка не имеют никаких жалоб и возможных обид на хозяев, и их, как пришлых, не имеющих связей ни с кем местным, не могут сглазить, а они не имеют резона недобросовестно отнестись к делу… Как ни была добра боярыня Басманова к своим работникам, а в этот раз не решилась нарушить артельного обычая.
Как началась постройка, Арина Ивановна, от шума этого затворяясь, ночевала даже иногда в избушке Марфушиной, которую подлатали и вымели чисто, поодаль от двора. Нянюшка ребят Басмановых сама замужем не бывала никогда, так уж вышло, что весенний век свой пронянчилась с младшими своими, да с родителями хворыми, и до сей поры девичий сарафан носила2, хоть и не такой уж цветастый, как в молодости… И косу нерасплетённую, поседевшую напрочь, под пёстренькими платками и шалями прятала. Сейчас вот в обновках, что Федька в последний раз привёз, ходила, и радовалась, точно отроковица, нарядной собою любуясь потихоньку… В тихой маленькой её избушке, опустевшей с тех пор, как обитетельница её переселилась в хозяйский терем, теперь сама боярыня укрывалась от непрестанного весёлого, бойкого шума топоров и голосов мастеровых мужиков, радость сулившего, да только головушке от него больно бывало.
Целыми днями теперь все заняты были: мёд, орехи, ягоды собирали, и для себя, на зиму запасы, и для хозяйского стола, а уж им боярыня сама ведала, соленья и меды такие варила, что и к царскому столу подать не зазорно.
Особо, конечно, занимались льном. Красили полотна в артельном овине, сносили туда охапками и корзинами загодя запасённой коры крушины, ольхи и зверобоя цветы – для тёмно-красного; васильков с черникой – для глубокого синего; дубовой коры и грушевой, листвы берёзовой, дрока и шелухи луковой – для ярко жёлтого. Вываривались, вымачивались в разноцветных чанах натканные за весь год прошедший полотна, готовые – выжимались сильными мужицкими руками, расправлялись и развешивались над сушильными печами. Подарков предстояло наготовить великое множество невестиной родне, да и показать заодно, каково хозяйство жениха вотчинное3… Весть о передаче воеводой вотчины семнадцатилетнему Фёдору уже облетела окрестности, но для жителей Елизарова это ничего особенно не меняло – обоих, по всей видимости, редко будет здесь видно, а распоряжаться всем по-прежнему придётся Фролу и боярыне.
Ожидались и гости-родичи, которым надлежало быть сватами, ну и сопровождать Арину Ивановну с Петей.
Первыми прибыли молодые Андрей Иваныч и Григорий Фёдорыч Плещеевы, из Ярославля, и Захарий Иваныч Очин-Плещеев с ними, и сразу стало легче. Рассказали, что дружкою быть Захару Иванычу-младшему, племянничку Очина, Фёдора товарищу, это уж решено, ему и со сватами идти, тем паче, что сам недавно отцом сделался. Им же – поддружьями, совместно с новыми опричными знакомцами Федиными, а вот прочие чины – то подумать надо. Но думать будут оба батюшки, а их теперь задача – всю ватагу родственную и кутерьму предстоящую путём-законом поддерживать и помогать всячески.
– Бог ведает, – говорил Захарий Иваныч, – да государь, когда Иван Дмитрич наш от войска отъехать сможет, а без него свадьбу не сыграть. Да и без князя Охлябинина! – они смеялись громко и открыто, и верилось, что всё идёт, как надо. Близкий родич воеводы Басманова, Иван Дмитриевич Плещеев по прозванию Колодка, тоже ныне опричный воевода, как и Охлябинин, был по службе над полком где-то Оке…
– Ему и тысяцким быть, не иначе!
– А Фетиньюшка здорова ли, будет ли?
– А как же! Не изволь беспокоиться, Арина Ивановна, без сестрицы нашей свадьбы не затеем!
– А Федю не видали ли? Как он сам-то? – не сдержалась и всё же спросила она.
Вышла заминка малая. Не видали, были кто где ведь, худого не слыхать, а, значит, всё добром. Беспокоиться напрасно нечего. Невесту тоже не видели. Поди, не повяжет Алексей Данилыч сына любимого с какой-нибудь змеищей или уродицей, а хоть бы и племянницей царской была. Сказывают, красавица.
Шутили всё…
Но на душе у Арины Ивановны непокойно было, думалось, отчего это Алексей Данилыч спешно так сватовство учинил, и отчего сам Феденька об том, дома будучи, ей ни словом не обмолвился… По всему выходило, что сам не ведал ещё об отцовском решении. О многом бы ей хотелось Федю порасспросить, ноющее сердце успокоить, да только знала – прямо не ответит…
Перед самым отъездом в Москву, вконец исстрадавшись тревогой, затеяла Арина Ивановна гаданье-ворожбу, ото всех глаз затворившись в своей горнице. Завиток волос шелковых сына из ладанки извлекши, всматривалась долго, ласково приговаривала, и, решившись, уколола серебряной булавкой палец. Капля крови упала прямо на язычок огня гадальной свечи, вскипела, с лёгким треском исчезла, и тут пламя вспыхнуло ослепительным золотом, так, что Арина Ивановна вскрикнула и отпрянула, и зажмурилась… Белый лик сына возник из сплошного огненного дыма, очи его, зачарованно распахнутые, и в них отражённый, смолой кипящей, живым серебром, остриями клинков-зубов и когтей, и вкруг него, всего обнимая – кольцами Змей Великий, Царь подземный… Перепугавшись, брызнула она водой освящённой поверх гадания, свеча дрогнула и стала вновь маленькой и ровной. Перекрестив волосы Федины, она убрала свою драгоценность обратно в ладанку, прижала к груди, и оставалась долго недвижимой, страшась разгадывать увиденное.
Москва.
Строящийся новый царский двор на Неглинной.
10 сентября 1565 года.
На месте недавнего пожарища, поглотившего двор князя Михаила Черкасского, теперь расширилась целая площадь, и быстро зарастала уже стенами над подвалами и подклетами вновь задуманного Иоанном для себя подобия Слободской твердыни. Князю Михаилу строились палаты тут же, поодаль, покуда сам он с семейством в Кремле обитал.
Резной громадный двуглавый орёл, выкрашенный в чёрное, высился над Большими воротами, грозясь озлобленно на ворогов с востока и запада равно непримиримо, и всё тут кипело работой, и особой, на дух уже знакомой опричной, свойской, лихостью. Чёрных кафтанов тут было изрядно, как и празднично-цветных, и в полуденный час обычного отдыха молодцы любили, как и в Слободе, повеселиться. Остановясь в тени почти уж готового помоста посреди площади, готового служить и царским местом, и глашатайным, и судным, и потешным тоже, Иоанн с ближними, все верхами, задержался подглядеть за молодецкой потасовкой с интересом и всегдашним удовольствием. Конечно, ребята уже прознали, что царь здесь и на них смотрит со стороны, и разошлись пуще прежнего. Кафтаны, часто без рубах ими носимые, побросаны в пыль были, и несколько пар бойцов, по пояс голые, блестя мокрыми тугими мышцами, ломали и валить друг дружку наземь старались, а вокруг, свистом и забористыми выкриками их поощряя, кипела опричная братия. По обычаю, бить старались бескровно, не в голову, больше на ловкость напирая, да не всегда получалось, и кое-кто кровью сморкался и сплёвывал, однако старшины пока поединка таковых не прерывали.
Федька гасил в себе укоры зависти. Отмечая всякое выражение удовольствия в лике государя при особо удачном и видном выступлении кого-нибудь из молодцов, завидовал их вольному развлечению, за коим государь всегда с радостью наблюдал…
Грязной, да и Вяземский эту его слабинку как-то раз отметили, и случая не упускали поглумиться, конечно, даже если вид Федьки никак переживаний его не выдавал. Начинал обыкновенно Грязной.
– Чо, Федя, и хочется и колется? Бело личико, оно, конечно, как не поберечь…
– А хоть бы и так! Это тебе, образина, терять нечего. Да мне и государь, вон, шкуру портить не велит. А я хоть щас! Не веришь? А пошли со мной! Афоня, Васюк трусит. А ты?
– Чего я? – помедлив, как всегда, спокойно свысока отвечал Вяземский. – Не велено раз шкуру твою портить – значит, и не станем.
– Да ты боишься, что уделаю тебя, – не менее надменно и даже с ленцой отвечал Федька, обдавая обоих своих противников невыразимым презрительным взором, полускрытым тенью ресниц.
– Ты-то?! Ой не смеши. У меня на твои выкрутасы, знаешь ли, и коленца с хитростями один ответ имеется: дам оглоблей по башке – вот и вся ласка!
Они с Грязным заржали, Федька отмахнулся.
Государь тронул поводья.
Пора было возвращаться.
Любопытно, знает ли Вяземский наверняка о его расправе над Сабуровым, догадывается ли. Этого никак нельзя было понять, а сам он ни разу ни о чём таком не намекал. Грязной же подкатил однажды, встретивши их из богомолья, с паскудным смешком, как всегда, а правда ль, что не без кравчего старания Егорка на ножик наткнулся. Как всегда теперь, таким же смехом Федька не отрицал, но и не утверждал сказанного, чем доводил Грязного изрядно. И порой чудился сквозь легкомысленный глум этот в Грязном неподдельный, старательно скрываемый страх. В зрачках.
Федька омрачился, припомнив, что из-за всех переездов упустил распорядок в занятиях «выкрутасами и коленцами», и нагонять будет тяжко, это он уже знал по опыту. «Оглоблей по башке»! – Я вам покажу ещё и оглоблю, ничего, заткнётесь тогда!
Как бы не мечталось ему козырнуть перед всеми тем, чему уже наловчился, наставник твердил ему непреклонно, что рано ещё, а пустое тщеславие есть неразумие полное, и часу своего он дождётся по праву. Что ж, подождём тогда.
Разозлившись опять, что воздержание его от потасовок могут принимать и впрямь за жеманное себя бережение, Федька испытывал жестокое желание накостылять кому-нибудь как следует прилюдно, и даже раздумывал, как это всё же устроить… В Слободе оно представлялось возможным – затеять потешную потасовку, и развернуться как следует. С недавних пор он понял отчётливо, что его как бы остерегаются. Конечно! Царскую Федору ненароком обидеть никому не хотелось, а и поддаваться тоже не было охотников, и не важно, что новобранцы на него с восторгом смотрят, с завистью, а бывалые – по-разному, но не без своеобразного уважения… Злило Федьку неотвязное это прозвище, однажды Грязным, на такие штуки гораздым, выпаленное, да зацепившееся, как видно, всем за причинные места. На самом деле, так и было, да и слава по Федьке укрепилась, что бешеный, на любое окаянство способный, а с таким связываться – себе дороже…
При всём прочем, он проголодался очень, а государь всё объезжал новое возводимое хозяйство своё без видимой устали, торопясь с делами управиться до завтрашнего дня. Ибо намеревался непременно быть завтра в Коломенском, в той необычайной Дьяковской церкви4, что над самым Велесовым оврагом особняком стоит…
Вовек не забыть было Федьке тех дней и того оврага, и даже сейчас, отсюда, из шумного солнечного, ещё по-летнему тёплого суетливого дня веяло на него таинством и вечным каким-то холодом, оттуда, из недавнего прошлого. Почти забытое происшествие, по словам свидетелей, едва не стоившее ему жизни, встало перед ним с прежней ясностью и непостижимостью… Будет ли когда ответ? Надо ли искать его, или ввериться без оглядки судьбе?
Никто не знал точно, что сподвигло государева батюшку, Великого князя Василия Иоанновича, заложить храм этот, за что просил прощения у Всевышнего, о чём молил, мрачным скорбным событием тем библейским вдохновившись, никто не знал… Какими дарами тайными вымолил у Неба себе долгожданного наследника, Иоанна несравненного Четвёртого, дивный храм достроившего. И глава усечённая Иоанна Предтечи там, точно живая, обитала, на подходящего взирая с мусийной5 надвратной иконы, на входе в пределы старого Дьяковского кладбища, тишайше окружившего крестами, камнями и плитами надгробий храм со всех сторон… Многостолпный и многопредельный, одиноко возносящийся над провалом оврага, не похожий ни на какой иной, Федькой виденный, завораживал храм прихотливой стройной красотой, которую рассматривать хотелось бесконечно, обходя вокруг, и пугало это место, и манило, и доставало до самой затаившейся души… Венчанный тёмным шеломом, не луковкою золотой, стоял он неким молчаливым воином, отшельником задумчиво хранил свои таинства, и открывался, как водится, лишь ответно открытому, искренне и смиренно просящему сердцу… Но обитало здесь, вокруг, всюду, с божественным наравне, даже под храмовыми сводами, что-то необъяснимое, из мрака и крови самого времени и самой земли вырастающее, и – влекущее могуче. Жила молва о неких людях, здесь в незапамятные времена обитавших, а после вдруг в одночасье исчезнувших, сразу, со всем своим хозяйством, а куда – никто не ведает… И что видят тут иногда невесть откуда взявшихся чужаков, как будто не в себе они, и одеты не по-нашему, но место узнают, а домов своих и из людей – никого. Куда-то после они снова девались, уходя в туманные ночи вниз, к Велесову ручью. И ему уже не терпелось побывать там опять: нечто беспредельное, дремучее, непонятное и сладостное ожило, шевельнулось в нём снова, и стало звать неясным глубоким мерным зовом, точно очень-очень дальний колокол во тьме, единовременно бивший в самом зените его сердца. Федька побоялся слишком провалиться в эти настроения, тем утратив внимание ко всему насущному, совершающемуся сейчас. Навь нахлынула. Но он встряхнулся, к Яви вмиг возвращаясь, и солнце засияло с прежней спокойной уверенностью, обозначив света и тени, и приглушённые звуки мира опять вспыхнули и стали плести свой обычный беспорядочный хор.
Сегодня будут сборы и служебные хлопоты до самой полуночи, наверное. Завтра – недалёкий путь в Коломенское, где сейчас красота, конечно, в разукрашенных бабьим летом душистых садах и речных долинах, а поселяне вовсю начали солить свои «царские» огурцы… А уж оттуда, заночевав, хотел отправиться государь обратно в Слободу.
Наконец, воротились все в Кремль.
Отпуская его привестись в покоевый порядок и к трапезе приготовиться, Иоанн как-то особенно на него взглянул. Федька всё повторял себе, что это помнилось, что он сам всё время ищет в государе к себе чего-то необычайного, но… Уловлять малейшие его движения, различать их стало для Федьки необходимостью, насущным желанием. В трапезных сенях увидал он батюшку, беседующего о чём-то с князем Сицким, Василием Андреевичем, и они, на его поклон ответив, тоже как-то пристально посмотрели. Проводили его оба долгим взглядом, и всё беседовали, пока дворецкий всех к трапезе не пригласил рассаживаться.
Были сегодня и другие знатные гости на обеде. Федьке работы хватило – чаши и блюда с государева стола то и дело объявлять да разносить. Со многими государь желал переговорить, прежде возвращения в Слободу, и к государю у многих прошения были неотложные. Вздохнув, Федька приготовился в оставшееся до отбытия дневное время развозить по указанным дворам царские гостинцы. А заодно и подслушать-подсмотреть, чем нынче Москва дышит по боярским углам.
А вечером была для него неожиданность – явились к государю воевода Басманов всё с тем же князем Сицким. Говорили в кабинетной комнате с ним наедине, а потом послали за Годуновым.
Федька изготовился батюшку выловить в сенях, нутром чуя, что должен нечто разузнать. Уж слишком необычно сегодня воевода выглядел: по всем заповедям боярским, в длиннополой однорядке, в наручах жемчужных, в сапогах бархатных на золочёных подковах, и даже в шубе тафты златошитой, на плечо могучее накинутой, подбитой соболями, с бобровой оторочкой, и высокую бобровую же шапку в руках имел.
Однако выловили его самого – с поклоном поясным покоевый посыльный юноша Милан, пригожий, точно вешняя зорька, со стриженными в скобку6 пшеничными кудрями, передал ему наказ тотчас в государевы покои идти, и сам его до дверей проводил, как бы прочего важного гостя.
Федька вошёл. Стрелецкая стража затворила за ним двери с размеренной важностью.
Поклонился земно государю, затем – воеводе и князю, сидевшим на креслах против царского, и стал смиренно, не зная, чего и ожидать-то. Молчали все, и его разглядывали, кроме Годунова, бесстрастного стоявшего над раскрытой приказной книгой у писарского своего места. Вздохнув, государь заговорил, к Федьке обращаясь, и тут же воевода с Сицким поднялись со своих мест, значительно и торжественно.
– Вот, Федя, ныне для тебя особый час настал. Час, для всякого Божьего раба, мужа смертного, самый важный и радостный. По разумению нашему, и соглашению почтенных сих наших слуг ближних, столпов и опоры нашей (тут государь повёл рукой в сторону обоих старших посетителей, и те поклонились словам его благодарно) оказана тебе честь, и сейчас будет объявлена. Димитрий, зачти Указ мой.
Федька замер, онемев от неожиданности такой.
Годунов, с поклоном тоже, развернул свиток пергаментный, и прочёл звучным, твёрдым голосом:
«По Указу Божиею милостию Великого Государя, Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича всея Руси, Владимирского, Московского, Новгородского, Царя Казанского, Царя Астраханского, Государя Псковского, Великого Князя Смоленского, Тверского, Рязанского, Полоцкого, Ростовского, Ярославского, Белоозерского… – читалось Годуновым по полному титлу, а Федька умирал в ожидании недвижимом, – и по благоволению супруги Его, Царицы и Великой княгини Марии Темрюковны, и челобитию родителей жениха и невесты, боярина Алексея Данилова сына Басманова-Плещеева и боярина князя Василия Андреева сына Сицкого, велено женить Фёдора Алексеева сына боярского Басманова-Плещеева на Варваре Васильевой дочери княжеской Сицкой. И свадьбе быть при дворе государевом по княжескому чину, с благословения Божия, лета семь тысяч семьдесят четвёртого».
Годунов свернул грамоту и поклоном завершил чтение.
– Федька, ну что столбенеешь? Благодари государя нашего! – негромко и по-доброму досадливо прогудел воевода.
Огловушенный новостью, Федька побледнел даже, не отнимая ладони от сердца, заметавшегося в мыслях самых жутких. Но отцовский пинок и выучка двинули его выполнять обычай помимо разума. Пав на колени, коснулся лбом пола у государевых сапог и целовал его руку. Земно кланявшись, целовал руки отцу и будущему тестю. Все они что-то отвечали одобрительно и важно, он не разбирал – так в ушах шумело. Только позже дошло до ума обещание отца обо всём переговорить вскоре наедине. Кажется, воевода и Сицкий стали с государем прощаться, уходить собираясь, и Годунов, собрав бумаги и Указную грамоту, уже за двери выходил…
– Федюш! Ты, никак, без чувства грянуться надумал? А ну, поди, поди ко мне! – в голосе Иоанна играл насмешливый задор, и в палате они были теперь одни. Федька очнулся в приливе отчаянной лихости, словно чёрт, раздирающей его в осознании подобного насилия над собой. Отерев со лба испарину, он рванул ворот рубахи, освободив на три пуговицы, переведя дух, и обессиленно опустился на ковёр у ног Иоанна.
– Грянешься тут! Намекнули бы хоть!!! Не жалеешь ты меня вовсе…
– Федь, так что ж, и впрямь не знал ты ничего, что ли?! То и дело слышу, дескать, Басмановы отец и сын – одна сатана, не разлей вода – вместе заодно всегда всё решают, – искренне изумился государь, наклоняясь, чтоб видеть его лицо. Федька мотнул головой.
– То-то гляжу, побелел ты. Ай, Данилыч! Крутенек воевода. Иль, напротив, нечаянную тебе радость сделать хотел. А ты – вона как. Так что, Федя, совсем женитьба с души воротит?
– Да что ты, государь. Мне б с честью такою… справиться – вот об чём маюсь теперь!
– Смеёшься, вижу?
– Да полно! До смеха ли… – Федька явно дерзил, поглаживая под расстёгнутой рубахой грудь. Государев настрой о многом ему сказал, подстрекая к ответному в лад, и хоть говорили они о серьёзном очень, но – не о свадьбе совсем. А о его, Федькиной, послушании. Поднявшись, Федька, всеми бесами сразу терзаем, Иоанну в очи глядя, до дрожи желал сейчас же о многом испросить, да тут постучала в дверь стража – просился кто-то к царю важное передать. Вот-вот явятся рынды и сами допущенные до государя просители.
С невнятным стоном отошёл Федька, чуть покачнувшись от головокружения, с наряда невидимые пылинки смахивая.
Знал Федька, как пробьёт полночь и начнётся скорбный праздник Усекновения, переменится Иоанн, погрузится весь в иное, смиренное, строгое. Ни для кого не досягаем станет… А сейчас, в опочивальне, наедине с ним, утешался своим тёмным весельем, дозволяя Федьке забываться, свободно на всё отвечать, изводил его речами непотребными, какими мужики, отдыхая, меж собой забавляются, да пытал, пошто испугался так нынче, что просватан. Пошто растерянным прикидывался. А ведь известно, что грешил, грешил с девицами-то!
– Да! Да, чуть не помер!.. Как подумалось, что отсылаешь меня! От себя… прогоняешь!.. – задыхаясь откровением, он во всём сознавался: – Что не люб я тебе больше!
– Обезумел ты, вижу, вконец! Коли не люб – стал бы я за тебя племянницу-красавицу отдавать! Так бы отослал…
– …в Гороховец! – выдохнул Федька.
– Дался тебе этот Гороховец7, Федя… Договоришься! Подарю. Ну и спрошу уж тогда!
Собираясь от мирского омываться и к полуночной молитве готовиться, Федька улыбался истомлённо, и от всего нахлынувшего за день еле уже ворочал языком.
– И тем паче боязно… – он сел на краю лавки, оглядываясь ласково на усталого тоже Иоанна. – А ну как не слажу?..
– Ты, Федя, сладишь. Абы кому я княжён не раздаю. Сказано же. Знаю, постараешься.
– Вот теперь не то что взлают – взвоют, Государь ты мой!.. Дескать, великие роды бесчестишь, знать исконную унижаешь… А возвышаешь до себя недостойных…
Иоанн окаменел острым профилем, и рукою стиснул полу ферязи, как в судороге. И руку разжал, глубоко передохнув.
Федька удостоверился, что стрела его достигла цели. Давно рвалось из него это высказать. И ежели кто им, кравчим, как прежде – Анастасиею Романовной, как не ровней, сейчас царя попрекать вздумает8, тот на свою голову грозу призовёт неминуемо.
Помедлив, подобрав во что переодеться, Федька, пошатываясь, как слегка пьяный, от расслабленного утомления, двинулся к мыленке, раздумывая, надо ль избавиться от боязливости своей вечной, и что на самом деле означает эта женитьба, и как всё далее будет. Немного уязвило его, что батюшка, сам решив его судьбу, на что право имел, без сомнения, никак его не упредил… Но тут много было возможных толкований и оправданий, и он решил точно так же, как в первый свой день в Кремле, который врезался в память его навеки: значит, такова судьба, и так надобно. Батюшке виднее… Или проще всё – в самом деле нечаянно порадовать его хотел. И нежданно возникло для него некое новое предвкушение, и даже некая прыть и запал от предложенного испытания. Что испытание это предлагалось ему, наравне с батюшкой, самим государем, Федька почему-то не сомневался. Или опять бес гордыни искушает, подумалось с насмешкой над собой же. Всему-то ты хочешь небывалую для себя суть придать, вызолотить всё. Женитьба эта… Княжна… Государева племянница… Может, никакое это не наказание, не остуда, а в самом деле – высочайшая милость.
Ощутив небывалое блаженное счастье, он вернулся и быстро склонился к Иоанну, благодарно обнял его, проникновенно и мимолётно.
Иоанн принял от него халат, отпустил. Ушёл в молельню один, а после долго не спал – Федька слышал его шаги, редкие подавленные вздохи и шелест свитков… И свечи над столом не гасли. Время от времени принимался государь еле слышимо пропевать размеренные строки. Как видно, занимается своим "Ангелом Грозным"…
Федька с сожалением оставил нетронутой чашку молока, заботливо припасённую для него Арсением. Минула полночь, начался долгий постный день в честь Пророка Иоанна.
Провалившись в сон на краткие часы, он начисто забыл о вчерашнем потрясении. Но, встретясь с воеводой на выезде из Кремля, вспомнил вмиг наказ о свадьбе. Завертелось разноцветным колесом смятения сердце. На сей раз батюшка посвятил его в намерения устроить сватовство на неделе, сказал о приезде матери с братом. Но его, Федьку, эти хлопоты пока что не должны касаться – его дело жениховское начнётся после сговора, а уж там – как Богу и государю будет угодно, всё своим чередом пойдёт.
– До Покрова свадьбу справить вряд ли успеем, Федя. Нам-то канителиться не досуг, сам знаешь, делов государевых невпроворот, и чем далее, так горки-то крутее, а стремнины бурливей… Да, вишь, у Сицких, как у прочих, чиниться принято, обычай тут княжеский нарушить никак нельзя. Поспешание такое дурные толки повлечёт неминуемо, и для девицы, и для семейства всего вредные. И уж нам с тобой славы лишней не надо! До весны доживём, стало быть, а там – как сложится. Ну, с Богом! Свидимся ещё, там и поговорим как следует.
Федька кивнул, воевода раскланялся с государем, повернув со своим отрядом после Троицкого моста по служебным московским делам.
Свидимся, поговорим, до весны доживём… До весны! Встряхнув кудрями, нахлобучив снова атласную шапку с собольей чёрной оторочкой, Федька поспешил совету отца последовать, и не принимать на грудь тяжести лишних дум, пока и прежних вдосталь.
В медово-яблочном мареве ясного полудня царский поезд приближался к зелёному холму над Москвой-рекой, а казалось, что это белая ввысь устремлённая громада Вознесения плывёт к ним над кудрявыми верхушками окрестных садов… Федька ощутил волнение, сильное, и суетное, и высокое, и от этого смешения ему было необычайно и приятно. В честь государева прибытия протяжно величаво звучали колокола, всё происходило неспешно, торжественно и просто, согласно чтимому празднику, суровому и вдумчивому по основе своей.
Время тут как бы замирало, за белокаменными стенами оставалось извечное бурное и массивное коловращение стольного града, копошение людских забот, и часы потекли бесконечно-отстранённо от прочего мира… Государь не притронулся к скромной трапезе, только воды испил, и Федька невольно следовал ему, хоть никогда такого строгого воздержания от ближних, какому себя подвергал, Иоанн и не требовал. Голода он не чувствовал, настроенный на страстное самозабвение Иоанна в жажде духовной… Облачиться пожелал ныне государь в чёрную ризу свою, и вся его свита опричная была, ему согласно, в чёрном. Прочие же из сопровождающих одеты были празднично.
Отстояли службу. Акафист Предтече хорош был особенно, государь доволен остался певческими стараниями коломенских служителей.
Царица Мария, по обычаю, отправилась посетить мастерскую рукодельную и со странницами-монахинями побеседовать, прежде чем внять с царевичами вместе чтению иноками благочестивых книг, о давних делах в земле Арамейской повествующих. А государь остаться пожелал в храме один на один с небесным своим покровителем, и только кравчего не отпустил от себя далеко… Народ окрестных селений, выслушав напутственные речи своих духовников, разошёлся по дневным делам обычным. В округе стихло…
И всё на этот раз было не так, совсем не так, как тогда, на весёлом до бесшабашности многолюдном праздновании Николы-зимнего. Виделось теперь то действо нездешним совсем. Небывалым казалось, разгульное и радостное, чуть ли не с бесячим пополам. Здесь же, повинуясь строгости Иоанна, блаженной общей тишине, вставшей окрест, и нарушаемой только гулким красивым эхом под сводами храма от шагов и сдержанных голосов, Федька даже устыдился жгучему воспоминанию о той буйной шалости, задорных румяных влюбчивых девицах-помощницах, этой шутейной Велесовой шубе, о кострище, хмельном всеобщем благопомешательстве, и собственной непотребной пляске с личине со Змеиным Царём и зверьём всяческим… Все лики образные со стен вдруг воззрились на него: праведные жёны, Елизавета с Мариею – с осторожной жалостию будто, сам Предтеча – недоумённо, с поднятым точно в предупреждении пальцем, и сдвинул брови Михаил-Архангел. И колени подломились. Федька с горячим смирением упал, принимаясь молиться о снисхождении к себе от них, таких запредельных, неколебимых, парящих в бесконечной высоте над ним, нечестивым, гнусным даже, маленьким и озабоченным суетой праздной… И чем больше гнал он от себя прежние видения, тем острее и явственнее восставали они: сырой свежий запах снега, мокрые шубы, горячая близость безумия накануне ночи, и вдруг, как чёрная молния – ледяные объятия блаженства тяжёлой и сладкой воды, где он хотел остаться… Нежный переливчатый плеск родника, напевающего ему из недр тьмы подземной о вечном счастье… О подвиге Ином, большем, чем всё земное исконное противостояние человеков меж собою, в котором они, аки твари всякие, побеждают друг дружку на миг, а после и сами издыхают бессмысленно, и так всё сызнова, беспрерывно. И слава победивших громыхает сперва пушечно, а после слышится, как горсть копеек медных в суме нищего… А нищий тот – блаженный, всё смеётся щербато-беззубо, а по щекам сморщенным во впадины слёзы катятся… Перед очами Федькиными померк прекрасный лучезарный отсвет раннего вечера, прознобило его, жаром и холодом пота прошибло, ведь всем собою вспомнил он и другое, где были он и государь одни, на одре его, а дед-знахарь о «шаге в небеса» и «мужестве неосознанном» в нём твердил, и никто этого не понимал толком. А он, Федька, сам себе не верил, таким было наваждение Смерти-Ухода вожделенным – тогда, и несусветно-невозможным теперь. С глухим стоном он ударил себя кулаком в грудь, ужасаясь своего бреда, своей жажде пасть в него снова, и вторить стал словам Иоанна, молившегося в нескольких шагах… «Мудрый ангеле и светлый, просвети ми мрачную душу своим светлым пришествием, да во свете теку во след тебе!.. Ангеле грозный и смертоносный, страшный воин, помилуй мя, грешного, нечистого, ничтожного перед тобою!.. Ищу защиты и помощи твоей, коему всё ведомо, непобедимый, и не хочу скрыться от твоей нещадности, но укрепиться в мудрости и благости…».
Иоанн повёл взором на истовую молитву его, приблизился, мягко возложил на вздрогнувшее плечо ладонь, и продолжил глубоким тихим рокотом: – Запрети всем врагам борющимся со мною… Сотвори их яко овец, и сокруши их яко прах перед лицем ветру! И от очию злых человек мя соблюди!
– … соблюди! – вторил Федька, не поднимаясь с колен, искренне вглядываясь в сурово сдвинутые брови и соколиный взгляд Архистратига. Голова Иоанна Предтечи, возлежа на блюде серебряном, как бы умиротворяясь, засыпала, переставая следить за ним из-за полусомкнутых тёмно-коричневых век…
Тени наступали на утихающий Коломенский рай.
Словно все силы истратились у него – вышел, сам не свой, впору упасть бы и лежать тут, среди могильных камней замшелых, в сырой пахучей траве, без единой мысли, под последним предвечерним солнцем. На сумеречную впадину Велесова оврага, отсюда сквозь пушистые деревья не видимую, он опасался оглядываться пока.
В своём покое, в спальне, маленькой, точно келья, перед тем, как ко сну разоблачаться, снял государь один из перстней своих, что с архиерейским камнем9, и подал Федьке.
– Носи. Берегись для меня, Федя.
С низким поклоном принял Федька дар государя, драгоценный вдвойне из-за слов, к нему произнесённых.
Иоанну же нравилось, в такие, особые минуты наедине с ним, обыкновенно сидящим у ног его, возлагать руку на его лоб и стаскивать скуфейку с шёлковых кудрей, падающих свободно и тяжело, обрамляя внимательное и одухотворённое юношеское лицо… Вглядывался в него государь, иногда мыслями при том далече будучи, как будто через смертную плотскую кожу, глаза, губы лица этого совсем иное что-то наблюдал. «Кто ты? Что ты такое есть?» – того гляди послышится вопрос. Не шелохнувшись, не моргая почти, не дыша вовсе, Федька упивался и равно ужасался безмолвием того единения… И сейчас государь безмолвно вопрошал его душу, искал в облике его приметы того запределья прошлогоднего, и не мог разобрать Федька, желанно оно государю, или страшит больше. А всё равно – манит, манит, это Федька понимал животным каким-то чутьём…
Ему нечестиво хотелось остаться. Надвигающаяся ночь густела слишком быстро, и прошедшие под окном караульные перекинулись согласным предсказанием скорой грозы. Всё притихло, накрытое перевёрнутым тёмным плотным ковшом небес, издалека докатился, лениво пока что, гром.
– Всё. Искончалось лето Господне… – промолвил Иоанн, перебирая чётки наперстные, набранные из бусин камня архиерейского тоже, и с болезненной тоскою тяжко переводя дух.
– Устал ты. Возлечь бы тебе, Государь мой… А я, коли дозволишь, тут, рядом, на лавчонке вот, да хоть и на полу, побуду, а?.. Иль Наумова позвать?
Сверкнуло, прошумел порыв ветра. Оба осенились знамением, и молчали, дожидаясь приближающихся раскатов грозы, возможно, последней в эту пору. Огонёк лампады повело сквозняком.
– Воды принеси с мятою, рубаху новую, и себе постели, как знаешь… Да не зови никого, сами справимся.
Вспомнив, что целый день не ел ни крошки, Федька пулей послал на дворцовую кухню Сеньку, где тот добыл господину (и себе) кринку молока да ломоть ржаного хлебушка, и помчался обратно в келейный государев покой. Передал ещё Федьке свёрнутую медвежью шкуру, из везомого с собой имущества, а постельничий с подручным спальником устроили требуемое государю. Всех отпустив, до соседних сеней, где им тоже было постелено, по-походному просто, Федька оставался с государем, пока тот укладывался. Чуть погодя отпросился «на двор», ну и мимоходом перекусил быстренько… Слегка укоряя себя за грех чревоугодия, вдогонку ко прочим.
Сентябрьский холодок тянул по дубовому полу, и, в тёмном просторном меху, густо пахнущем шерстью, от влажности тумана и грозового остужения за окном завернувшись, Федька блаженствовал, засыпая. Рядом с дверью, на лавках в сенях, возились почти не слышно, в полусне тоже, постельничий и спальники.
Мелькали в нём беспрерывно чепуховины несусветные, надоедливо отводя от главной печали, которая делалась всё отдалённее и непонятнее. Отмахивался он от них, как мог, а после сдался – и сон унёс его по буеракам, своевольно зашвырнув в такой оборот, от которого очнуться он не мог долго, лёжа на самом острие восхода, серого и дымного от тумана, и весь мокрый. Осилив себя же здравомыслием, он развернулся в шкуре, и остался на ней отдышаться. Рубаха была мокрая насквозь, он стянул её, расправив на полу рядом. И упал снова, раскинувшись, остывая, вспоминая, что нельзя так делать никогда, пронижет сквозняком – и вцепится простуда, а через минуту, как ему показалось, его разбудил государь. То есть, его пристальный взгляд.
Государь на него смотрел в восходных сумерках. На белеющее лицо, будто лёгким сиянием отливающее на чёрной медвежьей шкуре. Федька не шевелился, но тут адово проклятое естество зашевелилось за него, и с тихим стоном он отвернулся от ложа и взора Иоаннова, подгребая просохшую рубаху, уцепляясь за крест на бечёвке, укрываясь от неприличия своего. Притворяясь сонным, конечно…
– Подымайся, давай, коварник, – Иоанн, вздохнувши, сел в постели. Федька мигом вскочил, накинул рубаху, и поспешил подтащить под ноги его мягкие тапки, чтоб не ступал босым на стылый ковёр на полу.
– Полно, полно прикидываться-то устыженным. Главу склонил, ишь, волосьми занавесился, будто б не чую плутовства твоего под ими.
Федька, в самом деле, невольно улыбался ворчливому, укоряющему, но беззлобному государеву слову.
– Меня, государь, бесы искушают – правда твоя! Да не поддаюсь я, не то б видение досмотрел, не стал бы искуса избегать, в том тебя уверяю.
– «Досмотрел», «не стал бы», как же! То варени́к мой тебя от соблазна ненужного оттянул. Чем же бесы т тебя на сей раз прельщали? М?
Тут Федьку кинуло в краску, и, заикаясь даже, принялся он государя умолять не расспрашивать, ибо язык его не в силах произнесть и части того… И в том не лукавил Федька ни капли, и сам теперь, окончательно от сонного дурмана взбодрясь, ужасаясь коварству изуверскому своих бесов, поскорее рвался отмолить тяжкий грех своего сновидения.
– А говорят ведь, варени́к ясность рассудку даёт! – с возмущением как бы сетовал Федька себе под нос, приготовляясь к умыванию, меж тем как вошедшие на его зов спальники принялись услужать государю. – Что-то не шибко действует, однако. Мож, два или поболе камней посильнее будут?
– Ну-у ты и нагле-е-ц!
– Да право слово, государь, едва разуму не лишился ведь!..
– Фе-еддя! – угрожающе протянул государь, на него оборачиваясь. Но вид кравчего был столь неподдельно смятенным и лукавым, вместе с тем, что суровый утренний настрой Иоанна сам собою куда-то девался, и на душе стремительно легчало. – Может, тебе и порты варениками расшить? Тогда уж наверняка от ненужного оттянет! И престанешь ты меня, горемычного, наконец-то, тормошить, диаволово чадо, – тихо проговорил царь Федьке, когда все прочие от них отошли.
Очень желая на предложение сие согласиться, Федька сдержался, опасаясь хватить лишку.
После трапезы стали собираться в Слободу.
Воевода Басманов и Вяземский с отрядом прибыли вскоре, и, передохнув немного, примкнули к царскому поезду.
По пути говорили о крымских вестях. Вроде бы по всем приметам ожидался набег на Болховском рубеже, но Трубецкой уже подходил туда со своим полком, и Хворостинины оба стояли там же в готовности. Были стычки вдоль границы, хоть и жаркие, но небольшие… Всякий раз совместно опричным и земским войскам удавалось прогнать налётчиков обратно в степь. Разведав о значительной силе русских, степняки решили, видимо, повременить с большим набегом.
– Так что, отзываем Белкина с Хворостиниными к Белёву обратно? И Трубецкого, стало быть, отпускаем в Дедилов?
– Нет, рано. Пущай до октября там постоят. На Рязань вон тоже о прошлом годе этой же порой ломанулись… А по-хорошему, так надо бы и Бельского10 оттуда, из-под Каширы, не отводить – тогда уж точно отобьёмся! – воевода глянул на ехавшего рядом сына, явно безмерно волнуемого всеми этими разговорами, и упоминанием о Рязани – особенно. – Верно, уж такого небрежения наши там теперь не допустят! Слава Богу, есть кому надёжно проследить.
Были там ещё по Разряду при войске и князья Пронский с Турунтаевым, но их дела шли особняком.
Вяземский кивнул:
– Голицын в Одоеве, то справный служака. А в Калуге у нас, значит, Шереметев-Меньшой сидит? – по всему было понятно, что не очень-то Вяземский на Шереметева полагается. Басманов же неопределённо повёл густой чёрной бровью, мол, сидит, и пусть дальше сидит, сейчас Шереметевы на Москве притихли, а Ванька-Меньшой не самый худой из воевод…
– Как думаешь, Данилыч, рязанским-то растяпам за прошлый год достанется?
– Достанется, уж этого не миновать!
– Так сразу надо было. Иль Филофей печаловаться11 решился? – Вяземский недобро усмехнулся.
– По мне так да. Но у государя свои на то замыслы, как видно. Да и сам суди, Афанасий Иваныч, нам-то одним на всё не раскорячиться. На Ливонских пределах, почитай, никого и не остаётся, того гляди, обратно Полоцк отбивать удумают. Что ни день – разбой грабительский с той стороны, до самого Смоленска, мор этот ещё, подсуропил нам чёрт! А наших там на воеводстве – всего ничего: Очиных моих двое, Захар и Никитка, а Никитка пороху нюхал менее, чем мой Федька, считай, да Колодка (этот хоть бывалый!), да Васька Серебряный, хоть и земский, а вряд ли вдругорядь захочет под государевым судом побывать… За остальных не поручусь, что завтра с Жигмондом заново снюхиваться не станут…
Так они толковали ещё некоторое время. Дорога клонилась к вечеру, остановились на берегу речки на отдых и быструю трапезу. Всюду засновали обозные работники и прислужники, шустро обустраивая государевому семейству шатры, и очаги закурились по обочинам ставшего шествия. Опричники и стремянные поили рассёдланных коней.
Государь изволил пригласить в свой шатёр ближних, и там, средь прочего, нечаянно как-то заговорили о Федькиной будущей свадьбе. На просьбу Алексея Данилыча отпустить Федьку на обручение в Москву, как время подойдёт, а медлить они с этим не собираются, государь согласие давал. Сказал, что кое-какие подарки невесте и семейству её от себя передаст. Заговорил воевода о князе Сицком, что деловой он человек, устойчивый, и воевода сильный тоже, им в Думе опричной такой не помешает. Чего б не сделать его окольничим, к примеру. Да и сынов князя тоже к делу пристроить. Второй его, Василий, сказывают, собою статен, пригож и расторопен, и до рынды ему пара годков осталось дозврослеть. А то и год.
Федька жевал орехи с изюмом, запивал лёгким пивом, возлежа на локте на походном лежаке, но перестал вкус их ощущать, как помянул воевода этого младшего Сицкого. Даже поперхнулся слегка и закашлялся. Но из последних сил решил ничем себя не выдать, как тогда, с Трубецким юным. Никто как будто ничего не заметил. Федька поднялся подать с поклоном государю холодного квасу.
Теперь ему захотелось поскорее попасть в дом невесты, чтобы убедиться, что никому не дано затмить его перед Иоанном. Нет, его волновало, конечно, что за девушка будет ему женою, и даже очень, и всё же… Ведь не стал бы батюшка сватать государю в охрану ближнюю кого-то, если б не был он уверен в Федьке, в неотразимости его перед любым своим ставленником! Понятно, способствуя семейству будущих родственников, укрепить хочет воевода свой собственный стан, умножить свою силу и защиту, и ничего иного за его словами нет. Припомнил себе все слова Охлябинина, влетавшие в его очумевшую голову и засевшие крепко, об том, что он – необычайный, один такой, что к нему одному только воспламенился государь впервые за все времена… И в самом деле, сколько их было, рынд этих, каждый год меняются, ничего такого – уходят себе просто служить дальше, своим путём и государевым велением, сообразно талантам. Утешась этим самоуверением, Федька ожёгся внезапным воспоминанием последнего ночного видения, и поймал, кажется, его скрытый смысл… Батюшка, Государь, он сам – это так вплетено-впечено-вкованно в сон тот было, что он не умел этого выразить, кроме как обожанием их обоих… Послушание обоим было безусловным. Отец повелевал им едва ли не сильнее царя… Мощь и громада его неколебимого властного уверенного приказа повиноваться сминала вмиг, он не смог отделить его от Иоанна. Отец был прекрасный и страшный, и от осознания неспособности ни в чём перечить ему Федька обессилел, предался всему душой, и с облегчением обречённости очнулся. На полу на шкуре медведя, под испытующим государевым взором.
Год без малого назад отец отдал его во власть государю, и, не забывая ни мига из той долгой встречи первой, Федька запер все это в неподъёмном ларе на семь замков, не спрашивая себя больше ни о чём. Отцовская любовь слепа, и воля несгибаема… Государева же любовь была иной совершенно, и опасна ему и мила по-иному. И оба они были его властителями, всего его, кажется, да только… Начинало возрастать в нём нечто, оставшееся неподвластным никому. И ослушание то – убийство Сабурова – было намеренным его души движением. Намеренным… Вот как… Как бы нечто в нём самом противилось, быть может, глупо, бездумно и скверно, но пересиливая все другие желания… Может ли, и должен ли что-то решать он за себя? Кроме решения терпеть и слушаться их двоих.
Что-то поменялось в нём в этот миг признания себе. Ушла жизнь прежняя навсегда… Он –прежний – ушёл. И пока не известно, стало ли ему от этого легче. Или, напротив, это тёмное и упрямое, тайное, недоброе на вкус, окрепнув, однажды поглотит его самого… Так вдаль он смотреть боялся, как страшатся отворить некую дверь, за которой чуют запертое там чудовище.
На подъезде к Слободе, в сумерках, он отозвал воеводу отъехать с ним немного от прочих.
– Батюшка, а никак нельзя и мне на смотринах быть?
С некоторым удивлением воевода глянул на него, и Федька пояснил своё внезапное любопытство, которого доселе в свадебном вопросе за ним как бы не замечалось:
– На невесту хочу взглянуть. Родню будущую узнать поближе… Да и что такого, ежели увидимся мы ранее обручения! С кем о бок после близ государя пребывать… Может, замечу того, чего ты не разглядел, в две-то пары глаз всё лучше видится.
– Ты что ж это, мне не доверяешь, что ли? – шуткою ответил воевода.
– Всецело доверяю, батюшка. Так ведь и я – человек живой, вроде. А женитьба – дело хоть и обыкновенное, да не каменный же я! Хочу невесту видеть. И этого… братца Ваську. Мне лишние, батюшка, страсти ведь ни к чему, сам понимаешь, а успокоиться только, – и он твёрдо ответил прямым взором на отцовский внимательный взгляд.
Про себя воевода отметил, что сын-то себе на уме сильнее, чем ему думалось. А казалось, ровен, согласен – и только.
– Так что, батюшка, неужто не согласится Сицкий? Право слово, что за чванство, вы ж с ним, я понял, уж сговорились про всё. Сватать сам поедешь?
– Ну, может, и не про всё… Сам, вестимо. Федька!
– Да, батюшка…
– Ты мне смотри, не балуй, – значительно медленно произнёс воевода, разглядывая чуть надменное, и серьёзное, и блудливое движение Федькиных губ и бровей.
– Не бойся. Боле не повторю ошибки – тебе беспокойства не доставлю. Ну, так что?
– Это как государь, отпустит тебя мотаться-то в Москву столько раз?
Федька вздохнул и тихонько усмехнулся:
– А с государем я сам договорюсь… как-нибудь… Ты мне от Сицких добро добудь, главное, да весточку кинь вовремя.
– Ну, сам так сам, смотри… – помолчав, воевода кивнул. Да, прав сто раз Охлябинин – женить и скорее! Да вот поможет ли.
В Слободе к возвращению государя готовились вовсю. Встретили их извещением со звонницы Распятской колокольни, раскрытыми воротами, стрелецким полным караулом, факелами осветившим въезд царского поезда, и богатой трапезой в большой палате, и на царицыной половине – тоже.
Еле управились со всем к полуночи.
Немного навеселе от испробованного неоднократно хмеля и усталости будучи, кравчий улучил минуту прогуляться меж столами опричников, примечая, кто и как возвращение его принимает…
– Григорий Матвеич! Гриша, что-то ты и в сторону мою не глядишь.
Полуобернувшись к нему, подошедшему за плечо, Чёботов помедлил.
– На тебя глядеть отрадно, да, говорят, после этого в Слободе люди мрут.
– А я-то думал, мы с тобой ныне товарищи.
Наконец, Чёботов поднял на него глаза.
– Товарищи, Фёдор Алексеич. В том не усомнись, – и с лёгким поклоном поднял полную чашу. Сидевшие с ним рядом дружно его поддержали. Ни Вишнякова, ни Пронского среди них не было.
Позже Федька узнал, что Пронский был в войске дядьки своего, воеводы, Турунтая-Пронского, под Калугой, а Вишнякова отослали провожать Грогорьева, дьяка-поверенного, со срочной грамотой в Москву, и там он ожидал везти грамоту ответную. Было понятно, после бури с Сабуровым дорожки прежних приятелей разбежались, и может, не по их даже воле.
Москва. Дом князя Сицкого.
Сентябрь, 1565 год.
– Не в среду, и не в пятницу… И не в постный день, и не в среду, и не в пятницу… И не в чётные! А какой день нынче? Да куда ж вы все запропали?! Таня! Танька! Ольга!
– Боярышня, голубушка, этак доведёшь себя до хвори! – прибегая из девичьей светлицы к ней через сени, Таня остановилась рядом с княжной, в тревоге смотрящей вниз, во двор, с крытого гульбища. На дворике, к саду примыкающем, ничего не происходило, бродила кошка с котёнком, да воробьи перепархивали, да овсянки посвистом верещали, но княжна глядела вниз так, как будто там что творилось. – Четверг сегодня. Кажись, чётный. Сегодня уж не приедут. Посмотри, красоту какую девчонки навышивали, зайди в светлицу. Олька! Покажи боярышне работу! Рук не покладая, трудятся. Шутка ли, одних рушников штук сорок надо…
– Да погоди, Танька, как – чётный?! – она принялась загибать пальцы, шептать на память числа, и вскрикнула, ладонь к груди прижимая. – Как раз нечётный!!! Идём сейчас же, летник мне лазоревый, да косу переплети, как уговорились! – она метнулась обратно в свою горницу. Рассудительная Татьяна, поспешая за ней, увещевала госпожу, что ей беспокоиться не о чем, всё равно до смотрин она никому не покажется, а косу переплести можно, отчего ж не переплести… Зачем что ни день – точно на смотрины готовиться, вот случится всё – тогда и будем хлопотать, всё же готово, почитай, для подвенечных уборов её.
– Всё равно лазоревый неси. И кликни Настьку – хочу о девяноста прядей…
Покуда обе девушки расплетали со всем прилежанием и осторожностию дивные светло-русые, с золотистым отливом, волосы княжны, кои ниспадали, когда сидела она на скамье, до полу, да причёсывали гребнями костяными резными, да плели искусно густую и широкую сеть, от затылка постепенно к низу заужающуюся, успокаивалась княжна, убаюканная их ласковыми прикосновениями, мерностью движений, и тихими переговорами, и пением остальных негромким. И сознанием своего великолепия.
Как только батюшка объявил ей о скором сватовстве к ним Басмановых, покой Варвара Васильевна потеряла бесповоротно. Очень уж много складывалось в этом событии всего разного, очень разного. В самом семействе Сицких не было единодушного к этому сватовству отношения. Анна Романовна так и не дала своего одобрения, и на все доводы и уговоры мужа и братьев, Захарьиных, о верной выгоде союза такого, о возвышении тем самым Василия Андреевича с сыновьями до думных и придворных чинов, твердила, что добра от Басмановых не будет, что страшит её новая их семьи к царю близость, слишком тяжела оказалась участь любимой сестры… Что дурная у Басмановых слава, и коли отца не жалуют больше по зависти к взлёту его, то о сыне такое рассказывают, стыдно передать… Что как отдать дочь единственную ненаглядную за того, кого убийцей, змием коварным называют, а того хуже – распутником безбожным… Мало ль что болтают, уставал уже повторять ей князь Василий, врут больше, как обычно. Да и кто говорит? Кому опричнина Иоаннова поперёк горла встала. Нет, не унималась княгиня Анна, разве бывает когда дым без огня, а тут, чует сердце её материнское, не просто огонь – полымя адское.
Пришлось князю проявить волю свою, и с женою не в пример строго побеседовать. Анна Романовна с тех пор ему прямо уж не перечила, но плакала втихомолку у себя в половине. С дочерью об этом она не говорила вовсе, только жалела её всячески, донимая непомерной заботливостью, точно немощную. С приятельницами-боярынями она тоже опасалась видеться, наперёд зная, что от них наслушается ещё, и стыдилась новостей своих. Не так мечтала она единственную дочь под венец провожать. Одно, когда тебя стращают да сочувствуют, а иное – за спиною насмехаться станут, а то и в лицо, что князья Сицкие себя не уважают – неравным браком родовую честь свою отдают вместе с дочерью треклятым Басмановым… Гадала даже, думала было к знахарке идти, ворожить на то, чтоб как-нибудь сватовства этого не случилось, но… побоялась. Грех ведь какой. Предпочла ежедневно молить Богородицу и Всевышнего её услыхать, и дочку её, и их самих в беду не отдать.
К сватовству теперь в доме Сицких всегда готовы были, и уговорились с Басмановым об упреждении их приезда заблаговременно. Миссию предупредить их взяла на себя боярыня Анастасия Фёдоровна Оболенская, в девичестве Плещеева… Пожилая родственница Басмановых на особом счету при дворцовых делах была, по причине нрава бойкого, ума здравого и знания малейшего каждой мелочи в обрядах, церемониях, действах больших и малых. Лучшей свахи на княжеской свадьбе нельзя было представить, да к тому же Анастасия Фёдоровна ныне при царице Марии в теремных боярынях состояла, как прежде – при царице Анастасии Романовне… Конечно, не сама она вызвалась, государь Басманову присоветовал её, коли уж свадьбу с его разрешения и при дворе играть им было велено. А Анастасия Фёдоровна отправила гонца к Сицким в закатном часу вечера12.
И вот, когда уже успокоилась княжна, убором волос в девяноста прядей налюбовалась и летник лазоревый, походивши туда-сюда по своей половине, сняла, сарафан распашной накинув поверх рубашки ночной, и заново велела волосы распустить, чтоб на ночь обычную косу заплести, снизу донеслось сдержанное шумливое беганье и говор.
– Настя, спустись, что там такое… Что там, на матушкиной половине тоже? Не дурно ли ей опять?! – княжна вскочила, готовая сама бежать в покой матери. Но с поклоном вошла матушкина ключница, и возвестила, что на дворе их гости, а к ней самой – подружка её, княжна Марья Нерыцкая, с гостями прибыла.
Сердце Варвары Васильевны бухнуло и оборвалось, дышать нечем стало, она покачнулась, и девушки под руки её повели до лавки и усадили. Матушкина ключница снова поклонилась, не как всегда, особенно… И удалилась, пропуская в горницу гостью.
– Варенька, Варвара Васильевна, по здорову ли ты? Помертвела вся… – княжна Марья вошла и подплыла к подруге, вся округлая, величавая, неизменно румяная, и присела рядом и нежно её обняла, и улыбалась ободряюще и радостно. – Вижу, вижу, красавица моя, что здорова ты, да только сама не своя. Вот Анастасия Фёдоровна меня и привезла с собою – тебя, душенька наша, успокоить чтоб. Да чтоб девок твоих на лад настраивать, – она обернулась к собравшимся стайкой в дверях горницы девушкам и подмигнула им.
Меж тем, смятение и небывалое волнение охватило не одну только княжну. Весь девичий терем сделался точно в лихорадке. Вниз им было теперь нельзя, но вести взлетали сюда, точно пламя пожара: сваты на дворе, в дом входят вот прям сейчас… И им отсюда петь надлежало, как только ступят эти приезжие через порог.
– Спаси Бог тебя, Марья Васильевна… – отдышавшись чуть, проговорила княжна, и умоляюще-вопрошающе на неё воззрилась. – Машенька! А может, не сваты это? Мало ли… Может, к батюшке что срочное… Ах! Вот я растеряха! – Анастасия Фёдоровна, в такой час, зачем бы…
– Ну конечно, умница моя! Господи, да ты трясёшься вся. Ну, полно, полно, разве ж батюшка с матушкой тебе чего дурного пожелают, разве допустят, чего боишься! В самом ты цвету – самое и время замуж идти! Чего стоите, кого ждёте? А ну запеваем про Кота, как учили, а после – про Марьечку!
Песня та корильная13 была, и шутливая, и княжна Марья сама завела:
– А в нашем во мху
Все тетерева – глушаки,
А наши сваты
–Все дураки:
Влезли в хату,
– Печке кланяются.
На печке сидит
Серый кот с хвостом,
А сваты думали,
Что это поп с крестом!
Тут вступили звонко девки: – Они котику поклонилися, к серу хвостику приложилися!
– Неряхи, сваты, неряхи,
– Немыты у вас рубахи;
Вы на свадебку спешили:
В трубе рубашки сушили.
Приехали к Марьечке сваты
На буланой кобыле;
Приданое забрали,
А Марью забыли!
Княжна Нерыцкая, хоть и не особо красавица считалась лицом, а так, виду обыкновенного, всегда была весёлою, пышнотелой и сообразительной чрезвычайно. Бог знает почему на восемнадцатом году она ещё не была замужем; поговаривали, что батюшка у ней, приятель князя Сицкого давний хороший, разборчив очень, и отказывал многим. Нарумяненная, набелённая, с полумесяцами насумлёными бровями, разодетая, как на праздник, она и удивляла, и утешала видом своим княжну Варвару сейчас. Всегда она смотрелась старше лет своих, из-за особой трезвой во всём сноровки, и стати, присущей зрелости, наверное… И не было того, чего б она не знала и не могла истолковать.
– Так сваты, значит…
– Они самые. Не мертвей ты так! Всё у нас порядком будет. Анастасия Фёдоровна свахою! А она, знаешь, какие пиры верховодила! Сто с одною свадьбу отыграла. У самой царицы Марии нынче при белой казне14 состоит. А твоя-то казна белая готова? Ой, душенька, Варя, будет тебе от царицы к свадьбе подарочек, уж точно. Залюбуешься! Убрусы15 такие там вышиваются, всё по тафте шитьё серебром да золотом, заглядение…
– Марьюшка, постой, погоди… Кто приехал-то? От… кого сваты?
– Вот-те раз! От Басманова, Фёдора Алексеича, царёва кравчего. Алексей Данилыч сам, да Плещеевых двое с ним. Верно, сейчас уж первую чарочку опрокинули.
Смятение в девичьей достигло предела. Всех колотило и тянуло вниз глянуть, хоть подслушать, но они трепетали и шептались как можно тише… Тем временем княжна Марья на цыпочках выбралась из девичьей поближе к лестнице, послушать, и вовремя махнуть, когда дальше петь.
Какими бы закоулками тёмными и безлюдными не ехали трое сватов верхами, да боярыня сваха в возке, да боевые слуги их с фонарями, а весть вперёд прибежала. Неведомо как, но дворовые все уже знали – едут гости, и не простые.
По тому, как молча мерно стучали в ворота, как молча же въехали, по виду ног их всех16 понятно уж было – точно сваты.
Спешились, боярыню из возка вывели. С поклонами тиун и ключница Сицких проводили их на крыльцо.
Дверь перед ними в главный покой отворили, и первой ногу правую через порог перенесла сваха, прошла, перекрестилась с поклоном на иконы, поклонилась в пояс сидящим за столом рядом хозяину и хозяйке, и отошла к печи, там на лавку присела, дверцу печки отворив и снова затворив. Хозяева встали из-за стола, на котором, на белой праздничной скатерти, была солонка и чарки серебряные, и тоже гостье молча поклонились.
Затем вошёл воевода Басманов, снимая шапку, и следом – его двое родичей. Так же молча осенились на красный угол, кланяясь, обернулись к стоявшим напротив хозяевам, в пояс поклонились. Тотчас сваха, встав с лавки, дверь за ними всеми на крючок закрыла. Постояли так молча некоторое время.
– Есть охотник у нас, соболь чёрный, бежал он за куничкой, да куничка спряталась. Не в ваш ли дом, хозяева дорогие, она забежала? – начал размеренно Алексей Данилович, сразу звучным голосом заполнив всю палату.
– А слыхали мы, что есть здесь лебедь белая, что соколу нашему в пору кажется, – вторила ему сваха.
Погодя, как того требует обычай, князь Сицкий отвечал:
– Нет у нас ни лебеди, ни куницы. Зато есть красная девица.
Сделав шаг навстречу хозяевам, Басманов отвечал, а его спутники стояли прямо, плечи расправив и гордо подняв головы.
– Явились мы, хозяева дорогие, не пол топтать, не язык чесать, пришли дело делать – невесту искать! Не нужна нам ни рожь, не пшеница, а нужна нам красная девица. Что ответите на это?
Помолчав, Сицкий кивнул безмолвной жене. Ключница тотчас подала ей серебряный поднос с чарками и уже разлитым по ним вином, и солонку со стола туда же поставила. Хозяйка с поклоном поднесла его гостям. Поднос с солонкой приняла ключница, когда все, с хозяевами вместе, взяли по чарке. Выпили молча, и то был знак, чтобы подойти всем к столу. Андрей Плещеев положил на него завёрнутый в вышитую красным и чёрным белоснежную ширинку ржаной каравай. Развернули. Хозяйка нарезала хлеб, и снова налили, и съели по куску, запив вином.
– Так что скажете нам, что молодцу нашему передать, хозяева дорогие?
– Что ж… Дело тут серьёзное. Дочку замуж выдать – не пирог испечь! Не один день ведь растили, чтоб враз со двора отправить…
Все молча покивали.
– Всё нам нравится, гости дорогие. Всем мы довольны. Но надобно нам со всей семьёй посоветоваться, обдумать как следует.
Все снова покивали.
– Заезжайте на неделе. Там всё и решим порядком.
Затем, разойдясь, сваты и хозяева низко кланялись друг другу, а Сицкий проводил их до самых ворот. Уехали. Всё снова стало тихо…
Наверху княжна едва дожила до известий.
– Они уехали! А ко мне не идёт никто! Машенька, батюшка отказал им, что ли?
– Погоди… Я мигом вниз, всё и узнаю…
Княжна Марья убежала, но тут же воротилась, вся улыбаясь.
– Уехали наперво!
– То есть как…
– Варя, ты как беспамятная. Ты ж – княжеская дочь, не годится сразу-то твоим соглашаться! Поломаться надобно, для виду, по обычаю, али не знаешь. Это дворовые сходу сговариваются, да деревенские, и то не всегда…
– Так что, вернутся? Не отказали…
– Не отказал. Хлеб, что сваты принесли, вместе ели, а на подносе солонка была. Вернутся на днях. Постой! А тебе-то как лучше, чтоб сладилось, или, может, нет? – заговорщически прошептала ей на ухо княжна Мария, снова очутившись рядом.
– Н-не знаю… Не знаю уж, чего хотеть. Матушка убивается пошто-то… – стиснув на коленях кулачки, она вся дрожала. И не лукавила ничуть. Прежние тайные помыслы про царского кравчего обернулись этаким, чему названия не было. Княжна Марья оглянулась, подхватила шаль с лавки и укутала ею подругу. Все девушки сгрудились в сенях, не решаясь явиться, пока госпожа не позовёт, и шептались там беспрерывно… В соседнем крыле укладывали княгиню, оказавшуюся совсем без сил.
– С чего бы?
– Он… Басманов… кравчий… Он, говорят…
– А-а! – княжна Марья тихонько заливисто рассмеялась. – Знаю-знаю! «Велемудрствует в красоте телесной»17, да-да! «У Дюка Степановича были сапожки зелен сафьян, под пяту-пяту воробей пролети, о пяту-пяту яйцо прокати», – и она снова залилась смехом, за коим пряталось что-то заманчивое. – Да, каблучки носит – что наши с тобой, Варенька, в гости когда идём да по праздникам. Молоком, сказывают, умывается всякое утро. Вино ширазское пьёт, белого винограду, младости цвет чтоб сберечь… Ну, так и что с того, душа моя! Красавец будет муж твой, сокол молодой, приятный телесно… Сам государь ему благоволит. Плохо ли?
Ошеломлённая всем, Варвара Васильевна только теперь сообразила, что княжна Марья у них, видно, ночевать остаётся. И – обрадовалась. Ей хотелось знать много больше того, что могла поведать матушка, и что чудесным образом, благодаря близости к дворцу и Анастасии Фёдоровне и природной сметливости, было известно подруге.
Глава 2. Тяга земная
Москва. Усадьба князя Василия Сицкого.
Сентябрь 1565 года.
– А на ком у нас
Кудри русыя,
А на ком у нас
Кудри русыя,
Кудри русыя
По плечам лежат,
По плечам лежат,
Словно жар горят!..
Нежные девичьи голоса, то ладно сливаясь, то расходясь стройно, точно в хороводном плавном кружении, доносилось откуда-то из глубины сада, через приоткрытые сквозные двери, в большой покой Сицких. Ветерок сникал, и пение делалось неразборчивым, и Федьке приходилось напрягать слух, чтобы разобрать слова. Впрочем, слова-то ему были издавна известны… В тёплой ещё осени, ещё пахнущей, пополам с жухнущей и преющей листвой, летним крепко настоенным мёдом, они звенели по-весеннему безмятежно и задорно. И чуть иначе, чем пелось в родных ярославских краях. И отозвались мгновенно отрочески-тайным и даже жарким, так, что он почуял неловкость, волнение и сам удивился.
Он перешагнул порог, перекрестясь и, поклонившись на образа, помедлил, как требовалось, и, снова поклонившись, уже хозяевам, взял из Сенькиных рук поднос с подарочками, завёрнутыми в сплошь расшитые красным рушники, будущим тёще и тестю передал, а после другой поднос – для невесты, в тонкой льняной шириночке, шелками разукрашенной, снизку жемчужную18, из самого лучшего, окатного бурмицкого, белого – будущей посажённой матери отдал, почтенной боярыне Анне Даниловне Захарьиной-Юрьевой… Разумеется, и сама боярыня получала дары, сообразные положению. Невесте передавал жених через неё и несколько слов скромных заздравных, а потом шёл черёд подружек её одаривать, подходивших плавно, но быстро, как скромность велит, девушек, дочек боярских, одетых празднично. Ни одной из них Федька не знал, конечно. Лиц их не разглядеть было толком, и не положено было ему на посторонних девиц заглядываться, а они раскланивались постоянно, брали с подноса в руках его подарочки и сласти, благодарили и отбегали тут же, стараясь не стучать каблучками черевиков, но брови, дугами ровными выписанные, и начернённые ресницы подведённых сурьмою глаз на набеленных нарумяненных личиках, и губы алые он примечал… Последняя, видная ростом и пышным сложением, подойдя без всякой суеты, отлично от прочих, посмотрела ему прямо в лицо, с улыбкою приветливой, но как бы даже строгой. Подарок свой приняла и отошла величаво. Видно, быть ей подружкой невесты, не иначе, подумалось Федьке, по тому, как смело она держалась и его разглядывала безо всякого смущения даже, так, что это ему впору было смутиться. Затем, конечно, чтоб княжне Варваре и всей светлице доложить, каков ей жених показался. Вот уж кости-то перемоют… Свыкшись с толками среди своих срамнюков и земских злопыхателей, Федька, конечно же, не робел перед девичьими пересудами. И всё же.
Девушки вышли вереницей, а его за стол пригласили, угоститься пирожками с разными начинками и сладостями. Выпили с князем Василием по чашке романеи. Княгиня тоже отведала, едва пригубив. Боярыня Анна Даниловна пить вовсе не стала, сославшись на опасения осоловеть, а ей ещё до вечеру целый воз переделывать. Князь Василий говорил обычные речи о домовом хозяйстве да конюшенном, и о государе, исключительно здравия ему желая. Федька вторил ему смиренно.
Арсения и провожатых, Федькину стражу, угощали отдельно, в теремном пристрое.
Прошло этак около получаса ещё. Пора было уходить, однако. И так он явился прежде времени, упредив смотрины, поскольку чуялось, что оба отца дело уже порешили накрепко, и против его приезда никто не возражал.
Поднявшись, Федька благодарил хозяев за гостеприимство, подобрал со скамьи шапку, отороченную чёрным соболем и со щёгольским пером белой цапли за самоцветною пряжкой, принял в дверях свою саблю19, раскланялся, а ухом чутким слушал новую песню, идущую из сада осеннего внутрь дома:
"Звала-звала я подруженек -
Ни едина не откликнулась…
Отозвались молодые пастушки,
Трое батюшки работничков!..
Ох, и не спала я ноченьку -
Всё на звёзды любовалася! "
И дивно, странно показалось Федьке такое вольное пение в покоях княжны. Такое обычно девки в чистом поле иль на свадебных застольях, для озорства, распевают, да молодухи, вольницу свою поминая… Ай да Варенька, не без задора подумалось государеву кравчему, и невдомёк ему по младому незнанию было, вестимо, что не без умысла и не без пользы вольности песенные, на любовные шалости в мыслях наводящие, невинные в сущности, в теремах невест бытуют, и с дозволения старших. Говоря отцу о желании своём на смотринах побывать, что было уже против всяких правил, конечно, он лукавил, имея целью не столько невесту увидать близко, сколько своеволия ради… Извечный теперь бес то и дело толкал его острым локтем под рёбра, поощряя в том всячески. Федька это и сам сознавал. И указ государя о княжеском чине свадьбы (а как же иначе могло быть!) заведомо предполагал чин этот блюсти, ясно было, что шальная его задумка не выгорит20. Но внезапно, песенными словами возбуждённое, желание это обрело силу неожиданную, и от шалости далёкую. И даже Сицкий Вася отодвинулся в мыслях, вместе со скрытой к нему заведомой и глупой ревностью. Предстоящая свадьба увиделась во всей полноте и важности… И многое, многое припомнилось, что и подзабыл он давно, в вихре трёх лет последних, да так остро и живо, что Федька едва не споткнулся в сенях. Тут же где-то за спиной, совсем как бы рядом, приоткрытой дверью с ним разделённые, возникли мельтешение, пересмешки и шушуканья, и девицы княжны нарочно громким значительным шёпотом упреждали госпожу, что жених её тут ещё – чуть не к носу столкнулись! – и подождать надобно, пока со двора не отбудет. Их непрестанное перешёптывание, смешки, топоток лёгкий и шорох сарафанов удалялись по поскрипывающей лестнице вверх, в теремную половину. Знали, точнёхонько, когда у сеней очутиться! Любопытно Федьке стало, какова княжна, сама их к проказам подначивает, иль, может, от скромности обмирает сейчас? Волнуется ли? Все они, поди, перед венцом дрожат, как без того, и – всё же…
Сицкие наказывали ему передавать поклоны и благополучные пожелания родителям и прочему семейству, и на том простились.
Вчера из Елизарова прибыли с матушкой и братом некоторые прочие родичи с обеих сторон. Волнительно было очень. Свои расположились во вместительном воеводском доме, невдалеке от Кремля, со стороны Китайгородской, и от Сицких тоже родственники прибыли. Кое-кого из Юрьевых Федька никогда прежде не видал, знакомились чинно. Притащили с оказией два воза с подарками и всяческими к гостевому и свадебному столу солениями, вареньями и медами, а главное – бочонок с переславской селёдкой, той самой, что в Плещеевом озере вылавливается для царского стола. Никто пока не знал точно, когда справлять будут, но уже решили, что в Москве наилучше всего. Ну а пока что государь пребывал тоже здесь: бездна неотложного скопилась и по возводимому опричному дворцу на Неглинной, и по аглицкому торговому подворью, что намерился он посетить самолично, и по Посольскому приказу, Висковатого хозяйству, и по церковным делам, у митрополита, тоже. Отговорясь нездоровьем, Афанасий так ни разу и не навестил Слободу, принимая Иоанна у себя, в митропольичьих палатах.
Предполагалось, что заботы удержат государя в Москве до самого Воздвижения21. Так что порешили после смотрин скорых и рукобития, на вторые осенины22, в Рождество Пресвятой Богородицы как раз обручение23 устроить – при государе вместе в Успенском службу отстоявши, воротиться после церкви к Сицким.
Пока обратно до Кремля ехали, поминалось ему последнее лето, дома проведённое, и песня девичья, сегодня слышанная, живо возбудила в нём картину давнего дня. В самый канун Купальской ночки24, на приволье Елизаровском… Тогда до осени далеко было, а удаль молодецкая своё брала, не спрошаясь. Ко всему, сколь не старался Федька не помышлять о том, как в бане весною один на один с Дуняшкой побывал, а лезло это всё, чуть стоило забыться. Да ещё как лезло. Оно, конечно, славно всё случилось, и батюшке за то Федька благодарен был, но с тех пор, как уехал воевода Басманов в далёкую постылую Литву послом государевым, Федька как-то в сторону раскрасавицы Евдокии нарочно не заглядывался. А вот настал Сеножар, Червень, Грозник… И нутро заныло, и башку повело.
Наверное, поэтому они с Захаром каким-то образом очутился в ласковом вечерееющем мареве и шелесте берёзовом у играющей россыпи сельских девчонок. А вроде бы хотели стороной пройти…
– Кыш, мавки! – отмахнулся от стайки босоногих девок Захар, и они с птичьим пересмехом закидали его ромашками и клевером, и вмиг окружили отбившегося от приятеля Федьку.
– А на ком у нас
Кудри русыя,
Кудри русыя,
По плечам лежат,
По плечам лежат,
Точно жар, горят?
А на нашем то
А на Феденьке,
Ай, люли-люли,
Ай, люли-люли,
А на Фёдоре
Алексеиче!
Для кого, кого
Я во поле шла,
Я во поле шла,
Васильков рвала,
Васильков рвала
Да венок плела?
А для нашего
А для Феденьки,
Ай, люли-люли,
Ай, люли-люли,
А для Фёдора
Алексеича.
У кого, кого
Очи зелены,
Очи зелены,
Точно омуты,
Точно омуты,
Гибель девичья?
А у нашего
А у Феденьки,
Ай, люли-люли,
Ай, люли-люли,
А у Фёдора
Алексеича.
Из хоровода было уже не вырваться. Стоял, руки опустив, укоряя слегка себя за грех, святого Христофора до редкостного подвига поднявший25… А песня их к опасному завершению близилась. Он стоял в кружащемся вихре ярких сарафанов, венков и кос с лентами, подрастрепавшихся за день, среди улыбок, лукавых глаз и быстрых рук, сцепившихся в ровно бегущее вкруг него звонкое цветастое кольцо. Пряный горячий ветер обнял его, увядающая примятая зелень благоухала сильнее, чем можно было стерпеть без блаженства. Он сердился на небывалую смелость их, обыкновенно его, как сына боярского, сторонящихся, но не мог не улыбаться, и всё старался не глядеть на Дуняшку, отделившуюся от хоровода, подходящую к нему, всю такую ладненькую, смешливую, золотисто-медовую от солнышка, пока несносное их нечестивое пение обжимало его всего под ставшей тесной и жаркой одёжкой.
– А кому, кому
Уложу венок,
Уложу венок
На головушку,
На головушку,
В очи глядючи?
А то нашему
А то Феденьке,
Ай, люли-люли,
Ай, люли-люли,
А то Фёдору
Алексеичу.
Она с себя венок сняла и ему на чело возложила, и привстала на цыпочки, обняла быстро за шею рученькой, защекотала мягкими губами ухо…
– А кому, кому
На ушко шепну,
На ушко шепну,
Чтобы ноченькой,
Чтобы ноченькой
Приходил один?
А то нашему
А то Феденьке,
Ай, люли-люли,
Ай, люли-люли,
А то Фёдору
Алексеичу!
И тут бы не миновать ежели не беды, то уж верно неприятности, поскольку не одни они с Захаром сегодня за играми девичьими наблюдали. Не хотелось бы никак Федьке ни с кем из деревенских из-за девки простой просватанной не поладить. А Степан ничего ему не скажет, вестимо, не посмеет, да только бедовые Дуняшкины выходки, да на горячие головы, добра никому не сулили. Хоть и первая на селе красавица, и тем дозволялось ей куда более прочих.
Уже собрался Федька венок дарительнице вернуть, отшутившись, да тут хохот общий девичий начался, и с "ноченькой" к нему налетели все они, и венки ему отдавать стали, наперебой, поднимаясь на носках, подпрыгивая легко и целуя быстрыми касаниями нежных маленьких губ в щёки… И вроде как невинною вышла вся забава.
Ночью той много чудесного и даже страшноватого произошло с ним, но сейчас, по истечении третьего лета, уже нельзя оказалось сказать точно, что на самом деле было, а что ему только привиделось, и какие навские чары трав волшебных его заморочили…
Размышления его прервало приближение к Троицкому мосту и всегдашнее шумное бурное кипение у стен Кремля. Вздохнув, он взбодрился, взгорячил Атру, выпрямился в седле и плечи расправил, и горделивым соколом, как обычно, явился в отворяемых перед ними стрелецкой стражей воротах.
Между тем, в доме Сицких своим чередом неслись предсвадебные хлопоты. Главным образом касаемые приданого, конечно: отворялись погреба, открывались сундуки, пересчитывались и переписывались, и проветривались перины, подушки, простыни и одеяла, полотенца, платы, шали, пояса, рубашки, шубы, летники, однорядки26, душегреи, сапожки, чувяки, княжне припасённые, а в светлице её девки-умелицы шили и вышивали денно и нощно подарки жениха семейству и свадебное убранство всё27. Заносилась опись сия в долгий свиток, пока что начерно, собственноручно княгиней, она же располагала, что из драгоценного наследства каменьев, колец, ожерелий, наручей и серёг, очелий, монистов корольковых, подвесок и обручей, накосников и прочего добра мелкого, вроде чулок и рукавок, вплоть до ларчиков, пялец и орудьиц рукодельных, отдать за Варенькой. Только венец девичий свадебный, в котором сама она до венчания выходила, в свой черёд от матери его в приданое получив, пока, до часу обручения, по примете, не доставали из большого ларца в опочивальне княгини. Умаявшись, к концу третьего дня этих переборов, княгиня пожелала одной остаться, и, перед тем как прилечь отдохнуть, ларец тот отворила ключом особым, всегда при ней на поясе бывшим. Откинув белую тончайшую кисею шёлковую, белыми же цветами-розанами атласными затканную, смотрела долго с печалью на тихо сверкающий всею радугой венец свой… Всё такой же чистый и сияющий, как только что из рук мастера вышедший, безмятежно покоился он, ожидая единого дня своего нового выхода… Её же век увядал, а тревоги и тяжести души лишь множились, с телесными недугами заодно. Княгиня горестно вздохнула. На дочери его представив, не смогла стеснения сердечного снести, расплакалась тихо. Но спохватившись, что со всеми приготовлениями запамятовала было совсем о смотринах, на неделе назначенных, слёзы смахнула и крикнула в сени, где суетилась ещё ключница с помощницей, чтоб княжну к ней сейчас позвали. Им же, с девками княжны теремными, назавтра задача приготовить в праздничном виде три смены нарядов её наилучших, а которые – она укажет поутру уж.
Войдя, княжна к матери на шею кинулась, и та обняла её, усаживая рядом на кровати и гладя ласково по волосам, уже на ночь причёсанным и в косу сплетённым заново.
– Что, светик мой, остался кто нынче у нас?
– Маша Нерыцкая… Уж я упросила её – мне с нею покойнее как-то… Такая она понятливая да степенная, истолковать всё умеет просто-весело, этак, знаешь, что на душе сразу легчает…
– Голубка моя! – снова обнимая её, только и могла произнести княгиня, так и не придумав, с чего начать с дочерью разговор о скором предстоящем. Пока в зятьях виделся князь Голицын, слова сами находились, и, хоть вздорила Варя, от замужества отказывалась, оставалась княгиня в ровном духа расположении. Теперь же ни слёз прежних, ни отговорок, ни единого упрёка иль видимого испуга от княжны не было, кроме глубокого трепета ожидания неизвестности. А она, мать, точно с нею местами поменявшись, в нехороших чаяниях вся сделалась, покоя не находила. Заметно это стало очень, и Варвара Васильевна, не в силах долее терпеть свои тревоги, спросила её откровенно, отчего та сама не своя. Отчего ей жених не по нраву как будто? Может, известно ей что про него нехорошее?
– Да я сама не знаю толком, милая, но болит сердце, и всё тут, – княгиня внимательно за нею наблюдала, и трепет её понимала, конечно. – Да, не очень-то ладные про него разговоры идут… Боязно мне за тебя, дитятко. Да это я так, больше надумываю себе.
– Матушка! – горячо, и впрямь напугавшись, воскликнула княжна, пытливо глядя на мать. – Да неужто бы батюшка меня дурному человеку отдавать стал?! Или не слышит он тех речей нехороших, не знает ни о чём? Не верится мне в это, право, чтобы батюшка допустил такое!
Княгиня промолчала, как бы с нею соглашаясь, но в душе терзаясь своими подозрениями, о которых, конечно, дочери рассказать никак нельзя было, целомудрия её не возмутив. Тем более что князь Василий и слышать больше не хотел ничего против, и впредь велел общего блага ради дурное о Басмановых не говорить ни при ком, а при Варваре – тем паче. С этим княгиня соглашалась – как бы там оно дальше не сложилось, а пугать раньше времени невесту женихом всё равно, как жену против мужа науськивать, толку от этого никакого, вред один, ей с мужем жить – ей и судить… Княгиня уже жалела о сказанном. Осмелев, от отчаяния, видно, и оттого, что никто ничего ей пока не объяснял толком и не посвящал в дальнейшее, кроме той же Марьи Нерыцкой, подметив нечто затаённое в повадке матери, княжна не отступила:
– Однако же, матушка, Юрий, да и Вася, оба тоже будто бы неприязнь какую имеют к… – тут она запнулась, краскою залившись, до того трудно оказалось произнести впервые имя её наречённого, – Фёдору Алексеичу… Отчего бы такое?
– Ах, ну то дело понятное, Варенька – несподручно им, видно, кровь княжескую нашу Рюриковичей другою разбавлять. Одно ведь дело, когда князь за себя боярышню берёт, вот как Василий Андреич – меня. Сам государь наш сестру Анастасию взял, и не глядел никак, что не ровня. А коли наоборот – дело совсем другое! Да уж такие нынче времена… – она умолкла, боясь сказать чего лишнего. – Строптивцы, гордецы же оба! Иной раз и мне, матери, слова поперёк себя молвить не велят. Отца вон одного и боятся, сама знаешь.
– А Маша наоборот сказывает, мол, пустое всё об них болтают, от зависти более, что поднялись Басмановы, в чести теперь такой, что иным родам высоким не снилась…
Княгиня даже замахала на неё руками:
– Что это ещё за речи такие!!! Право же, через чур умна княжна, в дела мужеские рассуждать влезает! Чего ещё наговорила тебе, сознавайся?
Про себя же не могла она не признать, уже из жизни увидя достаточно, как зависть людей порой поедает, точно война. Потому вопрошение получилось не строгое совсем, испуганное, скорее.
– Да ничего такого больше, матушка… – немного будто растерявшись, опуская смирно глаза, отвечала Варенька, а сама снова пуще прежнего зарделась, и укрыть сие от матушкиного взора не было возможности. Она и не стала, продолжила: – Сказывает, что он… собою хорош уж очень, глаз отвесть невозможно, что краса его какая-то особенная, не от мира сего, что ли, оттого ещё на него злятся и нарочно наговаривают! – выпаливши этакое, княжна сжала пылающие щёки прохладными ладонями и даже глаза закрыла, полагая, что мать сейчас изругает её нешутейно, как если бы слыхала всамделишние её мысли. Но княгиня неожиданно с облегчением улыбнулась:
– Ах, вон оно как, значит. И хотела б я не согласиться, да не могу – что правда, то правда. Ой, не хлебнуть бы лиха тебе, доченька, с этаким-то красавцем в мужьях! Ещё и об том сердце болит, кроме прочего… После поговорим особо. Однако, поздно уже, а завтра дел опять невпроворот. Я ж звала тебя сказать, что смотрины у нас в эту пятницу. Анна Даниловна обещалась быть завтра, тебя всему научит, всё, что надо, растолкует. Она лучше меня такое ведает. А я, Варенька, сама на смотринах еле жива была! Так что и не помню толком ничего. И перемерить наряды надо будет, приладить как следует, чтоб у нас без запиночки прошло. Чтоб была ты у нас краше всех на свете!
Помолчали.
Помолились вместе перед Богородицей Казанской, к коей княжна Варвара обращалась теперь с новой для себя истовостью, как бы к особой заступнице в скором бытие без матушки рядом. Ведь переедет икона с нею в дом мужа. Богородица смотрела, склонив голову к ласковому младенцу своему, куда-то задумчиво, без благостности елейной, но и без излишней скорби, и от этого делалось теплее и мирнее внутри. И в самом деле верилось, что житие всех и каждого предопределено Всевышним, и так тому быть, значит… Так же и матушка, едва слёзы удерживая, говорила недавно, держа образ этот на рушнике над её поникшей головой, благословляя к жизни новой, третьего дня тому, как только сваты вторично наведались и согласие отдать им невесту получили, и от ворот отъехали.
Ещё и батюшка кратко сказал, что век бы не выдал радость свою ненаглядную из дома никуда, да закон людской и Божеский велит отпустить от себя дочь. Что судьба быть ей в свой черёд хозяйкою в дому другом и своих чад нянчить и воспитывать… Тут она не сдержалась, разрыдалась, и так, в слезах вся, к образу приложилась троекратно, а подружки под руки её подняли, и, точно больную тяжко, отвели в светлицу. А по всему терему и двору носились Федя с Иваном28 и каждому встречному кричали: «Варю просватали! Варю просватали!». Насилу их нянька угомонила, снабдив Федю легонько подзатыльником. Василий, почитая себя уже молодцем взрослым, вёл себя сдержанно.
А в тот же поздний-поздний вечер, в московском доме воеводы Басманова, при всём родственном и дружеском собрании, стоя на коленях, целовал образ Спаса Вседержителя Федька. И мягкий голос матери и твёрдый – отца рекли над ним, что ныне жизнь его меняется необратимо. Федька не думал плакать, разумеется, но что-то в нём дрогнуло.
– Поздно уж. Так что ступай теперь да усни поскорее, а думы всякие из головы выкинь – мудренее утро вечера, – княгиня поцеловала дочь в лоб, перекрестила на сон грядущий. – Храни нас Господь.
– Легко сказать – выкини! – шёпотом сетовала в темноте спальни княжна, ища утешения у многомудрой подруги, что уложили со всем удобством тут же на просторной лавке, на двух перинах. – Как подумаю, что рассматривать меня чужие станут да расценивать, дурно делается. Что, если оробею вконец, шагу ступить не смогу, слово молвить, а скажут – дурочка княжна-то, недотёпа колченогая!
– Да полно тебе, Варвара! Тебя ж не петь-плясать там заставят. Всё, почитай, за тебя делаться будет. Да и тебе ль робеть?! Такую красавицу-умницу поискать ещё по Москве! И не Христа ради тебя берут, чай, чтоб этак трястись и тушеваться. Княжеская ты дочерь или нет?!
– Вот умеешь ты успокоить, Мария. Матушка твердит, правда, что тощевата я. Всё пирожки сдобные подсовывает, – княжна огладила себя по стану, обозначив под широкой рубашкой плавные изгибы.
– Они все такие! Вечно им мерещится, что мы захворали, раз не жуём постоянно. Хороша ты, и не сомневайся! И всего у тебя в меру, как надо.
– Чего б я без тебя делала!.. А вдруг свекровь скверная окажется? Какова она, знать бы наперёд…
– Да какова бы не была, а тебя, Варя, никто им в обиду не даст, если что. Уж мне поверь! А потому, наперёд тебе наказываю, ни минуточки не терпи в дому том никакого притеснения, жалуйся тотчас же мне, а уж я… – голос княжны Марьи угрожающе-коварно понизился, – уж я постараюсь до матушки твоей с батюшкой сие донесть!
В порыве благодарности княжна спрыгнула с постели, подбежала к подруге и обняла её.
– Будь мне на свадьбе подружкою, Машенька! Мне с тобою так хорошо, что и не страшно уж почти…
Сжав ответно её руки, та вздохнула задумчиво:
– Доживём до свадьбы-то сперва давай. А я – с радостью! Спасибо тебе за сердечное мне доверие! Ещё бы у Анны Романовны дозволение получить.
– Получим! Это я у неё легко выпрошу!
На том они порешили, и, пожелавши друг другу покойной ночи, умолкли. Но, малое время спустя, снова раздался робко-тревожный голос:
– И где жить будем, неизвестно! Славно бы – в Москве, до отчего дома рукой подать. А ну увезут в Слободу эту? Страшно мне, одна совсем там окажусь ведь! Там государя опричники, молодые все, говорят, тысячью одни, без семей, живут, да обслуга с ними, да работники приходящие… И что ж, мне там из терема носу не высунуть будет?..
– Да в Слободе веселее, чем на Москве, нынче, Варя! Помнишь, царицын двор там весь отстроен, гости постоянно, самые знатные, бывают, и тебя тоже приглашать станут, потому как ты ближнего государева придворного стольника жена будешь, и дочь княжеская. Это здесь ты наперёд заскучаешь, а уж не в Слободе, точно. А батюшка сказывает, туда теперь многие знакомые переселятся со всеми дворами тутошними.
– Всё одно боязно!.. Матушка его, вроде, и вовсе под Ярославлем, в вотчине, обитает. Что, ежели туда утащат?! Буду там в деревне, за сто вёрст… И как оттудова тебе пожалуюсь?! – послышался всхлип.
Вместо ответа княжна Марья лукаво рассмеялась. И малость обождав, молвила:
– Экая ты у меня, Варя, заяц пужливый! Чай писем слать тебе никто не запретит. Мы об том уговоримся ещё. Как этак писать, чтоб постороннему не понятно было, про что мы. Да в деревне-то самое раздолье. Боярыни вон все из столиц в вотчины рвутся, погулять там по лесам-лугам, в речке выкупаться, бабьих ста́рин29 вволю послушать, на хороводы поглядеть, да на пляски, каких тут мы не видывали. Особливо, помню, как были мы с тёткой Прасковьей в её владении, и там мужики на гулянье Маслиничном отплясывали, подвыпивши… Шапки впрах покидали да затоптали, рубахи на грудях нараспашку – чуть не порваны, ошалелые что жеребцы стоялые! И ржут и злятся, и обниматься к друг дружке кидаются, а сами, того гляди, подерутся… И дрались, бывало, но беззлобно так, от удали. А бабы обмирают поодаль. Любуются! И рожки с бубном наяривают, ихние непотребные прибаутки глушат, а они тогда – в свист да топот! Поглядишь на такое – и сама в жару в поту, будто с ними хороводила, а вся душа с сердцем жизнью полнится и огнём палит!.. А тут, вечерком, и муж молодой наведается… И ты его как обнимешь, да расцелуешь, да до ложа-то за ручку поведёшь… Эх, Варя, не кручинься раньше срока, да и Господь Всевышний завещал нам чего?..
Ошеломлённая откровениями подруги и восставшими тут же видениями, княжна пролепетала: – Чего?
– Не унывать! Унынье есть грех наипервейший30 потому что.
– Господи, я и запамятовала. Маша, да неужто тётка тебе на такое смотреть позволяет?..
– Ну, позволять не позволяет, а сама подглядывает. Иначе откуда б мне об том знать-рассуждать!
– Ой, нет, что-то худо мне от всего этого, – заплутавши в чувствах, выдохнула княжна Варвара, и веря и не веря, что жизнь впереди может быть не совсем уж печальной. – Постой, а как же ты перед батюшкой в церкви, винишься ли? Унынье, может, и грех, да ведь прямо ж против того, об чём ты только что, твердят нам, сколь себя мню: «Не зрите плясания многовертимое и иных бесовских всяких игр злых прелестных, да не прельщены будете, зрящее и слушающее игор всяких бесовских, таковые суть нарекутся сатанины любовницы». Я помню, долго гадала, об чём бы это…
– Да всё так, Варя. Но до чего же завлекательно!.. А не согрешивши не проживёшь, – со значением, подражая тётке, изрекла она, и сама рассмеялась. – А теперь спать давай!
Передумавши заново всевозможное, измучившись окончательно, извертевшись на ставших вдруг каменными подушках, княжна Варвара заснула, сама того снова не заметив.
Москва. Кремль.
Несколькими днями позже.
Смотрины были у княжны Сицкой, а волновался, почему-то, он. Хотя, что такого особого он ожидал услыхать от родни по возвращении, представлялось не вполне ясно. Как и дальнейшая жизнь семейная. Вернее сказать, он попросту не раздумывал над этим. Все в один голос признавали княжну красавицей, а более ничего и не надобно, кажется! Конечно, хорошо, чтобы она оказалась доброй. Злобливую и спесивую жену он бы не вытерпел ни при какой красоте, и вышло бы, как в сказании том о Добрыне и Алёшке-поповиче: «Здо́рово женился, да не с кем спать».
Добравшись вплотную до спанья, Федька приостановился, разволновавшись окончательно. Не огрести бы горюшка от этой женитьбы… Впрочем, чёрные мысли его покинули, едва он осознал, насколько редко, по сути, будет видеться с женою, оставаясь при государе в своём чине. А уж коли лишит его государь за что-то своего обожания, удалит от себя – так тут и всё прочее уже не важным станет… Померкнет, точно день перед ночью, погаснет, подобно залитому ненастьем костру. Умрёт… Вот этого он вообще не мог вообразить себе, равно как и смерти, во всей полноте.
Хвала Небесам, свободных минуточек у него не было вовсе, чтобы додуматься до предела. Разве что в отхожем месте. Дни проносились, как безумные колесницы.
Вчера был званый ужин на Варварке, в торговой палате аглицкой купеческой. Кое-что Федька уже понимал разборчиво и без толмача, но не всё, конечно. Само собой, Иоанну никакой толмач был не надобен, рёк он быстро и свободно, и шутил даже, но некоторых приглашённых важных гостей ради имелся при них по-русски толкователь, и как только Иоанн возвышал голос и обращался ко всем разом, тут же поднимался и передавал слова его остальным в точности. На послезавтра, тоже ввечеру, государь пригласил посланника королевы Елизаветы к себе в Кремль, чтобы там, без помех и лишних свидетельств, задеть сей тонкий каверзный неуряд и свести концы с концами по непрекращающимся нарвским и астраханским челобитным (и доносам) от купечества русского, единогласно упрекающим англичан в недобросовестности, а его, государя, таким образом, исподволь – в пренебрежении ими в пользу чужестранцев… Недовольны были не только свои, но и шведы, и голландцы, и датчане. Государь переживал, недавно получив известие, что посол его, Третьяк Пушечников, по весне отправленный к королю Эрику, преставился внезапно, так до шведов и не добравшись. Снарядили вторично гонцов, дело покамест стояло на прежнем месте. А время бежало! Англичане напирали на своём, и, к слову, всё бы хорошо (их железо и олово нам потребны были оченно, а пуще прочего – мастера опытные, равно как им – наши воск, пенька корабельная, мёд, пушнина и лён). Да все соседи дорогие, уже почуявши, какову выгоду от союза сего Англия помимо их получает, а уж Московия – и подавно, убоявшись не в шутку царя Иоанна усиления против себя, кинулись совать палки во все колёса разом… Более всех бесился Жигмонд, за всем этим клокотанием от Балтики до Волги наблюдаючи, и тоже, конечно, кинулся Елизавете отписывать, всячески отговаривая с Иоанном дружить и жуть ужасную об нём расписывая. Понятно – Жигмонд же первым огребёт, и не токмо Полоцк не возвратит, как мечтается, и всё прочее утеряет, ежели мир с Иоанном не примет, а принимать оного, как видно, пока никто не намеревался…
Вправду ли нечисты на руку Елизаветины умники, на правление Московской компанией ею назначенные, да обои стороны дурящие, Федьке не ведомо было, конечно, но, Иоанну вопреки, на этих деятелей аглицких надежды возлагающего, как и на лекаря своего, заранее всех их считал он прохиндеями и своекорыстными хитрецами. Однако непорядок этот требовал разрешения, Иоанн намеревался уладить его с посланником наедине, доверительно… Но даже самый малый посольский стол – всё едино пир и действо особое, напоказ, как водится, так что Федьке забот-хлопот хватало с лихвою. Ибо во всём желал государь быть превосходным.
– Фёдор Алексеевич Басманов, великий государь! – торжественно-бесстрастно громко постучавши в двери кабинетной комнаты посохом, объявил дворецкий, и дверь отворилась после царского дозволения впустить пришедшего, а стража вновь замерла по обе стороны неё. Сие означало, что Иоанн не один.
Федька застыл в струнку на пороге, шагнул, размашисто согнулся в поклоне с приложенной к сердцу ладонью, успев приметить, что с государем Годунов, как всегда почти, а также дьяк Посольского приказа Володимеров, и какой-то незнакомый мужик молодой, по виду незнатный, но одетый справно, добротно… Попович, конечно. Все трое при его появлении тоже поклонились, сообразно чину каждого. Выглядели довольными, кроме мужика незнакомого – тот смотрелся озадаченным сверх меры, чуть не помирающим от страху, и мял шапку свою как бы в крайнем средоточие всех сил своих душевных.
– А, явился, – ворчливо бросил Иоанн, не поглядев на него, продолжая медленно перелистывать красиво переплетённую большую книгу. Понятно было, что пригласил пройти и остаться, что Федька и сделал. Ковёр погасил лёгкий стук от каблуков, он остановился позади левого плеча государева, за спинкой кресла, шагах в двух.
Обратившись взором к мужику, Иоанн переложил все листы книги разом, до последнего, остановился длинным перстом в тяжёлом камне на строке в конце, и прочёл её раздельно и ясно по-гречески.
– А ну, повтори на нашем!
Мужик без труда особого отвечал:
– «Сие, стало быть, блаженного Иоанна Дамаскина писанье словами о осьми частех».
– Хм! Ладно! – Иоанн откинулся в кресле, улыбаясь глазами на дивно сметливого мужика. Володимеров сиял, кивая, в стороне. – А теперь повтори сие на латыни.
Тот повторил.
– Экий ты разумный уродился, Фёдор. Ну а на аглицком ежели, сможешь произнесть?
Возведя взор к потолку, вцепившись в шапку пуще прежнего, испытуемый пожевал губами, и с расстановкою, не столь бойко, как до того, но твёрдо выговорил всю строку.
– Изрядно. А на листе изложить сумеешь ли?
Тот кивнул. Тогда Годунов указал ему придвинуть стул к краю стола своего, и положил перед ним бумагу и перо.
– Ну-у, молодец! – Иоанн взглянул на готовое писание, ему поданное. – А вот этакое ежели, сможешь? – и тут Иоанн изрёк на греческом другое сказание, куда посложнее былого.
Володимеров перестал улыбаться, всем видом сочувствуя себе и своему, по всей видимости, питомцу, тёзке Федькиному. А у того испарина на всём лике проступила, и пятна красные, и, помучившись несколько, он обречённо выдохнул: – Шибко оказисто, великий государь…
Два беспредельных мига висела тишь, а после Иоанн рассмеялся, хлопнул ладонью по переплёту рядом лежащей такой же большущей и новой книги. Володимеров снова повеселел, даже Годунов усмехнулся одобрительно. Признаться, Федька и сам понял лишь кое-что. «Категориально высказываемое сказывается… на основании… единого … ато́мы… сопутствующее в общем…» – вот и всё, пожалуй. Меж тем, Иоанн обернулся к нему:
– Откуда сие «оказистое», Федя? Дай и тебя проверим, чему выучился, окромя шалостей.
Проморгавшись слегка, Федька проговорил как можно увереннее: – Из «Предикабилии Порфирия», кажется, государь.
– Хм. Однако угадал, – расположение нынче у Иоанна было, по всему видно, прекрасное: вчерашняя ломота в костях отпустила – погодка снова наладилась ясная, вроде. Федька переступил с ноги на ногу, облегчённо переведя дух. Он и правда угадал отчасти, отчасти вспомнил, успев не только слухом отметить, но и сокольим взглядом прочесть часть названия на захлопнутой Иоанном новой книге – «Иоанн Дамаскин», и очевидно совершенно, что это была «Диалектика»31, а более ничего мудрёнее в своей жизни Федька не слыхивал, и чудное словечко про какие-то «атомы» запомнил, а было оно, точно, в совсем уж витиеватой статье труда сего, великого, несомненно – а именно, в Предикабилии этой. Государь сам некоторое время назад зачитывал ему оттуда, поясняя попутно, и всё же это являлось для его понимания излишне непростым… А ведь учился он премудрости науки логики в тот раз, считай, вместе с царевичем Иваном, которому одиннадцать зим только исполнилось. Не хотелось смотреться глупее отрока, пусть и царской крови.
Он донимал теперь, когда время позволяло, при свиданиях Петьку, царевичу ровесника, засыпая всякими заковыристыми штуками для ума поощрения. Дома брат обучался азам у самого сведущего монастырского инока, и кое-что соображал уже недурно, потому Федька нагружал его без снисхождения.
«Все кошки помирают. В том мы не усомняемся, так?»
Петька кивал.
«Афиняне приговорили Сократа к смерти, и он умер, выпивши чашу яду. (Помнишь Сократа? Тот мудрый чрезвычайно мужик греческий, у которого жена была сварливая ведьма). И в том мы не усомняемся также».
Петька пошарил в памяти, имя знакомое услыхав, и опять кивнул, хоть и не упоминал про афинян и чашу ничего, но брату веря на слово.
«А теперь смотри. Оттого, что все кошки есть твари смертные, и Сократ умер тоже, не следует, что Сократ – кошка! Разумеешь, в чём суть?»
«Ловко!» – воскликнул Петька, через малое время осознавши, и даже засмеялся, счастливый, что брату угодил сообразительностью, не совравши притом. Была б его воля, он бы от брата не отлипал вовсе, любую его затею или разговор поддерживая безусловно.
Как и Федьку в своё время, и дорога, и Москва его потрясли. Наконец-то и с батюшкой обнялись. Показалось Петьке, что сильно тот поседел, и ещё более посуровел. Терентий был тут же, оставленный Петьке в распоряжение, а дядьке своему – в обучение всякой боевой и деловой сноровке. Заходил разговор и о том, чтобы взять обоих для серьёзных научений из Елизарова, и видно было, что воевода не прочь, но решение откладывал, пока, обещая «там посмотреть». Счастью Петькиному не было предела… Жаль только, одного его никуда не пускали, да и с собой не всякий раз брали, но и того, что успел нахвататься и увидать – выше головы было.
Вот и в этот день, собравшись пышно, батюшка с матушкой и с боярыней-свахой отбыли невесту смотреть, его дома оставили, наказав без толку не мотаться, а делать то, что Федя скажет. Федя засадил его опять за учение, несколько раз по спине огрев как следует за то, что сутулится да кособочится за столом. Велел переписать без грязи и черкания разборчиво целые две страницы из Домостроя, открывши наугад. Оказалось, про бережливость в дому и собирание полезных остатков всяческих, дабы «поплатить ветшающего товож портища или к новому прибавить, или какое нибуди починить; а остаток и обрезок как выручит; а в торгу устанешь прибираючи в то лицо, в три-дорога купишь, а иногды и не приберёшь». И этак далее всё в том духе. Скукота несносная, бабьи навыки, ему вовсе не интересные. Но делать нечего, пришлось стараться.
– Ну ладно, будем считать, урок сей тобой выполнен. Да впредь чтоб перо не вкривь как попало держал, нешто холоп ты, чтоб царапать как кур лапою! Балует тебя матушка, смотрю. А станешь, как вырастешь, подручным своим по хозяйству иль делу какому роспись давать, так они и не разберут ничего, и не так всё сделают! – выговаривал Федька, над ним стоя, и то и дело мыслями улетая во дворец, откуда был отпущен сегодня для дел семейных. Петька вздыхал горько, понурившись. А брат, давши ему передохнуть малость и водички попить, вновь усадил его, уже за арифметику. Про себя отмечая снова, что пошёл Петька весь в отца крепостью сложения, уже видно.
– Лист другой возьми и пиши. «На день ходу человеку служилому…» – написал? Поспевай!
– Пальцы ноют от предыдущего!
– Я те дам ноют! Далее: «довольства положено»… Написал? Молодец. «…сухарей гривна, мяса гривна, пива штоф с бутылкой, соли полтора лота, и на коня овса треть пуда и полпуда сена», а пускай пуд будет. Написал? – обождал, пока Петька кивнёт. – «Имеются сухарей восемь пудов, мяса – семь, пива – четыре бочки, соли гривна, и на коня овса сорок пудов и сена сто. Исчислить, сколько людей можно снарядить сполна, а сколько чего останется». Понял ли задачу?
Петька присвистнул, сперва ум зашёл за разум. Но, припомнив с братниной помощью способы перемножения и деления, и разобрав путь решения, перечтя сто раз с разом, принялся трудиться, высунув кончик языка.
Вскоре Федька уехал со своим Арсением и тремя батюшкиными мужиками боевыми, провожатыми, до Кремля, наказав задачку решить к завтрему и чисто расписать итог. Всё, как Фрол в книгу домовую пишет. И Петька затосковал даже, один оставшись на хозяйстве и утешаясь только обещанием брата непременно с ним всюду прокатиться как-нибудь, пострелять из лука, а покуда – служба государева.
Федька слукавил. До службы он не доехал, прямиком завернул на царские конюшни, прослышав, что Шихман32 собрался на ярмарку по своим делам, конечно же, конным.
По случаю обстояния особого свадебной канители государь дозволял ему удаляться по необходимости в иные часы и дни. И тем же дозволением пользуясь, не в силах противиться зову страстей своих по коням арабским и персидским, а также – боевым помесям с дончаками, клепперами либо даже жмудками, что с некоторой поры присматривал, ну и по неуёмности в себе по части нынешних тревог вокруг девичей княжны Сицкой, и имея до обеда в четвёртом часу по полудни свободу, на обратном пути из дому воеводы-батюшки он решил проехаться до главного базара Москвы.
Ну а уж там… Там забыл про всё.
Теперь он ожидал терпеливо окончания испытания, при нём происходящего.
– Что ж! Похвально. Отныне быть тебе, Фёдор Писемский33, дьяком Посольского Приказа, с положенным довольством, и от меня особо – полтину мяса34 сверх того. За отменный почерк.
Одарённый бывший подьячий Володимерова падал государю в ноги, лбом пола касался, благодарил за милость.
– Учись неустанно, Фёдор, а там, глядишь, на вспоможение Осипу Непее35 смена сложится. Пиши, Димитрий! Указ, как положено, завтра ж приготовь, – государь передохнул, очи утомлённые закрывши. – А тебе, Володимеров, за воспитание людей знающих и рвение, прибавка рублями, Годунов распишет всё. Ступайте, и да Бог с нами.
Оба вышли.
– Димитрий, напиши и Григорьеву36 ту же прибавку, что Володимерову. А то, неровен час, подерутся, – Иоанн говорил шутливо, но то была шутка из тех, которые надлежало исполнять примерно.
Всё быстро отметив, распорядитель государевых приговоров забрал охапку свитков под мышку, откланялся и быстро ушёл, явно всем удовлетворённый.
– Ну? И где шатался? – Иоанн отодвинул рукопись, которую читал, не обращая до того на Федьку внимания. Федька сглотнул. Само собой, Иоанну доложили, как только он воротился в Кремль.
– Да с Шихманом до Конного прошвырнулись, – встряхнув волосами, подошёл ближе, желая, чтоб лёгкий звон серёг и веяние от него достигли Иоанна.
– Без тебя б он не управился, вестимо!
–Эт я без него… То есть, Ахметка Мустафе лошадок новых пригнал, так я – глянуть.
– И как лошадки новые?
– Хороши, государь! Мне там одна запала, серебряная вся, из ума не идёт. Мифрид прозывается, что означает…
– Одинокая звезда, знаю. Поди, себе вожделеешь, а, чудовище?
– Да не отказался бы, государь! – отвечал он с улыбкой в голосе.
Иоанн полуобернулся, Федька подошёл ещё ближе, смиренно глядя в пол.
– Одним седалищем и на двух конских спинах не усидеть, а ты третью под себя пристраиваешь! Накой тебе ещё аргамак, коли его за тебя конюхи объезжать будут?
– Так ведь… не поспеть всюду, куда бы хотел! Но Арту я обихаживаю, государь, как положено! Да и Элишва меня знает, как хозяина, не только конюхов… Умники Володимеровы, вон, целыми днями корпеют, поди, над учением, этим только и заняты, а я на сто клоков рвусь, и всюду надо не оплошать… Дай только в Слободу вернуться, государь мой, уж я тебе докажу, каково мои аргамаки выучены! – видя, что Иоанн не прерывает, продолжил, очи потупив: – Ко всему, придётся навёрстывать часы урочные у Кречета! Как подумаю, заведомо разламывается всё немилосердно – этот спуску не даёт нисколечко… На дыбе, должно быть, легче!
– Да ну? Ишь, жалобник!.. А глас-то каков благоприветный, воркующий соорудил! И какое тут сердце каменно не истает?! Тебе ж сей час о невесте надлежит помышлять, а не об кобыле.
– А там и жеребец такой есть! – восторженно возгорелся Федька, как бы не видя его издёвки, обойдя стол и став против Иоанна. – Шкурка вся серебряная, шерстинка к шерстинке, а ноги – точно в чулках чёрных, словно из древа чёрного выточенные, ровно до коленей, а грива с хвостом – тоже смоль, чуть не в землю, чистым шёлком стелются, а ресницы… – у редкой девки такие! И во лбу – этакая звёздочка малая, снегу белого… – и он затаённо выдохнул, опуская руки, точно танцем описывающие его речь. – А уж как ходит – лебедем, лебедем, государь! Копыта вострые, едва земли касаются; хвост что крыло ставит, гриву хоруговью плещет, шею выгибает змием, очами так и брызжет окрест смышлёными, и жжёт ровнёхонько… А уж как горячится – соколом взвивается! Грудь широкая, а в перехвате37 – кажется, пальцами окольцевать можно… И охвостье круглоокатное, что жемчужина величины дивной… Залюбуешься насмерть. Кобыла-то мне почему глянулась – у ней грива с хвостом и реснички белые! Луна, как есть, месяц ясный… В жизни такой красоты не видал.
– Федь, ты не про себя ли расписываешь? – покачал головою Иоанн. – Ну и на чью ж казну выменять этакое чудо думаешь? Хотя, ежели обоих прежних, скажем, продать, то приобресть можно.
– Как – продать прежних? – опешивши, как если б ему кого из родни продать сказали, захлопал на Иоанна беспомощно своими ресницами. – Я ж их уже под себя приучил, я ж их…
– Ну а как тогда? Каменьев своих продай, на них не одного и не двух купишь.
– Так то подарки твои! Ни за что, если только сам не отберёшь…
– Батюшку испроси, Федя, может, он что придумает.
– Да батюшка, наперёд знаю, что ответит! Что лучше б я десятка два боевых помесов выученных приобрёл, чем тварей сих капризных.
– Ну, тогда не знаю даже, Феденька… – Иоанн развёл руками, сокрушённо вздыхая, возвратясь взором к своим рукописям.
Разумеется, он видел – сочувствие Иоанна притворно, смеётся он над ним, и ждёт, как он выворачиваться теперь станет. Не отпустил – но и не говорит более ничего…
Помедлил, переступив, как тот конь.
– А что это ты читаешь, государь? Прости душевно за беспокойство…
– Это, Федя, «Логика Авиасафа» многоучёного аль-Газали. Слыхал о таком?
– Слыхал, вроде, но… не читывал.
– Конечно. Для того надо бы по-арабски разуметь. Я же ныне из Белозёрья список на нашем получил. И мудростию строк сиих упиваюсь, поверь, не менее, чем ты – вышесказанными животинами.
«Книга, глаголемая логика Маймонида», всплыло в голове, но про что там говорится, убей не сказал бы сейчас. Впрочем, как успел он заметить, логика всяко про одно всегда – делать умозаключения здравые из любого вопроса сравнительного.
– А ежели, скажем, в твою конюшню эти лошадки бы отошли по праву, ты бы против не стал?
Иоанн дочитал строку до точки и с любопытством взглянул на него.
– Положим, не против. Об чём толкуешь, изложи внятно. Да сперва распорядись подать мне чаю живящего, и чтоб часом после обед накрывали в малой. Себе возьми чего хочешь, и вертайся шустрее – дел у нас…
– …окиян! – в один голос с ним завершил шёпотом Федька, откланялся и выбежал исполнять.
Иоанн, расслабляя усталую спину в кресле, пил чай живящий (как называл он настой в кипятке душицы с можжевеловой хвоею и морошкой), Федька устроился на стуле поодаль со своею кружкой и тоже пил, молча. Пока носился на кухню и отдавал распоряжение по всему, впал в перепутье, стоит ли затевать дальнейшее, внезапно в уме сложившееся, и решил, ежели Иоанн сам разговор возобновит – то затее быть. И теперь ожидал невольно, оставив пустую чашку на столец.
– Чего ты там про право обмолвился?
Федька встал, как бы в раздумьях неторопливо приблизился к его креслу. Оперся слегка пальцами о самый край его стола.
– Да подумалось, государь, если б, скажем, Ахметка оказался в подложном деле виноватым, а Мустафа через то тоже, но не прямо, а исподволь, и, пожелавши за собой место тут торговое оставить, откуп бы предложил, и за вину, и недоимки казне твоей возмещая, а мы бы конями откуп тот взяли?
Иоанн подался вперёд, пытливо вглядываясь в него.
– В деле подложном, говоришь? Исподволь? Это как же?
– А по неведению. Он людишек своих с конями по весям нашим рассылает, они торг ведут, Ахметке добычу свозят, он Мустафе доход сдаёт, а тот – тебе с того подати в казну. Дьяки Пивова38 докладные росписи пишут. А пишут по тем спискам, что им дьяки губернские присылают, а те по грамотам своих подьячих оные составляют… А Головину39 – свои отписывают, значит.
– Ты по древу-то не растекайся! Кратче.
– Что, ежели Ахметкины людишки пятинные пошлины40 не по товару пишут?
– Чего замолк? Изрекши "аз", реки и "яз". Известно ль тебе чего, иль так словоблудишь?
– Слыхал спор на задворке. Попрекал некто, с выговором вроде татарского, Ахметкиного приказчика в нечестии в расчётах. Приметить его не успел – едва заслышав нас, умолк и сгинул без следа. Ну так я и говорю, государь! Ежели б такое вскрылось, виновен ли Мустафа в вине людишек своих, как ты рассудишь? Справедливо ли с него взыскать, чтоб впредь лишней воли им не давал, выверку чтобы устраивал как следует? Ты ведь честь ему оказываешь, в Конный ряд поставивши, первым по Москве. И сам говоришь: если в войске разброд – виноват воевода.
Пристальный взгляд Иоанна стал острым под сдвинувшимися бровями. Федька успел уже начать жалеть о сказанном, понимая, сколь ему несносно всякое поминание о разбродице и воровстве, и большом, и малом, из коего большое слагается, в подначальной его державе. А вышло, как будто он, Федька, царю на недосмотры его указует, не в своего ума дело лезет. Обомлел Федька от промашки такой своей… И уж не знал, стоит ли всего сейчас говорить.
– Прав ты тут. Взыскал бы, – молвил, наконец, Иоанн, возвращаясь к равновесию душевному с видимым трудом.
В великом облегчении Федька перевёл дух и присел к подножию его, осторожно прижался виском к его колену. Хищно вырезанные ноздри Иоанна втягивали его близкий запах, заставляющий руку подняться и возлечь на тёмные тяжёлые кудри, и поглаживать их, и – умиротворяться.
– Ежели б ты что знал про кого наверняка, Федя, то сказал бы мне сразу, так ведь?
– Государь! – он перехватил мягко царскую руку и прижал к губам. – Я клятву давал опричную, нерушимую, ни об чём дурном не молчать, и от неё не отступлюсь. Но ещё допрежь того, год тому почти, в Крестовой палате, помнишь, к стопам твоим припавши да в очи тебе заглянувши, в себе я клятву ту бессловесно принёс…
Ладонь Иоанна легла на его рот и как запечатала.
– Молчи. Молчи лучше… – склоняясь, он дотянулся и поцеловал Федькину пахучую макушку. И застенал тихо-тихо.
Пора было переоблачиться к трапезе.
По жесту его Федька призвал спальников и отворил перед ним двери кабинетной комнаты во внутренние покои. Затем в свои сени вернулся, где его уже ожидал с приготовленной сменой одеяния Арсений.
За столом были Вяземский, Зайцев и Наумов, и более ни души, не считая стоявших по стене подавальщиков.
– А Васюк где? – бросил Вяземский, пока в ожидании царя они рассаживались по обычным местам.
– Видать, государю не до шутовства ныне, – пожал плечами Наумов, и все трое коротко посмеялись.
Грязной вскоре ввалился, как всегда взъерошенный, и уже несколько навеселе, и едва успел надлежаще поправиться до прихода государя с малой свитою – рындами и Федькой.
Обед начался, как только Иоанн поднял поданный ему Федькой ковш мятного кваса, и краткой напутственной речью приветствовал их.
– А нам можно чарочку? – не известно к кому обращаясь, отламывая кусок от близстоящего ситника, прошарился по столу глазами к сотрапезникам Грязной. Тут же к нему подошёл служка и налил полную рейнского. Иоанн часто почти не ел и не пил за общей трапезой, но все знали, что гостям ограничений не было никаких, кроме, само собой, дней постных.
– Ты, Вася, уже угостился, смотрю, – заметил Иоанн без упрёка.
– Так и есть, государь! – Грязной рьяно, как всегда, подался в его сторону через стол, всем туловищем выказывая готовность к чему угодно и во всём заранее каясь. – У нас же свадьба скоро, говорят! – и он осклабился на Федьку. – Вот, предуготовляюсь!
Все тоже посмотрели на Федьку, сохранившего непроницаемый вид кравчего при исполнении долга, и не пожелавшего поддержать подначку Грязного. Лицо его подёрнулось брезгливостью, и только. «С банькой пакибытия, стало быть!» – отчётливо прозвучало в голове, и тут Федьку накрыло… Минувшее ноябрём здесь разом встало и навалилось, и палаты все эти, тогда впервые виденные, их запах, великолепие, чужесть и тайна, и восторг, и ужас весь тот, им испытанный – словом, всё. Теперь уж и в Кремлёвских государевых покоях пребывал он за своего, а тогда… Что-то заныло в нём неясно, и он понял: со дня их приезда государь ещё ни разу не оставлял его в опочивальне при себе. Это ничего не означало, кроме того, что устал государь с дороги и недомогал, и желал в одиночестве безо всяких бесед отдыхать, говорил он себе. Что навалились на него сходу все челобитчики, те, что в Слободу ломануться не решились, а, прознав, что государь в Москве, кинулись за справедливостью по всяким судам. Государь никому без причины не отказывал, а раз на неделе весь день принимал только крестьянские и посадские жалобы и прошения, и самому пустяковому дельцу копеечному уделяя внимание. Ни единой трапезы почти не проходило без гостей и бесед значимых, так что только на молитве да в опочивальне бывало ему отдохновение, да и то – как сказать. От мыслей же не отвяжешься иной раз и молитвою, и сон нейдёт, это Федька по себе знал. Захотелось немедленно в Слободу, ставшую уже родной, где дышалось куда вольнее, чем в громаде затихающего к ночи Кремлёвского дворца, полного теней, огней и красоты, пропитанного вздохами и шёпотами, внезапными криками, стройными хорами славы, и вековым звоном колоколов и рек величаво текшего по крови злата… Стоило на миг хотя бы вообразить, что Иоанна рядом нет, и чужой враждебный вихорь подкрадывался и обносил его в цепкий круг, и гибель жестокая зримо вставала перед очами. Мерещился страшный облик Горецкого, кинувшегося к нему тогда в полном отчаянии обречённого.
Сколь не запихивал эти видения Федька подалее, они лезли и лезли из глуби откуда-то. Он тихо мучился вопросами неразрешимыми, и начинал постигать, отчего это многие знания есть и печали многие. Ибо чем более тебе открывается всего, тем ещё более за этим появляется неизвестного. К примеру, зачем нужны вредные животные вроде Грязного. И накой раз за разом бегать в Литву тамошнему сейму панскому на поклон, когда тут можно бы одному государю достойному поклониться да и жить себе…
– А то-то и оно! – зло говорил Вяземский, и осушал уже третью чашу, ни на кого не глядя. – Власти им охота, а воевать – нетушки! Пущай иные воюют за них! Пущай кровушку свою травят, покуда они гусями дутыми пред друг дружкою ходят, да доходы собирают, да в сундуки складывают! А меж тем мечтают, что за них ктой-то с крымчаками и ливонцами на мир уговорится!
– Никто, ишь, кишки-то свои на общий барабан мотать не жаждет, Афоня! – зло смеясь, поддержал Грязной. – Всяка крыса в свой угол прячется, покуда вместо неё иные грызутся.
– Ежели бы в свой только! Несутся к Жигмонду, аки ко апостольским стопам!
– А Жигмонду на них наплевать с колокольни, никто они тама, мошонки вытрясенные! Нежели Жигмонд и паны глупы настолько, чтоб гниль предательскую себе во главу избирать да к корыту допускать? Не-е-е, свиньи – твари хитрые!
– А бегуны наши глупее свиней, выходит: руку дающего кусают, а сапог пинающего – лижут!
– Ээ, то подлючесть особого свойства, и тем опасна, что непостижима разуму справедливому.
Сотрапезники выпивали понемногу, закусывали, гудели и кивали. Никто не поминал Курбского, хотя в него как раз метил Грязной, зная, что тем порадует Иоанна. Сам Иоанн молчал, с удовольствием смакуя единственное на сегодня своё блюдо обеденное – большую тарель щей со снетком, заваренных так густо, что ложка, туда поставленная, падала не вдруг. На него глядя, Федька, при малой трапезе будучи, и себе всегда брал того же, и сейчас в поданную прислугой тарелку щей икорочки севрюжей и лососевой добавлял изрядно.
После отправились отдыхать.
Иоанн возлёг на обычный в покойное время час дремоты, и отпустил его тоже.
Янтарный яблочный свет пробил стеклянные оконцы. Последнее тепло изливалось на землю, последние пламенные и ясные полыхания царили в рощах и шорохах лесистых окрест, и последние яркие плоды снимались с садов. Вместе с дымами чистых костров поднимались к небу, подёрнутому белёсой шалью, воздыхания и чаяния мира всего, казалось, и протяжные клики пролетающих клиньев птичьих говорили о грядущем сне души. Так было всегда.
Но утки и журавли пролетали вкруг Кремля дальше, и им не было времени для сна души. Как и обитателям Кремля, впрочем.
Глава 3. Лекарство от кручины
Москва. Кремль.
20 сентября 1565 года.
– …Тетерева под шафраном, журавли под взваром в шафране, лебедь медвяной, лососина с чесноком, зайцы в рассоле, потрох гусиный, потрох кабаний с куры во щах богатых, осётр заливной, севрюга печёная, а за ними, с переменою подавальщиков41, пироги с бараниной, пироги подовые, пирогов блюдо с яйцы и лук, кулебяки на четыре угла с гречневою кашею, луком и грибами, щукою, молоками сладкими с яйцы и черемшою рублены, блины тонкие, и к ним сливы в меду варёные, смоквы с имбирём в меду тож…
Выстроившись в ряд по стене сеней большой кухни, трапезные раздатчики воспринимали роспись нынешнего посольского обеда, и каждому стряпчий от ключника подавал список по его части, затем чтоб после те управлялись со всей оравой подавальщиков, блюдников, чашников, прислужной им челяди, и ничего в переменах кушаний не перепутали. Читал же весь обеденный развод дворецкий, а царский повар стоял тут же с важным видом, сцепив мощные ловкие руки под длинным чистым холщёвым передником, бдительности не теряя, но пользуясь передышкою охолонуть от своего немалого значимого труда. Подчинённые повара с помощниками были тут же, спешно довершая свои обязанности, так что в кухне всё ещё грохотало, кипело перекличкою и дребезжало. Федька, также обязанный выслушивать блюдную роспись, в особенности ту её часть, где исчисляется государев стол, и на сей раз – постный, точно иноческий, стоял по другую руку от чтеца, мерный ровный торжественный голос коего усыплял его. И мысли, плывя рядом своим чередом, крутились в основном возле завтрашнего вечера… Запахи, смешиваясь, дразнили, но не донимали слишком – он успел по возвращении перехватить наскоро любимых потрошков со сметаной и краюшкой ситника, устроившись в углу свободного закута кухонной каморы с Сенькой, которому тоже перепало изрядно – целая миска куриных щей. Разумеется, кушанье себе он требовал если не от царского приготовления, тормоша при том загнанного повара, то от его помощника первого и только после снятия им с избранного пробы. Всякую минуту надлежало помнить об отравителях, и он помнил. Потому даже воды простой испить не где попало находил, а из рук всё того же второго царского повара, из закрытого кувшина, который тот сам укажет ему при свидетеле. Часто вторым свидетелем всему оказывался сам ключник, и Сенька, уносивший питьё в их с господином покои.
– Из пития перед Великий Государь ставити по Росписи романеи три чаши полные, а на поставец – рейнского, мальвазии, аликанту, и медов вишнёвого, можжевелового и черемхового по штофу, да меру квасу хлебного с хреном и изюмом белым, квасу можжевелового с клюквою, настойки гвоздичной, полынной и анисовой, а перед послы того ж, да по полумере всего сверху. А пред гости… – близился к завершению длинного подробного списка неутомимый дворецкий, Федька же тешил себя тем, что хоть и княжеское будет обручение, а всё ж, хвала Небесам, не царское, и обрядов с непреложными уложениями, в нарушение коих не токмо чести – головы лишиться недолго, там куда поменее. Да и опыт у него, как-никак, кой-какой, а имеется, чтоб при особах знатных себя не уронить. Сваха, Анастасия Фёдоровна, насовала ему указаний, взирая надменно, с укором заведомым будто, будто он бестолочь какая и враг себе, и от возмущения он половину не слушал, почтя пустяками, само собой разумеющимися… То ли дело – наставления князюшки, мелькнуло внезапно, и тут он на минуту смешался от понесшихся вскачь тогдашних картин: амигдал тот в меду, вино, в голову ударившие, и благостное князюшкино доброжелательство, тогда помнившееся скаредно-лубочным, да только что б без него сделалось…
– Ко всему полкади винной ягоды красной варёной в патоке, – завершающе прозвучал дворецкий, и далее, сообщив точный час, по коему им надобно быть по местам и готовыми, всех распустил.
«Эге, – подумалось Федьке, – важный был разговор, и значимое вышло решение, раз таков приём42! А изюму бы белого неплохо в невестин ларчик взять… Не вылетело бы из башки только!».
Пока государь заседал с посланником и Годуновым наедине, он полдня развозил гостинцы от него со словами внимания главе московской купеческой гильдии, на большое подворье, и по дворам других торговых воротил, прибывших по случаю в Москву ради общего насущного решения с Волги, Ладоги и самого Приморья Холмогорского… Всех их государь по отдельности выслушал, и приглашал явиться вместе, после нынешних переговоров.
Сознавая, что день завтра с самого рассвета предстоит безумный, он решил не откладывать, и забрал с собой кулёк изюму из тут же приготовленных запасов. И криночку орехов тёртых греческих в дивном молоке миндальном. И ещё горсть засахаренных груш вперемешку с вишнями и финиками в присыпке кардамонной. Брать ему из довольства не воспрещалось ничего, всё выдавалось по первому требованию, только ключником заносилось в расходную докладную. Можно было б придумать ещё чего к гостинцам, но Федька вовремя спохватился, что не своим делом озаботился на сей раз, и уж верно столом их семейным занимаются сватьи. И всё же воротился взять ещё целых три лимона. Ключник погудел себе под нос, внося сию потраву в свой отчёт.
Как всегда перед послами, кравчий во первых рядах выставлял себя ответственным за царское лицо, причём – прямо и безо всякого иносказания. Федька разоделся в прах, сверкая так в зажигаемых всюду покоевых фонарях и лампадах, что глаза слепило, отражаясь искрами и вспышками в цветных слюдяных оконцах, позолоте утвари и, волнуя пламя свечей, проносился по дышащему пространству дворца подобно той самой Птице-Жар… И Арсения, конечно, нарядил сообразно, поручив во время всего застолья быть неподалёку от входа в трапезную, на всякий случай обретаясь не слишком заметно среди многочисленной прислуги, облачённой по случаю пира богаче иных дворян, и за всем там наблюдать.
Перед самым царским выходом удалось переговорить с воеводой с глазу на глаз, отойдя в сторонку от прочих ближних опричных и земских, приглашённых к обеду стольников. Вернее бы сказать, из уст в уста и с уха на ухо – за ними постоянно следили, конечно… Кратко доложил, что речь с посланником наедине у государя в Крестовой шла о Нарве, бухте святого Николая, о делах торговых, и о намерении в путанице сей разобраться совместными стараниями, и по завершении Висковатого со старшим Щелкановым43 туда позвали, и оба с мордами красными выкатились, как в бане перебрав, а более ему добавить нечего – слыхал начало да конец видал.
Воевода, хмурясь, усмехнулся.
– А государь что?
– Зримо тягостно вздыхает…
– К Афанасию он сегодня же?
– Да, как англичан проводим.
– Тебя берут?
– Пока что был приказ после стола не отлучаться.
– Примечай там…
– Без надобности упреждать, помню: муха не свистнет, мышь не шмыгнёт.
Воевода кивнул, довольный его деловитой вдумчивостью в их недавний уговор. Согласно ему, передавал Федька отцу всякое слово и впечатление, что успевал заметить в государевых покоях, всех посетителей, просителей и посыльных, при которых ему доводилось рядом с государем быть, вплоть до пустяка малого. То же касалось и его поручений, и встреч разных, где бы то ни было. Ты, Федя, упоминай и излагай что было, кто как поглядел, худо, добро ли ответил, а уж что безделка, а что полезно, разберёмся, каждые раз повторял наказ воевода. Ныне, как и во все времена – кто более сведущ, тот и в прибытке.
За столом с государем рядом был царевич Иван, со своим кравчим за креслом и дядькой-боярином с ближними стольниками за косым столом44 малым, да старшие думные посольские дьяки, конечно, за другим столом. Английские посланники, главные гости на этом обеде, и их доверенные сановники занимали всё левое от царя крыло. Изобилие яств и пития, вдесятеро излишние для невеликого такого собрания, присутствие царского сына, и доносящиеся из некого отдаления, с хоров, беззаботные бойкие бубенцы, рожки, жалейки и гусли навевали ход бесед застольных лёгкий и благорасположительный. Таковой его и повёл, после торжественного приветствия взаимного хозяев и гостей, Иоанн, соблаговолив даже вина испить первою чашей наравне с прочими. За каждым гостем чашник стоял и ухаживал особо, а подавальщики, носясь бесшумно, ловко красиво раздавали приносимые кушанья по блюдам, перед тем пронося их высоко напоказ под торжественное объявление распорядителя пира.
Между делом не единожды помянул добром государь прежнего посланца от Англии в Москве Антона Дженкинсона45, коего попросту величал Янкиным, тем самым выказывая, понятно, особое к нему доверие и расположение. Тут же посетовал, что пораньше лет на десяток не случилось досточтимому и достославному мореходу Хью Уиллоби завернуть к нашим северным брегам… Тогда многое, может, инако бы сложилось. Удачнее, чем теперь. О Ченслере46 говорили, тоже в превосходной степени, что любознательный человек был и учёный, и отваги немалой, и что хотелось бы государю у себя иметь его записки путевые, многие русские земли описывающие, нравы и обычаи тамошние, каковыми ему показались они. Гости согласно кивали, обещано было передать сей труд в руки государю уже нынешней весной, коли, с дозволения королевы Елизаветы, Богу угодно будет доставить Дженкинсона в Москву благополучно. Государь казался весёлым, похвалил также и наблюдения Ченслера за травами и плодами земель здешних, тонко открывающие полезные для пищи, врачевания либо красоты свойства их. Многие из этих описаний государь собственной рукой вписывал в свой Травник, что Федьке удавалось подглядеть не раз. При выгодном случае надо будет ввернуть государю про лобазник с золотарником, что, в равных долях смешанные и крутым взваром залитые, в настое от костяных хворей и болей помогают очень, как матушка сказывает… Да опять же осерчает, что вперёд дворцового лекаря лезу! Затаённо вздохнув, Федька поднялся по знаку Иоанна, чтоб поднести гостям, с поклоном поясным, жалованное блюдо. В завершении беседы о содружестве, помолясь за упокой души Ченслера, за здравие обоих царственных домов, и всех присутствующих, продолжали трапезу, и затронули уж менее лёгкое – соседей общих, на море препятствующих свободному их торгу. Понятно, речь о Габсбургах по большей части. Ну и об извечной Литве, следом. Потому как воевать им видится выгоднее, нежели миром договариваться… Ведь чужою наёмною кровью и силой воюют теперь всё больше, поживу и грабёж суля рейтарам, солдатам и кнехтам своим, крови христианской проливать, не жалея, наказывая, а через то панам обеспечивая пресловутую их вольницу.
– В войне и без того нет благородства! Многие люди поэтому идут сражаться… Ни роду ни племени, ни чести ни правды не ведая, а только лишь наживы ради и потехи злобной в чужих землях. Нешто мы, одному Богу молящие, уподобимся вконец басурманам, что, аки волчцы алчные, непрестанно терзают Русь! Да и все государства окрест, и противными бесчестными посулами своими раздор вносят в мир наш, нестойких государей толкая к порухе уговоров и подлому опять кровопролитию! Легче отнять то, что другим взрощено, и ничего взамен не дать, нежели честью заработанным расплачиваться, и разбоя своего не стыдятся, ничем не гнушаются! – голос Иоанна горячо возвысился, и он поднялся из кресла, озирая всё собрание, тотчас тоже поднявшееся. – Противно духу нашему христианскому такое негодное положение, потому и хотим воцарения миролюбия по справедливости. Торговать, не воевать чтобы. И в союзе заодно выступать чтобы, оказавшись сильнее любого врага нашего в отдельности. И есть у нас с вами все на то благое начинание возможности, – как бы в задумчивости надежды своей завершил Иоанн, отмечая меж тем, какова его речь пожелательная показалась англичанам. Те кивали рассудительно, лицами не выражая ни согласия явного, ни отрицания, впрочем, как обычно заведено, видно, у их сословия было. Гости, наконец, поддавшись хмелю изрядно и объевшись, со всем почтением откланялись, выразив обещание государеву посольскую грамоту королеве своей доставить в самый краткий возможный срок, и слова мира передать без искажения.
Государь возлёг отдыхать у себя, и два часа было в покоях тихо.
Федька же отправился проследить за подношением митрополиту Московскому, которым, вместе с намеченным посещением вечерним, Иоанн упреждал их завтрашнюю встречу на большом праздничном чествовании Рождества Пресвятой Богородицы в Успенском.
Подношения эти были нарочито и дорогие, и скромные: на подносе большом в золочёных судах перец острый и душистый, шафран, винные ягоды, изюм, яблоки и вино.
Афанасий и впрямь смотрелся утомлённым, и поднялся при их появлении из кресла, подушками бархатными устланного, с помощью служки и опоры о посох. В его покое было сумрачно и ощутимо прохладно, и толстые высокие чёрные свечи в золочёных чугунных шандалах в человечий рост изредка колыхались пламенем, бросая в медленное кружение по стенам и сводам длинные перекрёстные тени.
Точно вторя движению государя, Федька и рынды-телохранители пали на колени и ниц, согнувшись смиренно, возле дверей митрополичьей палаты, под надзором сумрачных иноков-привратников, рослых и нехилых с виду, молитвенным поклоном приветствующих царя. Рынды при этом обнажили головы и держали свои высокие рысьи шапки, как держат шлемы, на согнутой руке у пояса. Затем Иоанн один приблизился к патриарху, и в полной тишине преклонился к его руке за благословением.
Федьке был дан знак подойти с подношением. Митрополит еле заметно кивнул, взглянув на него. Его служка принял у Федьки поднос, затем оба, не поднимая склонённых голов, отошли к большому поставцу, накрытому зелёным бархатом с широкой золотой каймою, вышитой чёрными крестами и звёздами, куда водрузили подарок среди других даров и золотых кубков, и замерли там, почтительно потупив взгляды в тускло отсвечивающий мраморный пол.
Федька не в первый раз сопровождал Иоанна к владыкам, порядок весь знал, и боялся, что сейчас, как тогда, в Ярославле, или в Лавре, его выставят вместе с остальной свитой, и он не узнает, о чём пойдёт речь. А, меж тем, батюшка особо что-то сетовал на поповские дела и неурядицы, приписывая им чуть ли не верховную причину всему извечному мирскому раздору. Едва ль не так же, как осиное гнездовье Евфросиньи и старых псов вкруг неё, клял он последними словами поповскую власть, всегда поперёк царской встающую, едва им чем-то поступиться надлежало. В душе Федька с ним соглашался, не вполне в состоянии рассудить всем осознанием, уж очень запутанно тут всё было… Отчего тогда, непрестанно своё слово отстаивая, государь на богомолия ездит к тем же, с кем спорит, и там столь часто дары оставляет, и землями жалует, а сам на их же непомерную жадность сетует… Укрепляет всячески царствие земное Троицы Живоначальной, за единство всех в своей земле пастырей ратует рьяно, расколу и ереси войну объявивши, но сам, с собою в беседе или старцами преподобными, вопиет горестно безнадежно на эту самую единую стену, что встаёт перед ним и окружает, и наступает, давит, и велит поступать так, как ей, стене этой, угодно, а не ему видится. Точно и сам мечется средь неразрешимого! Тут Федьку охватывала такая к государю своему жгучая жалость, сочувствие бессильное, что в мыслях совершал он кощунства чудовищные, воображая всех государевых сановитых обидчиков, за крестами золотыми и дарами богатыми, и крепостями монастырскими укрывшихся, разорёнными, униженными и оставленными в ничтожестве молить Бога о прощении, наставлении на истинную стезю и упокоении без гнева его. Ведь страшен гнев долготерпеливого, а Иоанн терпит долго, и больше, кажется, чем всякому смертному по силам. И жалось в Федьке оплавлялась, точно свеча в слишком близком пламени кострища, истаивала, и оставалась одна ярость.
Однако здесь, при самом митрополите, ничто не шелохнулось в нём из тех мятежных побуждений. Он трепетал и робел несказанно. Ведь и сам Иоанн выглядел исполненным смирения и послушнического благочестия.
Изъявив пожелания здоровья и надежду видеть на завтрашней службе митрополита главою торжества, особо всенародно почитаемого, Иоанн принял приглашение владыки не стоять, располагаться на предоставленных служителями креслах подле себя. Выждав положенное время, владыка подтвердил, что вскоре ожидается приезд в Москву Никандра Ростовского, Германа Казанского, Пимена Новгородского и Галактиона Сарского, изъявивших желание встретиться с ним в присутствии государя и о многом побеседовать. И о том, что вести из Рима предрекают скорую кончину Папы Пия, а это означает множество перемен, но, вероятно, и множество путей для владык христианского мира, что прежде были закрыты… Одна за другой падают, сдаваясь соблазнам Папской унии, христианские твердыни, откровенно продавая веру за обещание насущных благ. И только Русь стоит пока неподкупно и твёрдо, и в том, несомненно, заслуга великая государя, его неколебимости и преданности Вере истинной. Иоанн кивал, размышляя, внимательно глядя на Афанасия, казавшегося погружённым в себя под гнётом несчётных забот и тягот своей миссии. Ясно, что сегодня он решил выказать только почтение своему патриарху, не задевая больных мозолей, его и своих. Впрочем, прозвучало будто бы вскользь имя Макария, многие годы успешно, как никто иной, наставлявшего юного государя в премудростях жизни и долга служения престолонаследию, в связи с тем, что даже будучи, по несчастию, отдалённым от средоточия власти, коим является царский трон, некие подвижники и там, в мирных дальних обителях, ведя затворническую жизнь, могут показывать примеры пользы и настоящего богоугодного деяния… Государь, всегда острой иглой принимающий всякое поминание прежнего, некогда приятного, но глубоко теперь огорчающего, на сей раз ничем не выдал сего, а снова соглашался. И в пример приводил многих мудрых и просветлённых старцев, и сильных пастырей, и их заслуги… Особо же выделил среди прочих игумена Соловецкого Филиппа Колычёва, что в благочестии не праздно временем распоряжается, а в обители подопечной своей полноценное хозяйство учредил, чтоб монахи сами себя во всём обиходить могли, и не только себя, а и мирян окрестных в нужде тем поддержать, а разве не в том главная польза монастырского и церковного устройства, чтобы, паству в вере содержа и греховность преуменьшая, во всякое время быть всем страждущим опорой и поддержкой не только словесно… Иначе, для чего нужны дары, монастырям щедро приносимые, и богатства, ими копимые, как не для того, чтоб в трудное время, такое, как сейчас, к примеру, их на благо всего мира употреблять? Мельницы, от водяного колеса работающие, поставил, и дозволяет всякому поселянину своё зерно там молоть под присмотром, и платы за то никакой не взимает, кроме положенной церковной доли. Полное плодами труда своего обеспечение общины монастырской обустроил. Всё предусмотрел рачительно: крупорушку, квасные заготовления, соль добывает даже, и кузницу с молотом, что от приспособления особого бьёт, и силы тем молотобойца сберегает. Вот всем нам пример достойный и Богу служения, и людям.
Видно было, что понял митрополит, куда Иоанн клонит опять, ловко от его собственного обиняка уведя речь. Но тут трудно было с государем не согласиться.
– Так и есть, государь, – с глубоким вздохом произнёс патриарх, – сколь многих ныне монастырские владения принимают, и от мора пограничного бегущих, и от прочих разорений и бедствий. Наказ твой исполняется свято – хоть репою, хоть лепёшкой гороховой пополам с лебедою, себе во всём отказывая, кормят обители по мере сил пришлых, бескормицей неурожая с мест своих согнанных…
Иоанн будто бы напрягся. Всякое указание на «согнание с места» теперь принимал он себе в пику, и не в неурожае тут дело было и не в моровом поветрии, а, виделось ему, в осуждении тайном Афанасием его опричных замыслов, переселений Казанских да испомещений нового своего дворянского воинства на старые боярские вотчины. Будто бы бедствия и запустение земли то влекло для люда простого, от таких потрясений, от бесхозицы, урезания наделов прежних и промашек новых, неопытных хозяев, молодых большею частию, занятых всегда службою, а не делами имения… Вот и бегут землепашцы, едва Юрьева дня дождавшись, куда могут, к лучшей доле и землице доброй, а всем известно, что самые лучшие земли – у монастырей во владении. Да, на то и был издан царский запрет обителям богатым принимать себе на поселение и работу посадских, и переходчиков. Но теперь, грядущее тяжкое положение предупреждая, государь сам же наказал им люд опекать, а зима скорая велит не оставить их под открытым небом, то есть –дозволять срубы ставить, а где крыша и угол – там и остаются люди, и хлеб свой начинают у монастыря отрабатывать…
– За то каждому, указ мой верно исполняющему и тем Богу услужающему, будет воздаяние. Но как иные настоятели собираются накормить голодных аргамаком жалованным, скажем?
В Федьке всё ёкнуло, ибо отчётливо сверкнула в тоне Иоанна молния гнева.
– Позволь испросить, государь мой, что за загадку ты мне задаёшь? – помедлив, мрачнея, молвил Афанасий, не глядя на царя.
– Да принесли мне птицы перелётные, людишки перехожие, на днях басенку, давняя басенка то, пяти годов тому, а и ныне горяча. Слово в слово передаю, как сам узнал: «Завещан боярином Василием Петровым Кутузовым в лето 7068-е на помин души его в Иосифо-Волоколамский монастырь аграмак гнед с седлом, седло бархат червчет, с уздою с морхи и с науздом и с тулунбасом, да конь чюбар с седлом, седло сафьянно, с уздою и с морхи47, да конь каур с седлом и с уздою и с морхи»… Вот и не восприму я в уму своём ничтожном, владыко, нешто аграмака в годину голодную на куски изрежут да в котле сварят, может, да голодным безземельным прохожим в горсть раздавать станут? Да и седло с морхи на мощи голые не напялишь, уздою ног босых не обуешь. И что-то не больно складно будет монаху на жеребце под сафьяном красным и с тулунбасом выезжать, думается… А и в плуг такого не впряжёшь – дороговато будет, а проку никакого супротив простого мерина. Разве обратится аграмак сужеребою кобылой? Вот бы кто мне растолковал сие.
Патриарх молчал. Иоанн ожидал с видом смиренным. Очень хорошо знакомым патриарху по февралю… «Прошу себе опричнину!» – твердил тогда в чернеца облачённый государь, и явственно всем слышался за глумом этим его несгибаемый железный смех, и от этого жуть брала даже самых суровых. Ибо никогда не могли они разгадать Иоанновых замыслов. Потому и уступили.
– Может, хотя, боярину какому али князю в ответный дар аргамака такого дати. За землишку, либо холопьев, опять же. На таком коне далеко ускакать можно, до Литвы самой, покуда хватятся… Разумно! И я б в войске моём от коней добрый тех не отказался. Да что-то не больно дают. Сам вот стараюсь! Луга пастбищные да и пастырей сходных выискиваю.
Тут уж мог бы Афанасий встать в рост и ответ держать, на прямой такой вызов. Но – не стал. Всё на будущую встречу совместную перенёс, сделавши вид, что слышал, да сей час ответствовать не будет за провинность единого епископата.
– А ну что ж. Да и в самом деле, умнее мы делаться с летами обязаны, дурнеть нам нельзя, – тяжело поднимаясь из кресла и опираясь на посох свой, заключил Иоанн, и низко митрополиту поклонился.
Поднялся и Афанасий, хмурый и совсем уже больной видом.
– И я молоденек был ведь, владыко! – внезапно доверительно обратился к нему Иоанн. – И вернул, помню, послам датским часы с механикой хитрой планет и светил, как Макарий подсказал, дескать, царю христианскому, верующему в Бога и творения его, нет дела до планет и знаков небесных, и потому подарок непригоден. Одно меня огорчает – сколь сие теперь глупо выглядит. А часы-то мы себе на башнях и в палатах имеем, однако.
И снова патриарх промолчал, слегка главою качнув, и в посох впиваясь, обнимая большой ладонью с архиерейскими перстнями.
Выждав, и не дождавшись желанного, Иоанн итожил:
– Всё бы хорошо, владыко. Но вчерашней славой на войне не живут! А у нас – война ныне.
Молча откланивались. Отчего-то было тяжело.
В начинающихся сумерках государь отпустил своего кравчего из Кремля – ведь тому надлежало обговорить с семьёй завтрашнюю помолвку и приготовиться к ней, подобрав подобающие случаю облачение, личные слова и подарки невесте. Условились, что Федька будет в Кремле завтра двумя часами после восхода, поскольку государь намеревался благочестиво отказаться от утренней трапезы, и услуги кравчего ему не понадобятся, а воды поднести он доверит постельничему. Сам государь, переодевшись в иноческое платье, с простой чёрной тафьёй на голове, отправился в молельню, взяв с собою Стихирь Богородице и всё необходимое для нотного письма.
Дом Сицких.
21 сентября 1565 года.
Всё семейство Сицких с ближними домочадцами собралось в домовой церкви к полудню, и приглашённый батюшка, духовник и старших и детей давний, в праздничной лазоревой ризе, бодро и просветлённо, как полагалось, распевал канон Богородице, Пресвятой среди всех святых, пришедшей в наш грешный мир ради утешения печалей людских, и подарения миру Спасителя. Было тепло от множества свечей, сладкий аромат лампадок и кадильницы воцарялся всё сильнее, смешивался с мягким солнцем, льющим сквозь слюдяные оконца в древесную благодать часовенки цветные лучи.
Чудесным образом уготовления к празднику и на службе, пусть и домашней, стояние, совместное с поклонами вторение молитвенным распевам, светлое торжественное спокойствие этого часа уняли смятение в сердце княжны Варвары. Она забылась даже, до того всё вокруг было мило, ласково и благополучно сейчас. Как будто и не было невыносимо тяжёлого последнего месяца… Но с последними словами молитвы вернулось к ней беспокойство. В новом смятении княжна обратилась к Богородице, истово прося сил для сегодняшнего огромного события, испытания, которое виделось ей тяжелее всех прежних. И промелькнуло чередой всё, до того испытанное…
В один миг всё прошлое рухнуло, ухнуло куда-то, поплыло и закачалось перед застилающими взор слезами, когда оказалась она в своей светлице с подружками после матушкиного с батюшкой образом благословения. И далее уж не было у неё ни одного дня мирного, душа изнывала, металась, страшась того, что надвигается неумолимо. Все эти хлопоты, наставления, таинственные недомолвки, всеобщее волнение лишали её прежней радости и воли. И, хотя все домашние обращались с нею небывало нежно, заботливостью даже докучая, непрестанно своими добрыми речами и о самочувствии расспросами напоминая ей о скорой разлуке со всем, что с рождения она привычно любила, казалось, что они заставляют её мучиться, делать то, чего она боится и не хочет, велят идти на эти смотрины, с чужими людьми знакомиться, украшаться и убирать себя, выступать и говорить так, чтобы чести их дома не уронить… Все вокруг только одного добра ей желают, а она, и правда, точно больная сделалась через эти их благие пожелания, которыми они будто б её оплакивали. И в доме родном была она теперь словно пленница, которую уготовляют на заклание! Надумавшись снова обо всём, что творится, она падала на постель и безутешно плакала от великой к себе жалости, и оттого, что ничего уже нельзя поделать… И только неизменно твёрдые рассудительные речи княжны Марьи прогоняли её печаль и снимали тяжесть с груди. Она умела в спокойной весёлости всегда ровного духа без устали пояснять, что есть неизменный ход вещей в этом мире, и что грешно ей горевать так над тем, что всякой девушке по судьбе положено совершить, став женою. Что куда хуже остаться вовсе в девках-то, хоть и княжеского роду, без проку этак и состариться. А того прискорбнее за старика выйти, иль вовсе уж немилого, противного сердцу кого. И чего тут плакать и убиваться ежечасно, когда ничего дурного ещё не сделалось! Для плаканья у неё венчальное утро будет, вот там и навоется вдоволь, как полагается. А сейчас себя изведёт всю, личико опухнет и глаза покраснеют, а ещё и волосы вылезать начнут, чего доброго.
– И кому мы тебя такою страхолюдиной покажем? – с лёгкой насмешкой повторяла княжна Марья, усаживаясь рядом с ней и промокая кружевным платком её слезинки, которые быстро сохли в дружеском тепле. – Поглядят сваты на тебя да и убегут. А не убегут, так жениха напугают, докладывая, какая у него невеста краса писанная. Вот уж тогда ему впору рыдать будет! – она засмеялась своей же выдумке, и следом заулыбалась невольно княжна Варвара, и, не сдержавшись, наконец, тоже прыснула.
– Ну вот, другое дело! – принимая деловитый вид, княжна Марья поднялась, оправляя широкий подол богатого сарафана, и повлекла за руку подругу. Пора было примерять наряды, выбранные матушкой для завтрашних смотрин и прилежно разложенные и развешенные девушками в их рукодельной большой горнице, на самом лучшем свету. – Эй! – крикнула им княжна Марья. – Подайте отвар ячменный48, живо! Да васильковой воды, и надошнику! Будем, Варенька, красоту наводить.
К ним уже поднимались матушка с Анной Даниловной…
Сваты прибыли к назначенному часу. Снизу слышались громкие голоса дружных чинных взаимных приветствий, шаги по сеням в гридницу, и там уже – выделяющийся особо мерной звучностью голос свахи, рекущей присказками, как велит обычай. Наверное, говорила она что-то для всех смешное, потому что, под общий мужской смех, послышался шутливый перекрывающий всё ответ ей князя Василия: «На свашенькиных речах хоть садись да катайся!»
Едва дорогие гости пересекли порог, тут же наверху у княжны была отворена настежь дверь, и ключница, опытная в таких делах, на цыпочках ступая по лестнице, чутко слушала, что делается внизу, чтобы вовремя вывести невесту. Когда гости расселись и испили мёду, и отведали пирожка сладкого в степенном молчании, девушки княжны завели неспешную песню, в которой иносказаниями говорилось о красоте и уме невесты. Заслышав это, сваты должны были начать речь о ней.
Как полагалось от веку, они подозрительно переспрашивали, так ли хороша невеста, как поётся. На что, опять же обычаем, отгонять всякий сглаз, порчу и недобрые иные чары призванным, родители скромно промолчали, а сватья, посажённая мать, принялась стати её принижать, как бы заранее упреждая сватов об её недостатках, и винясь за то перед ними.
«Всем невеста наша хороша: ходит скорёхонько, только косолапит, да припадает на ногу; смотрит мило, да глазок один на кузню, а другой – на овин; без работы не сидит, да рука тяжеловата – что ни тронет, всё развалится. Что же скажете, сватушки?».
Наверху разнаряженная ключница заглянула, раскрасневшаяся и вне себя от волнения, в светлицу с громким шёпотом, чтоб готовились, вот-вот невесту потребуют. Княжна Варвара, сидевшая, застыв недвижимо, всё это время в первом уборе, вздрогнула, ахнула и умоляюще вскинула взор на неё, потом – на старательно завершающих песню девушек, и, наконец, на верную подругу свою. Княжна Марья приложила ладошку к сердцу, и сама едва не дрожала. Но долг подругу подбадривать помог ей перебороть оторопь свою. Выдохнув, она осенилась знамением, с воодушевлением помогая той подняться, и, с помощью девушек, поправляя на ней наряд и всё богатое убранство…
«Ну что ж, коли так! Много выбирать – женатым не бывать! – отчётливо и громко отвечал воевода Басманов. – Вы видели сокола, покажите ж нам сизую голубку!».
Поднявшись и обведя взором весь стол, княгиня встретилась глазами с Ариной Ивановной, легко кивнувшей ей с улыбкой, и обернувшись к сидевшей с краю нянюшке, велела ей пойти за Варей и привести к ним сюда. Сама отошла к поставцу, где готов был уже серебряный поднос с чашею, и стояли несколько чаш других, полных кувшинов и братина.
Сверху раздалась новая песня, все молча смотрели в проём двери. Песня медленно приближалась, спускаясь по ступеням вослед ведомой под руки невесте. Став на пороге, она осталась одна – провожатые отступили. Она стояла, с перекинутой на грудь косой, перевитой лентами, смиренно сложив белые руки с вышитым золотыми шелками платочком и опустив в пол глаза, занавешенная невесомым белым паволоком, сквозь который виделась она точно фарфоровая, не живая. Сердце билось у ней в самом горле, ещё миг, и она вздохнуть не сможет, ноги подкосятся, и она упадёт без памяти и сил… А они всё смотрели и смотрели на неё, и минута эта помнилась ей вечною пыткой отчаянной робостью перед ними всеми.
– Варенька, подойди, пройди к нам! – ласково поманив её рукой, позвала княгиня.
Помня наставления Анны Даниловны, она медленно судорожно перевела дыхание и шагнула, потом ещё, и, с немыслимым облегчением поняв, что не падает, медленно и плавно дошла до середины гридницы. Поклонилась всему столу поясным поклоном, коснувшись краем платочка в руке дубового пола, и также медленно и плавно распрямилась, по-прежнему не поднимая начернённых бархатных ресниц.
– Повернись, душенька, покажись, какова ты красавица! – попросила сваха. Княжна так же медленно и плавно, точно в танце, поднимая руки в пышных длинных рукавах, дважды поворотилась вкруг себя, вскружив трёхаршинный подол, и снова замерла перед ними. Она радовалась тому, что ей полагалось держать голову чуть склонённой, потому что кокошник с очельем и подвесками казался тяжёлым невыносимо… Как и бусы в несколько рядов, и атласный сарафан-однорядка, с его широкими, расшитыми сплошь самоцветами, жемчугом и битью каймами и жёсткими парчовыми вошвами49. Но груз этого всего одеяния до полу был и кстати также – ей было так легче устоять ровно на высоких каблуках башмачков черевчатых, узорно теснённых…
– Подойди сюда, доченька. Поднеси гостям дорогим доброго вина.
Повинуясь, она пошла на голос матери, и там, возле поставца, упоминая, как накануне вместе с нею и нянюшкой выучивалась сему искусству, сто по сто чаш наполнивши и сто поклонов с подносом отбивши, заложила платочек за вышитый наруч пышной сорочки, и подняла указанный кувшин. Мать кивала ей, подбадривая взволнованной улыбкой, и скоро руки её перестали дрожать, и полностью погрузившись в свои старания, она даже несколько успокоилась.
– Рука дороже подноса50! – негромко одобрительно пророкотал воевода Басманов, рассматривая её вблизи, тоже улыбаясь в густую волнистую полуседую бороду. Ему первому поднесла она с глубоким долгим поклоном полную чашу. Приняв чашу, он отпил, а княжна, снова поклонившись, направляемая свахой, отошла за другою чашей, для будущей свекрови. Арина Ивановна поблагодарила её приветливо, и ей понравился этот на удивление мягкий певучий голос, и очень захотелось посмотреть на неё, но этого пока что было нельзя сделать… Обнеся таким образом установленной очерёдностью отца, боярыню-сватью, двоих молодых сватов, княжна обратилась к матери с полупоклоном: – Матушка, присядь за стол, позволь тебе послужить…
Потом княжна опять воротилась на середину палаты, уловляя довольный шелест голосов. Княгиня сказала ей идти покуда к себе, но прийти снова через малое время. А пока что позвать прислугу – пусть несут кушания.
За порогом её сразу подхватили под руки, всячески уверяя, что ладно прошло дело, и помогая подниматься по ступеням, поддерживая длинный подол. А княжне думалось, не выдержать ей переодевания и нового испытания скорого… «Марьюшка! Дай водицы студёной быстрее…» – только и промолвила она, повалившись мягко на постель свою. Но её подняли, уговаривая крепиться и поторапливаться.
В этот раз было на ней поверх ферязи аксамитовой богато расшитое бобровое ожерелье-оплечье, на ногах – сапожки бархатные, а на голове – вышитая, бархатная тоже шапочка, бобром отороченная, а косу обвивала нить жемчуга. Паволок был тоньше первого, и, ниспадая сзади из-под пушистого околыша почти донизу, спереди прикрывал лицо её как бы незримо почти. Как не была княжна окована смущением и трепетом, а восхищение их не приметить не могла, и это, конечно, её вдохновило.
На сей раз к ней приближалась сама сваха, с намерением, взявши под руку, пройтись вкруг горницы и побеседовать кратко. И, хотя Анна Даниловна растолковала, про что вопросы могут быть и как отвечать следует, княжна всё равно очень испугалась…
Остальные все кушали и на них поглядывали. А княжна обмирала не так что понять и невпопад ответить, или промедлить слишком, или, наоборот, выпалить через чур спешно… Или, над словами раздумывая, задеть каблуком подол и споткнуться… Вот уж позорище будет!
Но милосердная сваха водила её неторопливо и спрашивала о всём самом простом: каковые кушанья умеет стряпать, какие узоры более прочих вышивать ей нравится, какую пору в году любит среди других и за что, как о подругах своих мыслит, а как – о молодых людях знакомых. Все ловушки подобных разговоров княжне были ведомы стараниями Анны Даниловны, и она отвечала степенно, скромно и разумно, выказывая сведущность и в домовом хозяйстве, и к художествам рукоделия понимание, и к чудной красе мира, Богом сотворённого, неравнодушие, и к приятельницам суждения только похвальные и снисходительные, а к молодцам – неведение, ведь добродетельной девице не пристало водиться ни с кем из них, кроме братьев родных, так и суждений об них быть у неё не может, а к родительскому мнению прислушивается. Ну, и по писаниям древним немного прошлись, и тут княжна обмерла не раз снова, едва не перепутавши всем известных мужей великих, отшельников и подвижников. В висках заколотилось и зашумело, она похолодела вся, а только что было удушливо-жарко. Но то ли она всё же не ошиблась ни разу, то ли сваха пожалеть её имела все намерения, но по прошествии некоторого времени та вернулась за стол, кивнув удовлетворённо княгине и князю. Её же снова отправили переодеваться, на сей раз – в последний.
– Ой, не могу, путается всё… Не чаю пережить день этот, Маша! – причитала несчастная княжна, покорно предоставляя себя ловким хлопотам девушек и подруги, украшающих и обряжающих её. – Нешто матушка то же терпела?
– Дай-ка личико обмахнём да подбелим ещё, и губы заново… набалсамим51! Всё порядком будет, не усомнись. Сама подумай, всё уж сговорено, так что это испытание твоё только из обычаев наших производится, не из прямой тебя проверки же! Даже ежели чего ты и не совсем ладно сможешь – не страшно это, они приехали с добрыми намерениями, взять тебя в семью хотят непременно (так и нянюшка сказывает, и Федосья Петровна!) и не станут тебя судить строго!
– Ой, Маша, когда б так и было!.. И всё одно, опозориться боязно, – и княжна молилась опять Заступнице. – Я-то сама ничегошеньки и не замечаю, и не вижу… Никого не разглядеть мне там… Боярыня Басманова не злою кажется, да только всё едино страшно мне! Отец у них суров дюже, сказывают…
– Уймись, Варя, свет мой, немножко нам потерпеть осталось, а ты у нас – умница, как есть! Ну, ступай, с Богом! – и княжна Марья накинула ей на плечи соболью шубу, сверху шелковую, персидского дивного узора «огурцами», сопровождая до рук няньки и ключницы. Прежний паволок заменили на плат узорный, поверх коего венец тонкий обручем одели, и с него уж на лицо опустилась нежная коротенькая занавесь…
В этот раз девушки завели песнь о том, какая невеста послушная дочь, и родителям – радость и утешение.
Позволив остальным полюбоваться невестой положенное время, воевода Басманов, пересевший от стола в отдельно стоящее кресло, поманил её рукою и просьбой подойти е нему. Княжна подошла, поклонилась, придержав длинные полы шубы пальцами в тонких блестящих кольцах, и ожидала его слов с низведённым взором.
– Порадовала ты нас, дочка, видом своим цветущим, нарядным, глазу приятным и душе, походкою лебяжьей да подношениями величавыми и обращением достойным. И свашеньке угодила ты, как видно, беседою. Я ж долго не удержу тебя, а испросить хочу вот чего. Как по-твоему, что главное в жене для мужа? Что прежде оценит он – красу, и младость здоровую, иль добронравие, и домовитость жены, что всякому видны и в дому её, и на миру? – воевода смотрел пристально, от пронзающего пристального взора его хотелось спрятаться, от рокочущего требовательного голоса пробирала дрожь, даже когда он, как сейчас, сдерживал его мягкостью и вниманием. Княжна смутилась было очень, ощутивши себя уже виноватой как бы, слабой, совсем глупой и ни в чём не разумеющей, и земля поплыла тихонько под нею…
– Дочка, не страшись, – видя и понимая переживание её, воевода улыбнулся глазами, чуть подавшись вперёд и заглядывая в её опущенное в смятении и растерянности лицо, мановением руки приглашая её говорить, – а поведай, в чём видишь ты главный долг жены перед мужем?
– Господин Алексей Данилович, я… – пролепетала она, стискивая в руках платок, и кашлянула невольно, и тут обругала себя за то, что, оробев перед будущим свёкром, самое простое из всего забыть умудрилась! От радости она не сдержалась и вскинула на него глаза, всего на мгновение, и затем молвила отчётливо: – Краса, и младость, и добронравие, и домовитость жены, что видны всякому – любому мужу должно быть приятным. Но превыше всего то, чего есть в ней внутри – верное сердце. Верность и благочестие – вот главное для мужа в его жене… Не спроста же говорится: «Не тот счастлив, у кого лари добра, а тот, у кого жена верна». О такой жене славная молва, и через то – мужу такой жены честь, и добро, и счастье между всеми сотоварищами и людским миром.
– Ай, славно! Славно как, верное слово! Выпьем же по чаше! За здравие хозяев дорогих, за здравие княжны Варвары Васильевны! За здравие дорогих сватов! – загомонил весь стол, и, обойдя его, княгиня, гордая дочерью, подошла и, взяв её ласково за плечи, с благословением отпустила.
Смотрины завершились поклоном княжны собранию и выходом её из горницы.
«А иному будь жена хоть коза, лишь бы золоты рога!» – веселила всех захмелевшая сваха, и дружный смех отвечал ей.
Внизу пировали до вечера, а уже завтра, не отлагая дела, решили собраться на сговор.
Княжна и сама была собою довольна, но в непомерной усталости от перенесённого первым делом расплакалась, повиснув на шее подруги, и размазавши по щекам все румяна и белила.
На другой день собрались у Сицких все давешние, да ещё брат старший Юрий приехал с женою. Её отправил сразу наверх, к княжне, а сам знакомился с Басмановыми и сватами-Плещеевыми. Ему надлежало быть нынче за свидетеля от семейства, как дойдёт до скрепления рядной росписи52.
Покуда заседали порядком, покуда решали, когда быть венчанию, кому какой чин свадебный определить, кого позвать и чего сколько для пира свадебного припасать, пробежало полдня. Мороки было много, особо с тем, когда венчаться. До Рождественского поста всего-навсего месяц оставался, как-то сомнительно было успеть управиться, да и некоторые из почётных гостей, коих не пригласить было невозможно, находились по назначениям служебным, и, дабы отпущенными быть в Москву на свадебную неделю, должны были упредить в том государя очень загодя, чтоб на время их отсутствия, с дорогою в оба конца считая, была им назначена на местах замена… Взвешивали и так, и этак, и всё же решили не поспешать с таким важным делом. Сошлись на зимнем мясоеде53, да чтоб не в самую февральскую стужу пришлось, учредили пока что обождать неделю после Крещения, и в первую же субботу – честным пирком да за свадебку. Передохнув и освежась мёдом с закусками, подступили к приданому и кладке.
После зачитывания долгого списка добра и рухляди54 была значительная приписка о даваемых за княжной Варварой сельце Богоявленском да трёх деревнях тамошних с Тогуновского краю Переславской губернии, в придачу с собою холопов дворовых троих и девок теремных рукодельных двух. То было щедро весьма, и Анна Романовна с Юрием было засомневались накануне, надо ли земли отдавать так много, когда у них сынов четверо ещё. Но князь Василий передал им в успокоение уговор свой с Басмановым, что семейство их ничего при том в доходах не потеряет – по последним сведениям, из казанской ссылки вернутся не все их ярославские соседи, и воеводе Басманову уже сейчас известно доподлинно, что останется по некоторым из князей уже к лету беззадщина55, и при умелом подходе можно будет распорядиться ею в свою пользу, с государева дозволения, разумеется. Кроме того, даёт Басманов за сыном кладкой свою Елизаровскую вотчину в полное того владение, как только семнадцать ему исполнится весною, и сулит помочь устроить сбыт лесных товаров, коими богаты переславские имения Сицких, через государев торговый путь. Княгиня Анна, почитающая более журавля в небе синицу в руках, только качала головой. Но князь Василий, вполне будущности доверяясь, снова брался урезонить и её, и прочих родичей примерами тех же Пронских, и Телятевских, и Трубецких, и даже Тёмкиных-Ростовских, что, под великим князем Владимиром числясь, государевой дружбою, как и службою, не пренебрегают, и, в земщине оставшись, различий меж собою и государевой опричниной тем не чинят. Посетовал только на переменчивость судьбы, глянув на образа и осеняясь знаменьем, и гадая про себя, которым из опальных соседей не повезёт больше прочих – Ушатовым, Засекиным, Троекуровым, Алёшкиным, Шаховским56 ли… Кто знает, каким мерилом государь теперь отмерит вину каждого, и которые разделят участь Хилковых и Шереметевых, покрошенных, считай, в корень, за былую супротивность, а больше – супротивникам главным царским потакание…
Наконец, и это было улажено. Настало время рукобития. Торжественно поднявшись напротив друг друга, оба отца предоставили жёнам обернуть каждому десницу загодя приготовленными вышитыми платками, и с размаху ударили по рукам. После с крепким рукопожатием и пожеланием от воеводы, чтоб «наш сын был между нами общим сыном и помощником, а дочь ваша была бы общей дочерью и нашей послушной слугою», договор свадебный скрепили. Отец Феофан, тут же присутствующий, всему делу был необходимым свидетелем и к росписи своей рукой приложился. И уж на закате сели пировать, позвав к столу невестку Катю и брата Васю, как уже большого. Младшие Сицкие бесновались, отбиваясь от няньки и силясь подглядеть всё снаружи в окна.
Княжне на этом застолье появляться не полагалось, чему она была рада несказанно, и откушала у себя в светлице. Прислуживала ей Татьяна. Уйдя с подносом, снести в кухню посуду да чаю с пряничками боярышне приготовить, она обещала выспросить там чего-нибудь о сговоре. Дворовые ведь завсегда многое слышат и видят про господ… Вернулась бегом, без чаю и жутко всполошенная. Вести, что вместе с княжною в дом Басмановых отдают кой-кого из дворовых, вмиг облетела всех. Гадали теперь, кого ж именно. Само собой, бессемейных, рассудили они, особливо это девок касалось, и одну уж точно назначили – её, Татьяну, поскольку сирота была с недавних пор, и в отчем дому её ничто не держало как бы. Приданного у ней нету особого, кроме того, что княгиня от щедроты душевной пожалует, да и за дочерью приглядеть будет всё ж кому на новом поселении. В товарки ей, и на том сходились все, будет Нюша, не иначе, ведь у батюшки её ещё девок по хозяйству четверо, да невесток две, и без сожаления особого по согласию общему старшую он отпустит от себя, глядишь, там, на селе, скорее и замужем окажется, чем в городском боярском тереме всеми днями сидючи за работой. Татьяну же волновало, правда ль то, точно ли ей с княжной ехать.
– Танюшка… – выслушав новости, проговорила княжна, веля ей рядом присесть, – ты из дому не хочешь, что ли?
– Да что ты, голубушка, что ты, Варвара Васильевна! Напротив, боюсь, что напутали они там, и не обо мне речь, а мне бы с тобою хотелось…
Облегчённо всплеснув руками, княжна и сама возрадовалась, и обещала точнёхонько про то нынче же у княгини выспросить. Такое известие показалось ей самым пресветлым за последнее время, она даже разулыбалась, уже воображая, насколько с наперсницей такой жить в чужой семье легче и приятнее, конечно. Может, поэтому ей кое-как удалось заснуть к полуночи…
Так многое княжне под конец службы упомнилось, будто целую вторую жизнь она проживала после сватовства. А сегодня в купальне натирали её мягким овсяным тестом, замешанным на липовом цвету, мыли волосы хлебным мякишем, полоскали в семи водах, с приговорами, обливали настоем берёзовым, да мятным, да, напоследок, медово-ладанным. От сглазу в доме всём кропили пороги и личины оконные хвойным веником и крестили свечами, на Троицу из церкви взятыми. На ступенях же, и вкруг её горницы сыпали помалу маковыми зёрнами, чтоб и тут нечисть не смела сунуться.
– Не знаю! И так и так загляденье…
– Да нет же, ты лучше глянь! – в полном изнеможении княжна Варвара снова взяла с подноса серёжку-голубец с коралловыми камнями, в серебро оправленными, и приложила к ушку, а на другом висела, вздрагивая от сердцебиения, жемчужная двойчатка.
В двери заглянула княгиня, пригрозивши враз обрядить её по своему слову, а их всех выгнать вон, ежели этак будут мешкаться – батюшка Феофан тут уже, стол накрывают вовсю, Никита Романыч с Юрием поехали Анну Даниловну встречать, а у них невеста доселе в одной рубахе и не причёсана!!! И правда сказать, нескорое это было дело – длинные локоны Варвары Васильевны расчёсывать, да в сорок прядей пышну косу с жемчужными понизями вить.
В Кремле этот большой воскресный день проистекал в пышном праздничном торжестве многолюдного сборища, как всегда.
После собора, почти два часа проведя в беседах благочестивых с приглашёнными патриархами и почтенными святыми старцами, поздравивши их ещё раз и оставив располагаться на митрополичьем подворье, государь отправился к царице, где по случаю Рождества Богородицы собирала она званый обед, и было уже за столами множество боярынь, княгинь и их знатных родственниц. Были и оба царевича со своими свитами, и брат царицы с женою. Князь Сицкий тоже приглашён был, и как один из наставников царевича Ивана, и как отец, дочери которого сегодня предстояло обручение, и от царицы он должен был получить некий подарок к этому событию.
Царица Мария, оживлённая более обычного, хотя и не так, как на охоте, вид имела милостивый, много улыбалась и мужу, и гостям, и даже, как Федьке почудилось, ему. Ничего доброго от этой к себе перемены Федька, понятно, не ждал. Приписывал её настрой прибытию ко двору, вместе с гонцами от князя Темрюка Айдаровича, певцов и игрецов с отчизны царицы, принесших с привычными ей с детства звуками печальных протяжных песен и ярких горячих плясок будто бы сладкий привет.
И сегодня царица приглашала государя разделить с ней удовольствие досуга и, оставшись наедине, выслушать намеренно для него сочинённое и разученное лучшими музыкантами Кабарды сказание об святом князе Искандере Невском… С огромным любопытством государь соизволил согласиться. Тогда царица Мария, просияв подобно звёздной молнии в синих вечерних небесах, испросила дозволения самой взять в руки маленький апэ-пшынэ57и присоединиться к музыкантам, чтобы задавать им лад, и порадовать его своим искусством. С улыбкой государь одобрил и эту её просьбу. А пока захотел послушать, каковы её новые подручные мастера веселья. Царица громко хлопнула в ладоши, приказывая их позвать, а государь пожелал себе вина, и тем повелел всем присутствующим тоже веселиться и угощаться хмельным.
– О Воине-богатыре нам спойте! – взмахнув крылом рукава бордовой ферязи шелковой, серебром-гранатом дивно изукрашенной, велела царица голосом властным и звучным.
Песнь о Великом воине, некогда, в века незапамятные, сокрушавшем сонмы врагов и горы воздвигающем, оплакивающем гибель друзей, и свои сомнения в одиночестве, восхваляющем красу возлюбленной, и безудержно празднующем победы, предпочитающем всегда муки и смерть бесчестью и предательству своей правды, зазвучала на малознакомом языке предков горских князей. Но и без слов, кажется, была внятна всякой чуткой, бесстрашной, огненной душе, в коей в самом деле жив воин.
– А ведь не плоше будут наших скомарей, а, Федя? Есть в том игрании и пении и плясании, повествующих нам о потехе, о мирском, и о святом, о подвигах и славе, лекарство от кручины! – молвил Иоанн склонившемуся к нему с чашею Федьке, и накрыл своею ладонью белую руку сидевшей рядом царицы.
Федька прислуживал ему, всё подмечая. И этот государев восторг, всколыхнутые огненные вихри были видны ему тоже…
Все эти басмеи и свирели, балабаны, зурны, пшынэ-дыкуакуэ и шичепшины, харе и апэ-пшынэ, схожие видом с бубнами и рожками, барабанами и домрами, с гуслями и дудками, смыками и скрыпицами, и звуки издавали им подобные, а всё ж являли союзно с голосом певца картину отличную от той, что привычна была собранию. И от бесшабашного лихого скоморошьего пляса, и от хороводного беззаботного веселья, от неторопливого торжественного хора какого-нибудь шествия, и от плакальных нежных песен. Не было это и ненавистным всякой русской душе горланным хриплым воем и гнусавым крикливым треньканьем, порой сопровожадющими стойбища степняков… И струнный перелив начинался тонким ручьём, сплетаясь с вступающим издалека как бы дробным стуком копыт, вызывал затем и звон скрещенных сабель, и страстную мольбу небесам об удаче, и в полную силу виделся гром битвы, эхом вторили ему с невиданной быстротой вскрикивающие струны и протяжные возгласы им в строй… А барабаны и дудки в руках музыкантов, сурово сосредоточенных, как и певец, умолкающий время от времени, сливались уж в один непрерывный грохот… Неистовая и неудержимая сила этого наигрыша, этого вольного сильного напева пугала робеющих гостей чужестью и напором, мнившимся чуть не диавольским, и они сидели, замеревши, в послушном молчании. А государь, подавшись вперёд, свои зрелища в том наблюдал, трепеща ноздрями, горящим взором пронзая музыкантов и устремляясь в беспредельную даль, забывшись в сердечном остром веселье. Царица Мария, сжимая рукояти на поручнях кресла, казалось, удерживалась, чтоб не встать сейчас же и не ринуться перед ним в танец. Право сказать, положа руку на сердце, Федька и сам в смятении находился, до того несносно было стоять недвижно, никак не дозволяя себе выказать обуревающий телесный голод… Точно разгорячённый жеребец на жестокой привязи, стреноженный, он рычал внутренне, и грудь его размеренно тяжело вздымалась, а рука стискивала крыж отсутствующей сабли. И вот, достигнув всевозможного громкого слияния, выдержав самый протяжный напевный крик, и голос и игра оборвались. Тишь оглушающая повисла. Федьке показалось, что он слишком слышно дышит.
Музыканты стояли в глубоком поклоне. Царица Мария смотрела на государя, ожидая его слова, уверенная, что сумела угодить мужу. Так оно и было. Государь выразил большое удовольствие и велел щедро наградить тех, кто доставил его душе сегодня настоящую радость.
Государь поднялся, все тоже встали. Подозвав Сицкого, он и Федьке указал стать рядом с ним перед собою и царицей. Пир завершился поздравлениями им от царственной четы, преподнесением завёрнутого в шёлковую парчу подарка царицы для невесты, и – победоносным её взглядом на кравчего, которого государь отпускал до завтра от себя.
Усталость и муторность вдруг напала на него, ехать никуда не стало охоты, и одеяние, с утра носимое, показалось уж не тем и не чистым вполне, пыльным каким-то… Ожерелье жемчужное душило, ворот мешал вздоху. Удержав Сицкого по пути к дворцовому выходу, он повинился, что в сегодняшних беспрерывных хлопотах не мог иметь обручального кольца при себе, потерять опасаясь, а потому отправляется сейчас за ним. И присоединится к ним с батюшкой у Троицкого моста, через время самое малое. А поторапливаться было надо, чтобы, к воеводе ещё заехавши, где остальные собирались, поспеть к назначенному часу.
– Сеня! Дай-ка мёду, что ли… Готов? Вижу. И захвати ещё себе переодеться – ночевать у батюшки будем снова.
– Фёдор Алексеич… Случилось что? – принимая пустой ковш, Сенька участливо склонился к господину, сидящему с неподвижным ликом. А им ведь пора двигаться, коли господин желает ещё полностью переоблачиться и власы освежить до свидания с невестой. Хотя, по мнению Сенькиному, и так было замечательно.
– Да нет. Всё взял? Сапоги белые, главное. И кафтан становой белый, аксамитовый, что с серебром и чернью.
– Мы же вчера ферязь лазоревую, вроде…
– Делай, что сказано! Да, и к нему тогда уж – рубаху новую, ту, розанового шёлку атласного. Беги! – он вскинулся, забирая в поясной кошель ещё кое-что для себя. И фиал свой драгоценный, убывающий с каждым днём… Конечно же, обручальный перстень он вчера ещё отдал матушке, чтобы та сберегла его по правилам и разумению до самого часа урочного. И гребень свой сандаловый. Более никому никаким себя чесать не дозволит, тем паче – свахе.
– А пояс какой тогда, Фёдор Алексеич?.. – Сенька высунулся из платяной коморы с большой седельной сумой и ворохом кушаков через руку.
– Этот. Дальше сам соберусь – седлай Атру, и покровец длинный накинь, синий! Прочий убор – серебро.
Выехали.
Костры караулов миновали.
У въезда на мост подождали немного подъезжающий отряд во главе с воеводой Басмановым и князем Сицким, едущими рядом в стремя.
Навстречу то и дело попадался люд разный, их завидевши, снивающий шапки и низко кланяющийся, поспешно убираясь с проезда на обочины.
Осень, пока что ещё ясная и тёплая, окрашивалась по посадам всё гуще червонным и золотым, и закат наливался спелым яблоком. Отовсюду веяло дымками жилищ, в остывающем к ночи лёгком мареве дышалось легко и приятно… В другое время Федька отдохнул бы красотой этой, прогулкой пользуясь. Но сегодня, сейчас не давала ему покоя нутряная грызня. Конь, чуя его непокой, утробно порыкивал, косил взором и принимался припадать на задние ноги, пританцовывая под ним. Федька бранил его ласково, выравнивая ход, по атласной шее гладил и трепал, унимая тем и своё сердечное нытьё.
Дома их уже вовсю поджидали. Арина Ивановна, похудевшая и спавшая с лица от треволнений и непривычной ей городской бытности, поздоровавшись с гостями и просив их располагаться, тотчас кинулась обнимать сына, и к груди его припадала так, словно его у ней отнимают навеки.
– Матушка, что ты, что ты, живой я и здоровый, – он ласково, смехом, отстранялся, мягко обнимая её плечи. – Всё ль готово, как я просил?
– Всё, всё, Феденька, в бане там…
– Арсений! Пошли скорее… Ты к гостям ступай, матушка, мы сами управимся… Только корицу с гвоздикой58 вели мне истолочь в молоке.
Освежившись дынным пресночком, на гульфяной водке59 вымешанном, ополоснувши кудри простоквашею, отчего они заблестели чистым шёлком, окатившись из рук Сенькиных после жаркого настоя мяты с донником студёной водицей колодезной, обсохнув чуть, в накинутом банном тулупчике бегом воротился в дом, в спальную комнату, где теперь проживал Петька с дружком Терентием, спавшим тут же у него в ногах… Там уже разложен был в порядке весь наряд, и принесено матушкино зеркало, и стакан заказанного молока.
Опасался Федька, что не успеть волосам как следует высохнуть, а дорогою примнутся под шапкой, и через то не выйдет княжне Сицкой показаться во всей красе. Хотел уж посылать Арсения за горячими камнями и ступицами железными, но успокоен был: все ещё угощаются, трогаться пока не торопятся, поскольку от Сицких передали через человека, что сватья Анна Даниловна припозднилась с выездом, после вчерашнего застолья прихворнув, видимо. А без неё, понятно, всё равно не начнут.
Задержка эта, сыгравшая Федьке на руку, доставила, однако, беспокойство Арине Ивановне – пришлось ей питьём обносить стол по второму кругу, и настоятельно всех просить закусывать, дабы к помолвке не заявиться нахороше весёлыми.
– А где ж жених наш? – спросил, беря горстку квашеной с клюквой капусты, Захар Иваныч. И тут все разом вспомнили про жениха, и стали его требовать к столу тоже.
– Снаряжается всё!
– Краше невесты будет – неловко получится!
– Поди, Петя, отыми у брата румяна!
Все загалдели и смеялись этим беззлобным шуткам над вечной Федькиной о наружности своей заботой.
Его появление на пороге гридницы, уже в накинутой на плечо лёгкой собольей шубе и с шапкой в руке, встречено было восторженным общим гвалтом. Стали подниматься из-за стола, громыхать лавками и стульями, допивать чарки, выходить в сени. Пора было ехать.
Дворня высыпала провожать, любопытствуя на такую большую, шумную и богатую хозяйскую ватагу, что во всё время в московском доме воеводы ещё не случалась. Любопытные были и на улице, конечно…
Федька отвёл мать под руку и усадил в возок, рядом с Анастасией Фёдоровной. Там же, у них в ногах, в кипарисовом сундучке, лежали подарки невесте. Совершенно очумевшему от счастья Петьке, наряженному, как никогда прежде, позволили верхом ехать рядом с братом, с тем наказом, что будет за конём следить и дорогой, а не только всё на Федю любоваться.
«Случилось что?»– крутился в голове участливый Сенькин вопрос. Ничего, вроде, и не случилось, ничего, чтобы ему так сникать, а теперь – беситься заново… Что такого, в самом деле, что государь нынче у жены ночует, он и прежде навещал царицу не редко. Что, если доставила она ему отдохновение души стараниями своих музыкантов. Разве не должен он за государя радоваться, его видя здоровым и помолодевшим будто, будто на время тяготы и заботы свои оставившим! Должен. И… радуется. Так откуда же жалит и жалит прямо в самое нутро проклятая гадина, как её имя, как изловить её в себе, чтобы изничтожить? И чтобы теперь не об жгучей красоте царицы Марии думать, не горделивый вид её и голос звучный поминать, а особенно – тот взгляд, надменного торжества полный, которым проводила его… Федька, чтоб не застонать, прикусил губу.
– Что, забирает помалу?
Федька очнулся от негромкого отцовского вопроса. С некоторых пор он ехал рядом, поменявшись с Петькой.
– Да… как сказать… – Федька понял, что выдал себя, уединившись с думами, но тут сообразил, что его возбуждение приписано, конечно, сегодняшнему предстоящему событию.
– Это хорошо, Федя, когда забирает, славно. Пока молод да прыток, самое то – по делам сердечным потревожиться! Поди, и княжна изводится, участи своей дожидаючись! – со значением воевода ему подмигнул. Федька усмехнулся в ответ, поймав отцовский пристальный взгляд. Истолковав его по-своему, Федька всполошился, что до сих пор не удосужился о важном с воеводой переговорить.
– Вчера у митрополита, вишь, не выставили нас вон. Стало быть, решил государь, чтоб назавтра вся Москва знала, об чём промеж них с Афанасием речь шла… Так ведь?
– Хм. Выходит, что так. Государь в том оплошек не допускает. Упреждает некоторых, стало быть…
– Всё минуты удобной не было, батюшка, тебе отчитаться. Сказать ли сейчас?
– Успеется. Не об том теперь думай. Подъезжаем уж почти! Хоть за усердие хвалю, сын.
Федька кивнул, глубоким вздохом утихомирить стараясь разогнавшееся сердце.
«Об Искандере Невском», значит! И сама в белые рученьки балалайку возьмёт, и представлять перед Иоанном будет путь деяний того, кого Иоанн так чтит… А после, быть может, и на иное при нём осмелится, об чём слухи по дворцу ходят: в кабардинское платье мужское одевшись, стан тонкий красным поясом перетянув, кинжал привесивши и косы смоляные из-под шапки выпустив, танцевать ему станет, деву-богатыря изображая, о коей их сказание есть древнейшее. А девки царицыны, пляске этой выученные, в сарафанах горских вкруг неё, точно вкруг витязя-орла, лебедьми поплывут. И будет греметь и петь им та бесовская музыка. И взыграет в Иоанне пламень яростный, и позабудет он прочий мир, и всех прочих там… И будет сверкать победная царицына улыбка. Точно лезвие кинжала её, полосующее ненавистное ей горло кравчего! Взгляд её надменный, презрительный станет колоть его сердце, которому не велит она биться рядом с Иоанновым…
Не заметив как, он заставил коня вскинуться и ускорить рысь. Всем пришлось поспевать. Позади слышались возгласы и смех: «А нетерпелив наш жених! Ишь, очью-то сверкает! Невмочь ему с нами ползти – лететь к голубке желает!»
Федька опомнился и придержал Атру.
Нет, не с тобою сражаться я стану, царица Мария. Не враг ты мне, хоть и ненавидишь, и чаешь во мне причину бед своих, быть может. И я лгать себе не буду – твоё на то право, истину чует твоё дикое сердце… Разве виновна ты, что желаешь его себе одной только? Разве не всякая жена о своём муже так же болеет, коли не безразличен он ей вовсе? И разве я, ничтожный, порочный, в хотении блага своего всё глубже грязнущий, имею право винить тебя?! Нет, нет! Торжество твоё несносно мне, и нет в тебе благочестия истинного, а есть только твоя клетка золотая – это уж моему сердцу видно. Но нынче урок ты мне задала знатный! – Добуду и я государю лекарство от кручины! Такое, что забудет он все прежние… Массалям60 покуда.
Глава 4. «Делание умное, да жизнь окаянная!»
Москва. Дом Сицких.
Вечер 21 сентября 1565 года.
После дороги, где ни разу не останавливались и c коней не слезали, так что ног запачкать не успели, всё равно старательно топтались в просторных сенях на половиках. Федьку быстро переобули там же в белые его атласные сапожки, и он постоял, потопал каблуками, обвыкаясь, пока хозяева приглашали и провожали остальных, раскрасневшихся и шумных, в гридницу. Он вошёл последним, раскланялся, дождался себе предложения пройти и стать впереди жениховской свиты, по одну сторону, против невестиной, отдалившейся напротив. Саблю не отдавал, только шапку – ныне ему позволялось явиться при всём достоинстве… Сватья Анна Даниловна, говоря положенные привечания, поднесла ему серебряную мису воды и полотенце – сполоснуть и отереть руки, перед тем, как начнётся его с невестой знакомство. Затем то же полагалось остальным гостям, и ритуал сей проистёк в молчаливой размеренности взаимного услужения, настраивая тем самым всех на нужный лад, вдумчивый и торжественный.
Последовало подношение обоим сторонам чарок крепкого мёду, привезённого с собою сватами, самой княгиней, все снова кланялись и неторопливо выпивали, нахваливая духовитость и приятность пития, а сваха Анастасия Фёдоровна причёсывала слегка растрепавшиеся по пути Федькины кудри, едва доставая до высоты его макушки гребнем, окунутым в медовую воду, в вытянутой вверх руке, под одобрительным и хвалебным вниманием присутствующих, а он смиренно ожидал, оставаясь на два шага впереди своих, с полуопущенными глазами, и блужданием в мыслях, никак не желающих войти в единственное русло – происходящее сейчас событие. Чуял он свою отстранённость, не хотел, чтоб сваха слишком усердно его чесала и испортила бы пышную красу и без того душистых его волос странной их всегдашней прихотью всё приглаживать да приляпывать, смотрел на все приготовления вокруг себя даже равнодушно, а должно бы ему сейчас немало обеспокоиться – увидеть близко ту, с которой повенчан будет до смерти самой ведь, смотря кого первой она заберёт. Верно, мне, помыслилось без особой горечи, не сносить главы-то уж точно. Не так, так этак, а жить долго не получится, в том он был уверен почему-то… И всё ж, невеста его представлялась какой-то выдумкой бестелесною, может, оттого, что говорилось о ней много хорошего, да не виделась она ему ни разу, ни в мечтах, ни наяву. А ведь и правда, за всю жизнь свою никогда не задумался он, какую хотел бы иметь жену… Какого стану, росту, голосу, глаза цвета какого – ничего такого ему не мерещилось даже, да и вообще о женитьбе не думалось. Хоть и заглядывался на красавиц, и Дуняшка была ему всем мила, особенно как смеётся нравилось, а прелестями её и других никогда настолько не очаровывался он, чтоб себе кого насовсем возжелать, и только её всегда перед мысленным взором возрождать при любой оказии, и через то желание такою же воображать свою невесту. Может, это и к лучшему – всё едино зато теперь, какова княжна окажется, раз себя он никак не предуведомлял прежде. Таким образом он толковал себе причину своего нынешнего равнодушия среди всеобщего праздничного одушевления. Под трепетными взглядами матери, Захара, тоже приглашённого знакомиться с будущей роднёй по праву дружки, под горделивые ободрения старшин семей обеих, он принялся различать донесшуюся величавую песню, с которой, несомненно, готовились вывести к нему невесту. Зачем я слушаю, будто никогда не слыхал, что поётся на всех свадьбах, и княжеских и деревенских, спрашивал он себя, тут же понимая всею кожей, и гулом крови внутри, что до сего мига занимается тем, что из последних сил хочет успокоиться… Вон у Захара отгулял, года не прошло…
"Молодо… молодому князеньку, Феодоре Лексеичу, а понравилася… а понравилася молодая княгиньюшка, молода… молодая Варвара Васильевна!" – пели слаженные сплочённые голоса, девичьи и бабьи, и это – про него, и про его живую невыдуманную невесту. Идущую сейчас, должно быть, не менее прочих волнуясь, в своём отдельном смятении, перед его взор. А что, коли в спеси пребывает, и заведомо по рождению над ним выше себя почитает… Негодует, сердится, в обиде на них всех… – Господи! Что за дичь в голову лезет… Неужто и он этой всеобщей заразою местнической проклят сделался насквозь! Как можно столь себялюбивым являться, когда все, даже батюшка, так просветлённо смотрятся. Ни тени ни в ком заминки не заметно, так и ему надо собраться! Закрывши очи на миг, вообразил он государя своего, в тот самый день и час, когда, в его летах будучи, о свадьбе решивши уже всё, ожидал он в соборе на обручение по обычаю свою царицу будущую, пречистую и пресветлую отроковицу Анастасию, единственную любимую свою. Как, должно быть, благоговейно светилось сердце его, исполненное мирного тепла, свободное в этот миг от всякого гнева, обид, тяготы и дурных мыслей. Как с бесконечной радостью смотрел он на неё, в ней обретая спасение души своей, победу над всем грешным в себе через любовь её кроткую чая… Как не может ангел довериться чудовищу, так не может чистая душа всею собой полюбить душу гнусную, недостойную себя, а значит – милость Божия есть и на нём тоже, и благодать Его. И тяжкая десница Господняя, его царствием земным, как подвигом заведомым, одарившая, тогда не столь неподъёмной виделась, конечно… Сам не заметив как, Федька преобразился весь согласно этим мыслям, и смотрел уже неотрывно в проём дверной, в котором возникло некое светлое движение. Все также замерли в почтительном уважении к минуте этой, что только раз в жизни случается. Не было, верно, никого сейчас здесь, кто б не дрогнул внутри, каждый – своим: кто – юностью прошедшей, первой весной, сбывшейся или нет, но всё равно – желанной, кто, из молодняка – мечтанием ещё предстоящего, завидуя жениху с невестою и совершаемому над ними таинству, отворяющему путь в самую настоящую, уже не ребяческую, жизнь.
Вывели княжну, под руки поддерживая, медленно, участливо приговаривая что-то, нянька её и боярыня-родственница княгини, подружки позади толпились стайкой, и оставили, отодвинулись от неё, и всё собрание тут жениху и невесте поклонилось. Они же оба, дважды по семи шагов разделённые, стоять остались будто бы наедине. Вся занавешенная белым кружевным платом до пят, княжна на него не поднимала глаз. Он же смотрел теперь, не отрываясь, стараясь по-прежнему волнения своего не показать, да сам не замечая вздымающегося в груди глубокого дыхания, и сердца, вдруг задумавшего рваться изнутри. Княжны не разглядеть никак было – ниспадающее поверх сверкающего тонкого венца покрывало было так густо, укрывало и пышный сарафан полностью, точно снегом… Отче Феофан, знаменьем их благословивши и словесно, начало встрече утвердил. Тогда обе провожатые покрывало княжны приподняли и от лица её откинули, и сняли, оставили при себе. Но и тогда осталась она, в своём девичьем венце, под защитой тончайшего прозрачного белого облачка, ничуть красы и блеска образа её теперь не скрадывающего, впрочем… Но через то казалось, что она вся светится. От её дыхания, под нарядами пышными не заметного, мягко сверкали, переливались на ней искорки серёг, подвесок длинных, бус, наручей, шитья по нежному небесному атласу, и жемчужных ниток, густо овивающих пышную бесконечную светло-русую косу… К этой косе прикованный взором, уже очарованный до крайности богатством красоты такой, Федька было растерялся – так рьяно прихлынула кровь к лицу и тут же спала, и в голове сделалось звеняще-пусто, а также – неловко, от вожделения. Теперь им надлежало поздороваться обычаем. И оба замерли в поясном поклоне друг другу, с ладонью на сердце. Тихие всхлипы и вздохи, старательно сдерживаемые, сопровождали это их молчаливое взаимное смирение перед решением своей судьбы… Матушка тоже, верно, край плата к губам поднесла, и слёзы вот-вот покатятся, как и у всех, почитай, невестиных сторонниц… Выпрямились оба, она – всё так же чуть склонив голову, глаз не поднимая, он – напротив, сокольей повадки никак не скрывая, улыбки волнения, нежного и странного для себя, не гася. Князь Сицкий подошёл степенно, обнял его за плечи, дозволяя и приглашая к дочери приблизиться. Рукою этак повёл величаво, гордый сокровищем своим, и они пошли вместе.
Теперь шаг всего разделял их. Федьке показалось, что княжна задрожала вся под его взглядом, слишком близким, горячим и прямым, и ему захотелось тотчас сказать ей что-то очень доброе… Но говорить лишнее пока что не было дозволения, а только одно: "Доброго тебе здравия и поклон, Варвара Васильевна!", и он вложил всю внезапную жалось к ней в свой голос.
"И тебе здравия доброго и поклон… Фёдор Алексеевич…" – чуть слышно молвила княжна, подбодряемая всячески улыбками отца и матери. И вот князь Сицкий, взявши правую руку дочери безвольную в большие ладони, подержав с чувством, возложил её со всей отеческой добротой на предоставленное левое запястье жениха, поверх драгоценного серебряного с жемчугом и лалами61 широкого наруча.
Все что-то сразу заговорили меж собой, о них, разумеется, и настал черёд главного подарка. Его в небольшом резном ларчике, на серебряном блюде, под шелковой узорчатой кружевной ширинкой поднесла с поклоном Арина Ивановна. Алексей Данилович развернул рядную запись, призывая отца Феофана и всех присутствующих громким чётким обширным голосом в свидетели тому, о чём уговорились семьи касательно свадьбы, и чему, договор сей нерушимым объявляя, послужит перстень обручальный, сейчас невесте женихом даримый. Перстень был извлечён торжественно, передан в руку Федьки, а невесте сказали, как свою ладонь протянуть, чтобы, её не коснувшись, жених смог кольцо на палец ей надеть. Когда всё исполнено было, рука княжны вернулась, отягчённая серебряным жуком с ярко-синим глазом на пальце указательном, возлежать до завершения всего обряда на рукаве суженного… Их повернули на обозрение к собранию, расступившись, оставив одних, и некоторое время громко звенели гусли и бубны с колокольцами, и весело заливался рожок – то отрабатывали свой хлеб сегодняшний приглашённые песенники-игрецы… Поверх всеобщего хвалебного гомона возвысились речи свахи:
– Млад-месяц и зоренька ясная! Ни пером описать, ни в сказке сказать! А любоваться б век, себе на радость, людям на загляденье!
Согласные возгласы отвечали ей.
– А чтоб от сглазу всякого непрошенного подалее быти, налейте-ка, хозяева, по доброй всем нам чарочке! А голубей наших, куничку нашу с соболем, лебёдушку с соколом оставим покуда словом обмолвиться! – сваха лихо многозначительно подмигнула.
Так и было сделано.
Рассаживались за стол пировать; и дворня, и музыканты тоже угощены были. Поглядывали на предоставленных себе обручённых, которым сейчас давалось право побыть рядом и присмотреться друг к дружке поближе.
Княжна, казалось, совсем не дышала, и всё не могла решиться на жениха посмотреть. Её маленькая, точно у ребёнка, рука с тонкими гладкими пальчиками, невесомая совсем, тоже выглядела робеющей в своей неподвижности. Федька рассматривал теперь эту руку, как бы желая по ней прочесть всё о своей княжне, и не находил в ней ни одного изъяна, только прелесть мягкую… Вот у Дуняшки руки совсем иные были, оно и понятно – от работы сызмальства, хоть и тоже не грубые и ладные, да цепкие, сильные и загорелые, ко всему сноровистые, умело-ласковые… Жар картин вольных, перед ним тут же вставших, переполнил его, и сделал молчание дальнейшее невыносимым. Склонившись слегка к ней, вдыхая свежесть снежную с едва различаемым привкусом яблочных сладостей, он заговорил тихо, чтоб никто их не услыхал сейчас:
– Понравился ль тебе, Варвара Васильевна, перстенёк? Я ж его, видишь, нарочно сделать велел к серьгам тем, что давеча тебе подарком от меня передали. Станешь ли носить их?
Княжна заметно порозовела, и ресницы её, бархатисто, но в меру, как и брови, начернённые, вздрогнули несколько раз, прежде чем она ответила: – Подарки твои мне очень понравились, Фёдор Алексеевич, благодарствую… Отчего ж красоту такую не носить.
Тут княжна почувствовала, как исподволь, направляя мягко, увлекает её рука жениха следовать с ним рядом по свободной середине гридницы. И этак прошлись они перед всеми, за ними с любопытством весёлым наблюдающими, до печки, и там жених приостановился, послушную руку её уже более ощущая, и они развернулись плавно, как в танце величавом, и заново пошли… Довольный телесной чуткостью, лёгкостью походки её и ему послушанием, податливостью, хотел теперь Федька, чтоб невеста, наконец, на него взглянула, выказала чтобы не только одну податливость и скромность, но и настоящие чувства свои к нему сейчас. Не бывало ведь ещё такого ни разу, чтоб, на него, всего такого нарядного, глядючи, безразличными оставались, будь хоть кто. О красе своей уже достаточно он имел понятия, чтоб это в людях видеть, и какою бы сдержанной княжна не была, или не старалась быть, а всё равно себя выдаст, коли вовсе уж не каменная она и не ледяная! Только вот как же это устроить, не прямо же просить… А и почему бы нет! Всё в нём взыграло ответом на эти шальные помыслы, он остановил совместное их движение по кругу, снова склонился к ней, и сколь можно тепло, любовно, и просительно, и настоятельно, на нежное личико её глядя, шепнул: – Варвара Васильевна! Что ж не глянешь ты на меня?
Простое обращение это в смятение княжну повергло – она задохнулась даже, ресницы вскинула, да так и замерла, уставясь голубым взглядом в широкую бело-серебряную парчовую грудь его перед собой. От его близкого слишком голоса, от аромата неведомого дивного и жара, от него веющего, голову княжне повело, закружило, так что пришлось сильнее на руку его опереться… Однако отвечать было надобно, а сил поднять глаза выше, на лицо его, не достало отчего-то.
– Иль вовсе не мил я тебе как жених?
– Как ответить тебе, Фёдор Алексеевич, – переведя дух, проговорила княжна, медленно подняв на него глаза и тут же снова закрывшись ресницами, и розовея пуще прежнего, – когда не знаю я тебя вовсе… А коли батюшке с матушкой ты по нраву, так и мне… мил… стало быть.
Она не видела его, но поняла, что он, вздыхая, улыбается. Их движение снова продолжилось, и тут княжну посетило неизъяснимое к нему притяжение, дух захватывало от которого, как на больших качелях. Она поняла вдруг, что это чудесное и новое, страшное необъятностью, с нею по-настоящему происходит, и что ей самой отчуждение, приличия ради обособленность всякая в тягость стала, а захотелось ему так понравиться, так, чтобы… – тут мысли её путались и обрывались, она совестила себя и удерживала, чтоб не улыбаться в затаённости порхающего сердца, и не показаться и впрямь ему через чур простою. Однако вмиг возникшее меж ними дружественное доверие не исчезло никуда… Они прохаживались молча, полные общими чаяниями, уже связанные любопытством пылким и, конечно, взаимным любованием. Он – откровенным, смелым, она – скрытым и до крайности ещё стыдливым.
– Теперь видеться нам с тобою нельзя будет, Варвара Васильевна, уж до самого венца… Да и мне уехать в Слободу государеву придётся скоро…
Она вслушивалась в его голос, исполненный к ней уважительного стремления, и так ей удивительно было, что прежде никогда его не слыхала, не видала, а теперь вот – речи такие, об их будущем сразу… Видя в ней серьёзное внимание, Федька продолжил, и высказал внезапно появившийся замысел:
– Что, если в разлуке нашей письмецо тебе от меня придёт, с подарочками вместе? Примешь ли ты мои послания? Ответишь ли хоть словом?
Тут уж не могла княжна не улыбаться, и нет-нет да взглядывать на него. И всякий раз, не успевая целое рассмотреть, то серьгу его жемчужную замечала, то – кудри длинные тёмные, по спине ниже плеч спадающие, то – яркие губы в очерке лика, приятного неизъяснимой светящейся притягательностью… А в другой раз – в тени ресниц-стрел око глубокое и зелёное, за нею следящее внимательно, игриво даже…
– Если батюшка дозволит, отчего же не ответить мне тебе, Фёдор Алексеевич.
– Дозволит уж верно! Ведь ничего дурного нет в том, чтоб невесте своей весточку послать, да о её благополучии справиться. А чтоб уверена и спокойна ты была, что от меня самого послание, что ни единая душа его не увидит, кроме нас с тобою, запечатывать свиток стану вот этим перстнем, вглядись, будь добра: государев то дорогой подарок, печать с Единорогом, зверем Света Небесного… – и они вместе рассматривали искусно отлитый перстень с дивным Зверем на Федькиной руке, сверкающей цветными камнями в серебре и золоте. – Батюшке довериться, конечно же, ты можешь, коли надо будет – ничего в тех письмах обещаю не писать скверного, вздорного или Богу не угодного… А ещё вот что запомни. Всякий раз начинать послание буду так: "Душенька моя Варвара Васильевна!", а оканчивать буду следующим: «Суженый твой Федя". Согласна ли?
Что тут было ответить. Улыбалась уже неудержимо княжна, глаза отводила смущённо, и – кивала слегка. Ни времени не замечалось, ничего вокруг…
А гости, увидевши, что сладилось у молодых, кажется, наперво, толкали друг дружку в бока, посмеивались, перемигивались и шутили. Многие уж прилично были во хмелю, и шутки их всё чаще не для девичьих ушей делались, за что на них шутейно тоже ополчались, шикали и призывали к благопристойности… Да княжна этого не слыхала вовсе, и не видала ничего, кроме своего жениха.
Княгиня первой спохватилась, что время-то уж позднее, а гости многие так наугощались, что на конях, пожалуй, им не усидеть было. Федьку окликнули свои, нянюшка к княжне обратилась. Пора было им прощаться.
Тут княжна напоследок впервые и разглядела его, стоящего напротив.
Поясными поклонами друг друга они проводили.
Затем невеста простилась со всеми гостями, и её увели наверх. А жениха с шутками-прибаутками усадили за стол на половину молодняка, среди родичей-Плещеевых и младших братьев-Сицких. Ему налили доверху ковш мёду, и велели веселиться, как и полагалось жениху по свершении всех, венчанию предшествующих, обычаев. Захар тут же принялся обнимать его, как бывало с детства, и, щекоча усами ухо, нашёптывать свои извечные проказливые штуки. Петька, сидевший по другую руку, не сводил с брата восторженных глаз. В упоении от происходящего, и от дозволенной чарки хмельного, он не помнил себя, и на время даже перестал сокрушаться о неминуемом возвращении в Елизарово. Он виснул после на Федьке, умоляя устроить при себе, но брат остался непреклонен – три года промчатся, что и не заметишь, сказал он, вот тогда и приедешь62. А ныне ты матушке при вотчине нужнее, чем мне тут.
Наконец, и с гостями разобрались: кого развели по палатам устраивать на ночь, кого усадили в княжеский возок и отправили до дома с провожатыми людьми Сицких и теми, кто держался верхом.
Конечно же, родители невесты хотели знать, что об ней скажет Федька. Хоть это и так было ясно без слов, он, уважая обычай, выразился хвалами самыми превосходными и благодарственными.
Хотели знать также и в девичьей княжны, что и как. Княжна, сама не своя, будто бы дара речи лишённая, ни на что не обращала взора и все расспросы оставила без внимания, а когда Татьяна всё ж не унялась в любопытстве, рассердилась на них всех, выгнала из светлицы, только одну подругу Марью желая сейчас видеть. Сил великих стоило княжне Варваре перед матерью не выказать бурного радостного своего состояния, ибо чуялось, что при себе такое оставить следует, а ей выразить умеренное от встречи в женихом удовольствие, ровное и пристойное для юной девицы княжеского рода… Княгиня смотрела на свою дочь подозрительно, хоть вроде бы и поверила, что та не очаровалась сразу же до невозможности. Что не выпрыгивает сердце из души, не застит очи невыразимым бессловесным омутом, и не мечтается уж о свадьбе с такою силой, что неловко самой. «Ровное и покойное всегда хорошо, мило и правильно, а любови все есть чары вредные, от них одни страдания да глупости…» – сию материнскую присказку княжна вытвердила уже наизусть.
На самом же деле радость княжны, которую принуждена она была сдерживать и даже таить в себе, разгораясь всё более час от часу, начинала причинять ей мучения, доселе невиданные… И если б некому было довериться, то, верно, княжна бы захворала в неравной битве приличия и хотений.
Не спалось ей решительно никак сегодня! Разобрались уже ложиться, но княжна Варвара всё места себе не находила, блуждая в рубахе, с растрёпанными волосами по светёлке, и то в оконце цветное заглядывая, то – в Красный угол, непременно шепча «Пресвятая Богородица!», то бросаясь к подруге и схватывая её за руки и в глаза заглядывая.
– Вот что, Варя, давай, ты мельтешиться тут перестанешь, а то у меня голова разломилась, на тебя глядючи, – притворно строгая, княжна Марья указала ей на коврик персиянский из тёплой плотной шерсти, на котором, на чистой льняной салфетке, стыло в кринке подогретое молоко с мёдом и нетронутая корзинка с пряничками, пирожками и яблоками. – Садись-ка, причешу тебя, косу переплету… А то скоро уж всё! Уж не покрасуешься этак… Как Фёдор Лексеич, хорошо ль тебя разглядел? Небось, от косы такой обомлел сходу. Всякий обомлеет!
Княжна Варвара в ладони зардевшееся лицо спрятала, горячо подруге переча, что там у себя, при дворце обретаясь, и не таких кос он насмотрелся, наверное, что сказывают, вся прислуга там по внешней приятности особой выбирается, потому что и царь, и царица возле себя кого попало зрить не желают, а только самое наипервейшее во всём. Что царица Мария сама столь хороша, краше и быть не может, и девки у ней все одна к одной.
– Может и так. А может, и нет! Ой! Забыла давеча тебе передать, Анна Даниловна наша от боярынь постельничих царицыных слыхала, что косники теперь царица носит всегда не с одною ворворкою, а с тремя, и цки на каждой серебряны с монисто63! Нынче все боярышни такое перенимают, ежели выезжают куда, чтоб не ославиться дурёхами и деревенщиной, особливо если ко двору надо явиться.
Перемена течения разговора немного отвлекла княжну, и она даже согласилась принять кружку молока, пока подруга её старательно причёсывала, сидя позади на стульце, в накинутой на плечи яркой цветастой тёплой шали.
– Три ворво́рки? Да ещё и цки с монисто? – она покачала головой. – Не много ль на себя навесишь?.. Оно, может, царице Марии и к лицу, сообразно роду её и чину, но мне что-то сомнительно. Оно, и верно, надо знать, что наилучшего теперь носят, каков вид больше всем приятен, да не всякое ж на себя тащить!
– И то правда! – княжна Марья с горячностью подхватила. – А то без мозгов вторят всему, толком не разобравши, как с теми ж белилами меркуриальными64, слыхала? Ладно б купчихи иль посадские этак умащивались, чего с них возьмёшь, так ведь иные из княжон туда же! – она рассмеялась. – Нешто и вправду мнят, что сие им красоты добавляет? Тьфу. Портют себя только почём зря… Или так глаза насурмят, так брови наведут, точно личины на Коляду, а ещё и внутрь ока сажею напустят – видишь ли, чёрные глаза чтоб были! – что смотреть прямо страшно. Оно на Святки иль на Масленицу этак волтузятся, чтоб нечисть не признала, на гульбу и потеху, а эти дуры – в мир так вылазят! Их и родне-то не признать, разве что черти (Господь, прости и помилуй!), и правда, без оглядки тоже разбегутся.
– И ведь не скажет им никто, не поправит… Куда же, в самом деле, родня их смотрит?
– Неведомо, куда. Вообрази, коли такую размалёванную выведут на смотрины, скажем, иль к жениху?!
– Ну а вдруг это мы с тобой не смыслим ничего в порядке обличия, а прочим, и молодцам, такое нравится?
– Да? – руки княжны Марьи перестали плести в некотором недоумении. – Ну, я не знаю… Хотя, не поймёшь сейчас, что хорошо, что дурно. Вон, сказывают… – тут она понизила голос и наклонилась поближе, – теперь и парни серьги женские таскают, и каблуки высокие тож, прямо как при князе Василии в бытность, при его дворе, и что сам князь Вяземский, оружничим царским будучи, власы навивает, а бороды не носит, хоть в летах уже зрелых, усы только. И белится и румянится, говорят, на пирах если, а многие также глаза подводят тенью и губы краснят.
– Ну-у, власы навивают все, Маша, у кого они есть, даже вон батюшка, бывает… Без такого порядку, чтоб причесать медовой водицей и волнами навести65, из дому не выйдет иной раз.
– А серьги? А каблуки? А глаза крашеные?
Княжна Варвара не сразу распознала, куда это она уклонилась, а распознавши, прикусила губку в затаённом своём волнении… Княжна Марья, наконец-то, о желаемом молвила:
– А ты так и не сказала мне, каков он, Фёдор Алексеич, вблизи? Так-то мы все его сегодня посмотрели, но – с отдаления… А ещё иные, знаешь, бывает, брови и кудри подклеивают, для гущины, а под кафтаны на плеча подбивают накладки такие, чтоб, значит, осанистей казаться.
– Нет ничего такого в нём, об чём ты говоришь! Может, и не как следует я его видела, но не показалось мне никаких прикрас в нём, кроме природой данных, и уловок никаких я не почуяла! Всё у него всамделишнее! Ну а что пахнет от него чистыми розанами, да сандалом, да пряностью неведомой – так это ж разве позорно, не хорошо это разве?!
– Так что ж ты сердишься, Варя? Сам собою хорош, значит? Это же приятно… Значит, всё так, как говорят. И то верно: что другим, может, и не к месту, а ему – к лицу! Ну а под кафтан, понятно, не заглянешь, что там всамделешнего…
– Маша!!! – в возмущении воскликнула княжна. Однако подруга в озорстве не щадила её и, смеясь, продолжала своё:
– … Это уж после свадьбы разведаешь!
На другой день привезли от жениха «невестин сундучок». Вручили со словами почтительными ей в присутствии отца, матери, и обоих крёстных. Тогда же подали ей родители икону Божьей Матери, которою благословили её по удачном сватовстве, и которая вместе с приданым переедет в дом жениха в день свадьбы… Княжна образ устроила у себя, на полочке, в уютном уголке с лампадкой, рядом со Вседержителем, помолилась со смиренной радостью, и обратилась к сундучку, присев рядом с ним на кровати. Был он из благородного кипариса выполнен, богато расписан, и изукрашен серебряными розетками, гвоздиками-звёздочками, и перламутровыми целыми вставками. На крышке был вырезан чудный зверь Единорог, встречающийся в райском саду с птицею Сирином.
В сундучке ничего особенного не было, кроме положенного по обычаю: мелочи для рукоделия, милые сердцу каждой умелицы и сделанные искусно, костью и золочением украшенные ножницы, отрез шёлка, холст тонкий, да отдельно, в кубышке серебряной – гроздь винных ягод белых, сладости с орешками россыпью всякие, финики, изюм и большие яркие лимоны. А под всем этим обнаружила княжна и кнут66… Небольшой, свёрнутый змеёю, из пахучей новой чёрной юфти67, лежал он молчаливо и зловеще под ароматными пёстрыми остальными подношениями. И хоть понимала она, что так заведено, что нет в том к ней от жениха никакого недоброжелательства, а что-то тревожно встрепенулось внутри.
Княжна Марья тоже как-то призадумалась, вздохнула. Помолчали.
– Вот, Маша, а там, небось, и не посидишь так больше… – княжна Варвара изготовилась опять как будто плакать, как случалось часто в последние дни.
– Это отчего же?
– Не отпустят тебя уж ко мне.
– Замуж выйду – так отпустят! – невозмутимо и добродушно отвечала Марья Васильевна, и княжна снова вроде бы успокоилась, на неё глядя, и достала из сундучка гостинцы, разделяя их с нею. Некоторое время занимала их эта вкусная забава, но тут княжна Марья вздохнула снова: – Я, Варя, назавтра уж к тебе не приеду – батюшка сказывает, совсем я дом и его, мол, забыла, к тебе в спальницы записалась. Ты не горюй только без меня, слышишь? У тебя дел теперь полно, да и кроме меня подружки имеются. Теперь станут к вам кататься всей гурьбою! Попробуй их по теремам удержи, раз право их такое теперь законное68… – и внезапно она всхлипнула, прижав ко рту кружевной платочек.
– Маша!.. Ты чего это?..
– Да чего… – новый всхлип сопроводился брызнувшими частыми мелкими слезинками, – вот хоть к тебе поезжу, всё веселее житьё! А после опять запрут… Ты не подумай, я не из зависти к доле твоей, хоть каждая б тут на месте моём иззавидовалась…
– Маша… Да что ты, душенька моя… – княжна Варвара обняла горюющую подругу, принялась гладить её по волосам.
– А батюшка у меня золотой… Хоть и шагу от себя не отпускает… Ты вот скоро женою будешь, а я когда, Бог весть! Причуды всё батюшкины, придирки, все-то женихи ему не те, видишь ли! Братец уж и спорить с ним перестал. А покуда он себе того, которого нравится, отыщет, я в девках увяну!.. – высказавши наболевшее, видно, она так же внезапно успокоилась, отёрла слёзы, приняла обычный мирный и уверенный вид и улыбнулась подруге: – А ты, гляжу, кнута-то испугалась, да? Не отнекивайся, я всё видала! – она рассмеялась, у княжны Варвары отлегло от сердца, и она уже собиралась с мыслями, как бы озорной своей подружке побойчей ответить, но та опередила новым сказом, которых у неё в запасе несчётно было, про другую свою тётку, которая над мужем своим спервоначалу верховодила, он же во всём потакал ей, робея громкого её голоса и грозной повадки.
– Всем бы, говорю, такого мужа, покладистого да смирного, а ей, видишь, не угодить было, и чем далее, тем злее она делалась, уж и при товарках своих стала его костерить, мол, несчастлива она через его слабосильность нрава и робость, увальнем называла, да завидовала другим, у кого мужья ей казались толковыми да завидными! И вот как-то (на большом собрании дело было, то ль крестины, толь ещё что такое), захмелев более обычного, изругала она его пресурово, когда шаль ей подавал, и объявила всему пиру, что всю жизнь он ей испоганил, и слово нехорошее употребила. Стерпел он сие без единого звука, извиняясь за хмель женин, а дома взял да и поколотил её как следует!
– Что, прям побил?
– Прям побил! А ещё кнут свадебный со стены опочивальни снял да и этим оходил напоследок.
– Ой, батюшки… Небось, в суд после?
Княжна Марья рассмеялась только:
– Какое там суд! Как они замирились, про то нам не ведомо, только тётку точно подменили с той поры: с товарками водиться перестала, дома сидит, с мужа глаз не сводит, на людях за ним ухаживает, во всём послушная, шёлковая совсем, и только разговоров теперь у ней, какой Афанасий Степаныч славный да любимый. И не из страха перед ним, нет! На самом деле расцвела вся, засветилась, точно молодуха. Вот как случается… Кому в коврижках счастье, а кому – в хворостине. Да и он, сказать надо, приосанился весь, гордый и довольный стал.
– Да-а уж… Какая ты, Маша, умная! Знаешь всего столько… И как угадать, что за судьбу тебе в замужестве Бог пошлёт?!.
– Да не умнее прочих, Варя. А жизнь поумнее нас всех! Потому резона нет загадывать. Что уж пошлёт – то пошлёт.
– Однако хотелось бы не кнута, всё же…
– Хотелось бы… – согласилась княжна Марья, задумчиво поедая из горсти изюм.
Помолчали.
– Ну, давай укладываться будем? Ночь, считай, не спали вовсе. Волнения всё, волнения…
И как всегда, улегшись, свечу погасив, уснуть опять не получилось сразу.
– Знать бы, думает ли он так же обо мне сейчас, как я об нём?
– А как ты об нём думаешь? – сонно, но опять усмешливо, отозвалась княжна Марья.
– Да полно тебе, не совестно надо мною всё время потешаться?! Я вправду знать хочу! Речами-то он горазд, уж понятно, а вот что на уме держит по правде?..
– Ну, это кто ж знает. Только одно скажу точно – совсем не то, что ты! У них, знаешь, с нашими помышления рознятся шибко, я уж это уразумела, и, может, благо не ведать того, что там в нём делается.
– Ну как – не ведать благо? И как же – рознятся, ежели, к примеру, один другому люб, так любовь же одинаково в себе все понимают. Есть она, либо нет её… Запало ль ему в душу знакомство наше? Иль так, за порог – и думать забыл…
– Про то, конечно, скоро мы узнаем. А не думать о тебе он теперь не сможет! Впервой ведь женится… Шутка ли!
– Нет, не так, не про то, Маша, ну как ты не понимаешь! Не об том, что вот, жена – не рукавица, с руки не снимешь да за забор не кинешь! – Мне таких его мыслей и точно знать не надо!
– Да понимаю я, Варенька, чего тебе слышать охота! – княжна Марья сладко глубоко вздохнула, начав предаваться своим грёзам, устраиваясь в пышных перинах, и чувствуя, как сама измоталась за все эти суматошные дни. Уже в полудрёме тихо говорила: – Всё как надобно он думает… А батюшка у меня золотой, да… Мать померла, я ещё на коленки к нему лазила, помню. Так он после ни на кого и не смотрит… Я у него – единый свет в окне… А боялась ведь, что погорюет, да приволочёт в дом какую-нибудь ехидну, крысу какую-нибудь, себе на шею и мне на горе. А нет! Нет… Как же хорошо…
Так под тихий благостный её голос княжна Варвара и заснула.
Москва.
Царёв кабак69 у Каменного моста.
28 сентября 1565 года.
«Пойди, трезвись в сердце своем, и в мысли своей трезвенно и со страхом и трепетом говори: Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» – донесся стариковски дребезжащий голосок с улицы, через отворённую створку запотевшего пыльного оконца. В чадном душном мареве полуподвала теснилось несколько крепко сбитых столов, за которыми угощались хмельным зельем всяческим и закусью, по большей части очень немудрёной, с десятка два разных человек, среди которых можно было сразу опознать причастных опричной братии – по чёрным кафтанам, и той особой вольности, с которой они держались. Сновали подавальщики, крепкие ребята с закатанными рукавами, стриженные в скобку, в простых портах, но в сапогах, однако, и холщёвых передниках, обляпанных несколько за день следами разного пития.
– Эээ! Затянул своё… И сюды доскрондыбал! – изрядно пьяный опричник досадливо поморщился, заглядывая в снова пустую кружку. – Шёл бы ты отсель, а, дед? Не вишь, тут люди… отдыхают! – крикнул он, поворотясь к окну взъерошенной кучерявой головой.
– Пущай блажит, тебе чего.
– Да спасу нету от него, ей-богу!!! Када мне «трезвиться» время, я в церковь иду! – неподдельным возмущением отвечая миролюбивому товарищу, он снова оглянулся на окно, где продолжалось тягостное песнопение, и опять крикнул: – «Неугасимой свечи»70 те мало, а?! Сюды приполз… Эй, кто там! Митька! – он махнул рукой подавальщику, со стуком отставляя опорожненную кружку. – Тащи ещё! Да прогони этого отселе!
Остальные, не особо обращая внимание на него, и на проповедника тоже, которого и не слышно было уже в пяти шагах от окна, продолжали заниматься своим питьём и разговорами в общем гудении, выкриках, смехе, в мотающихся туда-сюда сонных отогревшихся и отъевшихся осенних мухах, дрожи коптящих языков подвесных плошек от тянущего из открытой наверху двери сквозняка. Гостеприимное заведение сие, привечающее всякого, без чинов, любого рода-племени, с крестом на шее и без, кто способен был заплатить, иль чем иным угодить хозяину, отворено было здесь по указу и соизволению государя, прислушавшегося к увещеваниям умного, оборотистого и многоопытного немца, недавно утвердившегося под покровительством Московского двора. Был ли он впрямь рыцарем, искавшим славы и поживы на чужбине, или нет, но определённо сведущность имел достаточную, особенно в делах торговых, чтобы государь счёл нужным приблизить его, разрешить заведовать питейным заведением этим, и не особенно мешать в иных поприщах подвизаться. К примеру, толмачить. Доход в казну Царёв кабак приносил изрядный, хоть и не вовсе то было безупречное дело, конечно – пьянству потворствование, однако выгода пока что виделась превосходящей вред, и на многое государь предпочитал до поры закрывать глаза. Ко всему, странники, перехожие и переезжие из разных земель, иноземцы, опять же, да и свои, в подпитии разговорившись, могли много чего полезного сообщить особым людям, незаметно тут же от государя поставленным наблюдать, смотреть, слушать, и докладывать куда следует, чтобы после под началом Висковатого сведения сии собирались, и государю вовремя доносились до внимания.
– «Вот, теперь ты узнал путь безмолвия и делания, и вкусил проистекающую от него сладость. Имей же это всегда в сердце твоем, – раздалось то же дребезжащее, но всё более уверенное воззвание прямо на ступенях, ведущих в лоно кабака, и сам старичок, шаркая кожаными лаптями, возник в проёме. Ему не надо было нагибаться при входе из-за малого роста тщедушной фигуры, и он восшествовал почти горделиво, осмотрелся, щурясь, и поднял корявый указующий перст: – Ешь ли, пьешь ли, беседуешь ли с кем, сидишь ли в келии или находишься в пути, не переставай с трезвенной мыслью и неблуждающим умом молиться этой молитвой…»71
На него оборачивались, но почти никто не понимал речей его, и тут же снова возвращались к своим тут занятиям.
– Вот же ведь напасть! Садись да молчи, коли явился, пока не погнали тебя, слышь, дед! – вытирая усы от пива тылом ладони, озлился снова опричник.
Всмотревшись в него, неодобрительно насупившись седыми кустиками бровей под нахлобученной мятой шапкой из неизвестно чего, окрепшим вдруг голосом старик обратился уже прямо к нему:
– «Не позволяй уму быть праздным, но заставляй его тайно упражняться и молиться!». Да.
Видя, что пьяный подымается из-за стола, ярясь всё больше, старичок слегка попятился и примолк. Но тут позади него объявились трое в опричном тоже, но заметно побогаче, и вызвали у собрания любопытство куда большее.
– Честному собранию наше почтение! – провозгласил Грязной с надменно-шальным видом, взявши оградительно старичка за худосочное плечо под довольно добротным армяком. – Это ты, что ль, сучий сын, плесень кабацкая, Прокопьича моего обижаешь?
Сказано это было громко, тут уж многие обернулись ко всей картине, предвидя неминучую ссору.
Поднявшийся над столом опричник молча угрожающе сопел и покачивался, глядя теперь на Грязного в упор.
– Сам Государь наш, значит, Прокопьича слушать изволит, и нам велит, из Слободы вон его в Москву с собою забрал, а ты, значит, гнушаешься? Невместно тебе сие? М?
Шум вокруг затих при этих словах, прозвучавших издёвкою и вкрадчивой угрозой. Никто не сомневался, что случится сейчас потасовка, иль ещё чего такое, но тут оба противника рассмеялись, долго и хрипло, и двинулись навстречь друг другу обняться. Понятно стало, что они приятели, и только шутили.
– А ты уж без меня нажрался! Ну, Буча, дай поцелуемся! – вовсю ёрничая, пока другие рассаживались, уделив место также и весьма довольному Прокопьичу, чающему скорую кормёжку и стопку чего-нибудь веселящего даже, быть может, Грязной потянулся к приятелю, но тот, не справившись с кружением головы, ткнулся губами наугад в его щетину, уколовшись, и с отвращением сплюнул на пол.
– Сукин ты сын, Буча! Не любишь ты меня!
– Да я тя… люблю.
– Ага, как собака – редьку!
Оба снова захохотали, на столе появилось новое питьё и закуска. Веселье покатилось далее своим чередом.
– А что, чёрт етот более в долг тебе не отпускает? – Грязной кивнул на медяки, рассыпанные по столу.
Буча сокрушённо мотнул лохматой головой, а товарищ его принялся сгребать горстью мелочь, недобро косясь на всё вокруг, и на выход из хозяйской кухонной части – в особенности.
– А что так? – не унимался Грязной, оглядев цепко разношёрстный народ, заполнявший в сей час Штаденовский кабак. – А, Буча? Иль… – он придвинулся через стол к лохматой башке, – не по нраву немчину наше серебришко?
– Да по нраву, тока в него – что в прорубь, скока не кидай…
– А чего ж тут торчишь, – так же громким шёпотом домогался Грязной, – ехал бы с Федькой, ноне б новых подсвешников добыл!
Буча зарычал и грохнул кулаками об стол, а Грязной почесал грудь под шёлковой рубахой, под чёрным кафтаном, и засмеялся снова.
– «Дорожному, да недужному, да в чужих странах пребывающему поститься не подлежит», – раздался ясный звучный молодой голос из сквозняка дверей. – А ныне пятница.
Притихло.
– Дорожных тут тьма, недужных… – тут говорящий к опричному столу обернулся, оканчивая, – полно! А вот в чужих странах кто – тот не здесь. Ты, Вася, чему возлияния-то свои урочишь ныне? Иль надорвался, Крест Господен вчера воздвигаючи?72
При его словах и появлении проповедник, уже порядком разомлевши, лапкой сгрёб свою оловянную мисочку и чарку, и взор потупил. Буча, наоборот, попробовал взъяриться. Но был товарищем за плечо остановлен твёрдо. Однако Грязной, сделавши вид, что только что вошедшего признал, рассмеялся хрипловато опять, и повёл рукою вдоль своего стола:
– Да тебе полно, Федя! Усаживайся. Ишь, и тебя нелёгкая сюды занесла…
– Это Государь наш, Вася, не нелёгкая, пожелал тебя назавтра отыскать. Вишь ли, собираемся в Слободу, и тебя велено было привести, коли встречу, к престолу обратно.
– А… Ну ты-то тут не по кручине душевной, как некие. Пошто забрёл?
– По то, Вася, что ежели тебя в Свече нету, тут ты, значит. Что там про серебро-то? – и Федька, голос понизив, приблизился к ним вплотную.
– Да так, болтаем пустое, – воззрившись на него снизу вверх, Грязной тоже перестал вещать на народ. – Ты ничего не присмотрел у Стрешневых полезного, а? Рухлядишка справная имеется? Ты, вон, Буче свистни, как в другой раз к кому поедешь, а то у него запасы искончались.
– Ты, Вась, чего, грабёж затеял?
– Что ты, что ты, чур меня! – захохотал Грязной, призывая в свидетели сотоварищей по столу. – Только ежели опала на кого случится, пожар, то есть, так что ж добру… пропадать! Верно? – он подмигнул и снова заржал.
Молчание повисло. Все смотрели кто на царёва кравчего, стоявшего без улыбки над ними, кто под стол.
– Ну что ты, Федя, как… не свой! Присядь, иль брезгуешь с нами? Буча! Подвинься, кабанище… Федя! Угостишь дружков? Глядишь, в самом деле на что тебе сгодимся, – всегдашнее ёрничанье Грязного, не раз выручавшее его, выручило и здесь – кравчему расхотелось продолжать безмолвный допрос, он снисходительно усмехнулся, полуобернулся на возникшего за спиной стремянного.
– Давайте допивайте, да подымайтесь все. Завтра путь нам в Слободу. Прокопьича не забудьте, ироды!
– Отец родной! – подался в его сторону старичонка, сходу захмелевший со второй стопки. Но Федька уже крутанулся на каблуках, овеяв размахнувшимся крылом ароматной шубы полумрак душного палёным жиром, перегаром чесночным и мужицким потом кабака.
– Ты что, какой он тебе отец! – опять заржал Грязной.
– Чёрт это! – вдруг возник Буча, поднял голову от возлежащих на столе рук и на Федьку воззрился. – Я узнал его! В тот раз мимо шмыгнул, и юбка эта его… золочёная! И… мешок за плечьми, а что в мешке, что?!.
– Буча!
– Матвей!!
– Да уйдите вы!.. Он это!!!
Страхи сотрапезников его были напрасны – царёв кравчий не услыхал его, или не пожелал услыхать, не оглянулся на прожигающий безумный взгляд, и уже скрывался, придержав длинные шёлковые узорчатые полы, подымаясь верх по добротным дубовым ступеням.
– А в мешке – не то головы, не то… кочаны капустные, да только… кровью капало следом!
Прокопьич жевал губами, как бы желая что-то сказать значительное, да не стал, меленько крестясь на ближайшую сильно коптящую сальную свечу.
– Будем их ждать? – Сенька отвязывал коней у обширной коновязи кабацкого двора.
– Нет. Поехали!
За ними вскочили по коням провожатые, с прилаженными к сёдлам опустевшими сумами государевых гостинцев, раздаренных кравчим за полдня по указанным домам, и вывернули на большую дорогу к Каменному Мосту, а встречные прядали по сторонам, а кто из простолюдинов – сгибались в поклонах, стаскивая шапки.
Странное бешенство росло в нём по мере приближения Кремля. Бесило его не соседство в проживании с Васькой Грязным, возненавидевшем его с первого момента. Это было взаимно. Уже увидевши его рожу впервой, Федька понял врага. И не благоволение к нему, как к шуту, Иоанна, шуту не шибко умному, ехидному и мелочному, вредному, порочному всеми грехами, но, видимо, каким-то образом утешающему государя своим видом и бесхитростным охальством, не тайное и явное противостояние, которого он никогда не переставал ощущать, делало Грязного врагом. Он знал, что есть при дворе враги куда сильнее, скрытнее и тем опаснее. Они не выносили друг друга от Бога, видимо, и на том Федька и успокоился, вверившись Богу очередной раз. И признавая полностью, что надо бы принять давнишний совет Обхлябинина и самому плевать поболее на Ваську, ведь делить им нечего, каждый при Иоанне своим занят…
Тем более что повод был у него теперь неотвязный – благочиние в отношении невесты.
Он и сам не мог пояснить, почему ведёт себя так. Можно было сесть с ними, выпить, выведать многое. Тем более что Прокопьич, с недавних пор очень обласканный государем, был с ними… Можно б было и из этого сделать себе угодное. Но он не смог.
Почему я не с ними, говорил он себе, и почему они не со мной? Разве я не одними с ними же помыслами обитаю здесь? Не того же хочу, что все: любви государя, удачи себе, благополучия, славы? Но если даже у стоп Государя не прекращается сия возня и препирательство, то как тут быть… Чего не хватает Грязному? Тяготит ли его шутовское место, или негодует он на то, что я сам тут представляю… Отчего бесит его всё, что от меня исходит? Или моё место тут само по себе … небылица! Небылица…
Тут он лицезрел, как наяву, свою невесту, недавно увиденную. Её нежнейшее лицо под тонким паволоком. Её юность, всю бело-золотистую, которой он не мог дать определение годами, зимами, ею прожитыми, ибо была она и как дитя, и, строгостью поведения, как умудрённость мира всего перед ним… И как все смотрели! Как ловили их единение, и как это трудно было… И какой была чуткою княжна! Нежность всего образа её обволакивала его такой лаской, что он терялся в страсти приблизиться к ней более даже мыслью. И уж совсем несносно было ставить в один ряд эти видения с противным вкусом Грязного в себе… Мотнув головой, поправив шапку, он выправил ход коня, всегда пляшущего под ним, стоило ему разгорячиться в досаде самому, и Атра, проворчав свои жалобы, пустился ровной рысцой по ровным гулким настилам моста.
Но чудесным образом всплывающие картины нынешнего обряда умиротворяли его. И не мог он не заметить и не признать, что, как за щитом, укрывается за ними от тревожащих, беспокоящих его раздумий. И мысли поскакали с новой силой… А что батюшка, каково ему было встретиться с матушкой, что он тогда думал, или – не очень думал, как не раз слыхал Федька в речах родичей, в подпитии касающихся воспоминаний семейных, как бы между прочим. Что женился он, потому что возраст уж был изрядный, и времени во вдовстве прошло тоже порядочно, и надо было всё же о наследниках подумать… И вот нашли ему друзья-товарищи хорошую девицу, пусть не богатую и не знатную, из дворян уездных ярославских, и устроили сватовство, и свели их однажды, улучив время между всегдашними его походами. Как оно там всё происходило, никогда прежде Федька вопросами не задавался, ибо до сей поры родительский союз казался ему чем-то вековечным, что было всегда и всегда будет, как Солнце на небе и Луна. И тоже казалось невозможным, чтоб мать с отцом когда-то не ведали друг о друге, так же, как он с княжной, идя каждый своим путём до поры. Когда-то, очень давно, бывал он в ярославском имении бабки и деда, матушкиных родных, но почти истёрлись эти образы, остались только смутные цветные пятна, как солнечные всплески на волнах бескрайнего Плещеева озера. Как запахи свежего каравая из печи, и пирогов с яблоками утром, когда не проснулся ещё толком. И чей-то голос, вкрадчиво излагающий сказку, которой он так и не дослушал ни разу, засыпая…
Со свистом и диким гиканьем уже у самых ворот Кремля их нагнала ватага Грязного. Следом, сильно отставши, тряслась раздобытая на дворе Штадена телега с поместившимся там Прокопьичем и пьяным Бучей, и с Бучевой лошадью в поводу.
Александровская слобода.
6 октября 1565 года.
Со вчерашним сухоядением, однако, он едва дожил до утра субботнего, чтобы восполнить силы, сожравши чего поважнее сухарей с финиками. Пропуск в уроках с Кречетом сказался, как и предполагалось, изрядно – нагонять пришлось ежедневно часа по три, и теперь ему всё время хотелось есть. И спать – поскольку эти часы государь ему истрачивать позволил за счёт послеобеденного отдыха, а значит, обед тоже получался условным – как же можно биться иль обучаться чему на сытое брюхо. Всё придёт в должный порядок, конечно, уговаривал себя Федька, терпя свои ученические мытарства и придворные обязанности, и всячески гоня навязчивые помыслы о самом страшном. Об государевом к себе охлаждении.
С чего он это взял, Федька и сам не очень понимал, потому что государь, занятый несоизмеримо куда более значимым и великим, редко имел время оставаться с ним наедине весь этот месяц. Точнее – почти что ни разу такого и не предоставилось. Видно было, как Иоанн изматывается к ночи, и, к себе его призывая, ровно и душевно с ним обращаясь, всё ж как будто не видит его… Впрочем, тут же Федька себя на таком рассуждении прерывал, и жестоко – сказывалось, как видно, вошедшее через уши и засевшее в нём учение, коим последние дни усердно снабжал всю Слободу невесть откуда взявшийся дед, это самый Прокопьич, и которого Иоанн, единожды выслушав, обласкал и приблизил, давши довольство и приют и право шастать, где тому вздумается, и наставлять всех подряд. К слову сказать, и сам Иоанн, всегда тяготеющий к праведности, к мудрой мысли и вдумчивому слову, стал читать им предтрапезные Четь-Минеи73 с добавкою этого «умного одоления», борения против мысленной брани упорядоченностью в себе божественного осознания, и об приучении себя к непрестанному Богослужению, к непраздности ума… О стражах сердца, и о том, как унять в себе горячность, ту, что без духа, а обратить её в созидание в себе же Храма Всевышнему, и через то спастись…
Когда говорилось это, всё-всё в Федьке отзывалось согласием! И хоть, тому ученику Филимонову подобно, уходя с преисполненным новой наукою сердцем, в готовности следовать всему в точности, он уже очень скоро ощущал неуверенность и шаткость просветления своего, однако семена словес этих, светом разума пронизанные, его не покидали. И тоже жаждал он припасть к стопам кого-то мудрого, светлого и сильного настолько, чтоб ответствовал на его вопрошение: «Что мне делать, отче, чтобы спастись? Ибо вижу, что ум мой носится туда и сюда и парит где не должно». И чтоб научил.
И опять вольно-невольно вглядывался он в лица вокруг себя, ища и в них того же чаяния и сомнений… И видел он множество чаяний и сомнений, но были они другими, не теми совершенно, не о том… Всех их, казалось, не беспокоило и ничуть не удручало, что нет никакой возможности в себе отыскать неколебимости такой, о которой государь им внушения теперь всякий раз вменяет. Что, со смирением слушая эти наставления, в которых и полезная правда, и спасение это самое явственно были, как только к еде и питью обратиться им дозволялось, тут же и немедля возвращались в обычное своё положение. Смиренные лица делались самодовольными и беспечными, сдержанные повадки прекращались, уступая обычной громогласной развязности, боевой и чующей за собой общую силу всех их. Так псина сразу отряхивается, промокши от внезапного дождя или провала в глубокую лужу, и бежит дальше по своим собачьим делам за стаей, задравши хвост… Федька рассмеялся невесело своему же сравнению, и опустил глаза в своё блюдо, отрывая виноградную ягоду от грозди. И тут же, пытаясь уловить причину его насмешливости, явно обращённой на опричную братию, оживился Грязной. Не сразу опознав суть его вопроса, Федька отщепнул ещё ягодку, синевато-красную, прозрачную внутри жестковатой кожицы и полную свежего ароматного сладкого вкуса, и ничего не ответил, откровенно глумливо поглядев на него, как только что – на всю «стаю».
– Что, а, Федя? На чей стол смотрел? На Сабурова опять, да? Так ить там уж нету никого из них… А Чёботов – за другим. Замыслил чего? Ну, Федя, я всегда поддержу, ежели что, – Грязной подмигивал ему.
– Какой же ты, Вася, козёл греховный, – совсем беззлобно отозвался он, наконец, на эти приставания. – Дотреплешься когда-нибудь.
«Ой! Ой! Гляньте, посмотрите, акие агнцы здеся!» – немедленно понеслось в ответ, так громко, что сам государь взором к ним обратился, но Федька только медленно поднял на него глаза, исполненные отстранённого и затаённого самолюбования, и не сразу отвёл, потупившись, поняв, сколь непристоен этот его взгляд.
Непристоен, да. Ибо, укоряя прочих в легкомыслии, сам ты помыслами всякими беспокоишься, а о чём? – о страшно сказать чём. О тяге к тебе Его, о том, чего желаешь от Него – расположения к себе бесконечного, как тогда, как всегда, когда наедине вы были. А в особенности – на миру! Когда ничем выдать себя нельзя было, но взирать было можно с бесконечно-покорной ревностью и с обожанием, исполняя малейшую Его волю. И разве это простится тебе? – Тут у Федьки пропала всякая охота к еде, смятение одолело его и предчувствие нехорошее, и неуверенность уже во всём… Ведь ежели сам Иоанн сейчас так рьяно твердит им в наущение о целомудрии душевном и непрестанных воздержаниях, не означает ли это, что ожидается в ответ эту истину воспринять, и жить, ею руководимым? Что и его, среди прочих, касается прямо сие, и что, покуда пронеслись эти две недели, поменялось многое и в самом Иоанне? И взгляд тот убийственный царицын неспроста случился… Что теперь будет, что осталось ему? В ушах зашумело даже. «Рабственных похотений не делай госпожами души, не извращай порядка, не отнимай власти у рассудка, не вручай бразды страстям!» – услужливо подсказывала память, и не получилось отмахнуться от бесконечной справедливости требований таких. Поводок грехов, от коего отказаться решительно надлежало всякому, пекущемуся прежде о душе, с ощутимой силой натянулся и сдавил горло.
Спасение пришло нечаянно – государь пожелал испить малинового мёду, и Федька с радостью понёсся исполнять службу: принимать от чашника напиток, пробовать, и с поклоном преданной любви подносить государю, в этом действии не испытывая мук отрешённости своей от него, весь отдавшись только службе своей.
А вечером опять пришлось терпеть неизвестность – государь занят был непрерывно, обращаясь к нему только по надобности деловой.
Сперва принимал поверенного Посольского приказа. Дошло от одного из подлежащих Посольскому надзору монастырей, что «Князь Владимир Андреевич с матерью своей княгиней Евфрасиньей в доме своем детей боярских деньгами жалуют да посулы сулят», о чём письмо имелось перехваченное, и переписанное от верного монастырского человека… Государь заметно огорчился, ведь только что с братом своим он учинил замирение, простил ему и старухе прежнее, и взамен взятого в опричнину Старицкого удела пожаловал свои имения Дмитровские, которые и обширнее, и доходнее были, и тем самым ничем семью великого князя Владимира Андреевича не ущемил. Ясно было, конечно, что убирал тем самым Иоанн последнее удельное княжество, неслушную спицу в колесе и для всякой палки лазейку, а значит – и право на владение оным Старицких, ставя их уж на иное место, ниже прочего. Но это легко стерпеть бы многожды виновному в нечистых умыслах Старицкому, прежде может и по недомыслию, и мать свою унять в непримиримости её, если не прямым запретом её упрямых хитростей, то неучастием в них совсем решительным, за великодушное государево прощение и обет всё прежнее забыть…
После дошёл черёд до донесений людей воеводы Басманова, и снова Иоанн хмурился, выслушивая, про что некие бояре, Старицких навещающие, толкуют. А толковали всё о них же – Басмановых, Вяземском, Зайцеве, Наумовых, заодно и о князьях Трубецких с Сицкими, опричнине присягнувших, об Алферьевых, Безниных, о Блудове и таких, как он, из ничтожности мелкого своего дворянства вдруг ставших ближними государевыми воеводами и слугами, одариваемыми милостями и наделяемыми властью над прочими.
– Дескать, в пень изрубил ты роды лучшие княжеские (тут Котырева поминают, Троекурова, Лыкова, конечно)… А шлют послания подобные всюду, и в Казани, государь, есть, кому на них ответить, – воевода Басманов излагал сдержанным рокотом, находясь ближе всех к столу, а перед Иоанном легли списки тех грамот, где имена Карамышева и Бундова, как раз год назад в Казань сосланные, первыми числились среди прочих. – Да и не тебя даже винят в том великом поругании, государь…
Федька напрягся весь за Иоанновым плечом, за креслом, видя стиснутую на поручне железную руку его. Батюшка знает, вне сомнения, что́ всего хлеще и мощнее сейчас придётся, и подаёт разведку свою мастеровито.
– А нас, негодных! – усмехнулся воевода, переглядываясь с Вяземским, мрачно кивнувшим. – Хоть и крест кладём-де по-писаному, и поклоны ведём по-учёному, а такие, как мы, и веру христианскую на дым пустят74!
Иоанн мучился терзаниями уязвлённой гордости, и Федька уже совсем понимал неприязнь его ко всему, связанному с Казанской победой, и неприязнь его ко прежним своим советникам многим, хоть и прежде батюшка упреждал его не раз при государе особо тем делом не восторгаться… Отчего не восторгнуться, если победа и впрямь велика! Да было кое-что, уже тогда государю ясно видимое, а после всеми, кто на то время старше, опытнее и сильнее Иоанна был, не раз ему же в упрёк говоримое: то дело великое не им сделано, а только лишь тому благодаря, что он своих советников послушался… Послушался, то верно, рассуждал не раз Федька, себя на место государя даже в мыслях не ставя, и всё же. И всё же ему достало мудрости, слыша многое, принять сторону полезного… И если б ему после никто из них не припомнил его тогдашней беспомощности, послушания его, Царя, да, но – юного ещё и в них нуждающегося, их воле и решениям по необходимости подвластного, если б не требовали от него такого же послушания себе, как вожатым, сейчас, то был бы он в благодарности и благе, а не кололся о шипы эти. А ныне льва попрекают волки, лисы и гады тем, что был он некогда львёнком…
На шумный невольный вздох за плечом Иоанн полуобернулся:
– Видишь, Федя, каково…
Он видел. Так ясно, что, потребуй сейчас государь, как тогда, пойти с ним в монашество – пошёл бы, не запнувшись.
В другое время он бы нашёлся, как утешить его, как ответить, чтобы, через себя приняв его гневную дрожь, разделить и умиротворить это до покоя на время, или – упоённости.
Далее опять пришлось Федьке впасть в беспокойство ума, в тени гнева и себялюбие излишнее – совместно с доносами на недругов предоставлены были государю вести с юга. Там как раз Фёдор Трубецкой, отразивши в исходе лета набеги крымчаков на Одоев, Чернь и Белёв, передал управление опричными полками князю Андрею Телятевскому, и вот сейчас под Болховом, едино в земскими местными войсками, отражён был набег Давлет-Гирея. Умело и слаженно всё происходило, и хан повернул свою орду, как только передовые его отряды разбиты были всюду, не решившись и на сей раз ввязываться дальше… О-о, как завидовал сейчас он их тяжёлой славе!!! Как бы желал увидеть ту же молнию торжества, настоящей радости на челе своего Государя, под своим именем рядом с описанием победы! И как завидовал сам себе, но – тому, прошлому, вероятно, так же воодушевившему Иоанна…
Как бы сам собой вышел у государя с его ближними разговор о Рязани прошлогодней. Но он всё ж был почти ничем тогда! – Отец всем заведовал и за всё ответ держал в Рязанской обороне, он же был лишь при нём! А Телятевский с Трубецким себе сами славу стяжают, во главе войск поставленные. И вот этого терзания Федька не мог терпеть без нового тяжкого вздоха. Забылся он на миг, и очи прикрыл, и не увидел, как удивлённо вверх ползла бровь государя, на этот его стон обернувшегося вновь.
Всем им, конечно же, понятно было, какой суровой мукой вызваны Федькины сдавленные стенания и удручённый вид. И всё же, сознавая уже, что ему не справиться сейчас с войском, что прав батюшка, и государь прав, не давая ему бразды сии до поры, изнывал он и страдал, ничтожеством себя в такое время ощущая. Да! Так всё! А отпустил ведь его тогда батюшка на стену, и после – вдогонку за отступающими степняками… Не стал жалеть и при себе прятать, дозволил испытание принять! И за то по гроб жизни благодарить его надо… И того самозабвения в бою, вблизи смерти, внутри её самой, он не забывал никогда.
– Федя! – окликнул его государь, доброжелательно и ласкательно. Вмиг слетела вся одурь, он очутился перед Иоанновым креслом, со смирением преклоняясь, ожидая дальнейшего. – Утомился ты, вижу. Не возражай. Оно и понятно – столько волнений у тебя нынче. Благополучно ль всё с невестою твоей? Не справился я прежде, так теперь вот спрашиваю.
Говорил это государь с расцветающей в глазах улыбкой на его замешательство.
Еле уловимо подавшись взором в сторону воеводы, довольно усмехнувшегося, Федька отвечал, опять же смиренно полуопустивши взор, что всё там благополучно, идёт своим чередом… А государь смотрел, он как будто шутливо это спрашивал, и вскипело в Федьке всё его естество внезапно – краской затопило его и жаром странного, почти что гневного бессилия…
Конечно же, молчали батюшка и Вяземский, и Годунов за своим столом. И без того тяжёлый, долгий день шёл к исходу. Настрой государя переменил ход их встречи, и все почтительно умолкли, готовясь откланиваться, понимая, что Иоанну хочется отдохновения. Решение по сегодняшним донесениям следовало обдумать всесторонне, но уж завтра, не теперь.
– Так как там, Федя, с зароком твоим всё мне по правде докладывать, и не таить ничего?
– Что?.. – распахнувши ресницы, он окаменел, ища в себе ответы. И не только он окаменел.
– Ну, Федя, помнится, о неком серебряном коне возмечтавши, ты говорил тут. И что, будто б, не все Ахметкины посланцы честны бывали. Иль померещилось мне?
Было, было, и впрямь же было, но… Слыхал он это случайно, мимо следуя, никем не замеченный тогда сперва, в аргамачьем дворе. Гоняли там по закуту новых великолепных тварей, из Персии самой доставленных. И конники меж собой болтали на обочинке, а он услыхал, залюбовавшись игрою воспитателей и молоденького жеребца, коего на участие в сражениях натаскивали… Конём любуясь, он ловил обрывки из речи коноводов за углом ближнего строения. Что мухлюют очень с пошлинами всюду, а поди проверь – пока доложат куда следует, пока от уездного Приказа до единого, в Москве, докатится, пока оттуда обратно запросят, или вышлют туда кого для проверки, уж вечность пройдёт, и никому разбираться будет не досуг… На то и уповают мошенники и всякие нечестивые торговцы, а что взять с людей, коли всякий себе только выгоду прочит. А на Москве, в самом Конном Ряду иные держатели маститые божатся, что в неведении о проделках своих же барышников, а меж тем на этом мешки себе золотом набивают, хоть и так торговля у них превосходная.
Если говорят об таком здесь, в самом сердце Государева Владения, означает сие не только праздные словеса, подумалось Федьке тогда. И упрёк государев тот справедлив был, что, дескать, не прилежен он в своём праве, а хочет себе более того, что потребить может. Федька и сам знал, что коня боевого воспитать – это не пустяки. Это надо умением, понятием и Божьей помощью обладать! Терпением, а пуще – временем с конём наедине. Что проку иметь табун самый дивный, когда не ты, а другой более тебя станет ему хозяином и другом, и не тебе покорится дивный зверь, а кому-то чужому. Так всё, верно, и потому только припрятал до поры он услышанное… И ещё потому, что знал и видел не раз участь доносчика, если не сможет он слов своих доказательствами поддержать. Тут Иоаннов закон был суров. Не то чтоб кнута боялся, конечно, нет. Но всё же ронять себя без нужды в глазах его не хотелось, чтобы в другой раз тебе не поверили… Слова бы твои за пустяк ветрогонский считали бы.
Об этом, честно и без утайки мыслей, и было Федькой изложено государю.
– Что ж, небось, возликовал бы, коли правда такое бы открылось? Небось, за ту пару серебристую хотел бы, чтоб виновники нашлись?
– Да что ты, государь!!! Все бы безгрешными были, так я бы не горевал, а радовался за тебя!!! А мне, и впрямь, вороных моих довольно… – Федька уже приготовился пасть к ногам и умолять о доверии к себе, но не пришлось – подняв глаза, он понял, что Иоанн подшучивает над ним.
На душе Федькиной мгновенно потеплело и расцвело. Иоанн в этом глумливом озорстве показался совсем прежним…
Тем же вечером поздним, отдохнув немного и восприняв лёгкую трапезу, Иоанн пожелал выйти под пустой сейчас Троицкий шатёр75, и позвал с собой его.
Но недра соборные оказались не вполне пусты в этот час – им навстречу обернулся и согнулся в глубоком поклоне начальник над слободскими певчими. Иоанн отпустил Федьку заняться пока чем тому во храме пригодно, сам же обсуждать стал новшества своего сочинения, канон распева трактующего инако, видимо, чем привычный им доселе.
"Пастела со сте́зкою", "стезя великая", "попевка", "невма" и "трисветлое согласие", и многие такие словеса, волшебно взлетающие к расписанному своду, отдавались в нём таинством, ему недоступным… И рокот тихого голоса государя, согласующего свои помыслы и пожелания с умнейшим наставником и проводником музыки сей прекраснейшей, и то, как они понимают друг друга, и какое это даёт Иоанну наслаждение, (а это Федька по голосу, опять же, его понимал), и самого Федьку умиротворяло до полного растворения…
Привычно он забрёл в притвор Стратилата. Его обняло теплом и ладанным чистым веянием, и радостью от того, что хоть к Савве сейчас нет зависти, тени даже скверного к его с государем взаимному пониманию, а есть только сладость сознания такого союза, есть любопытство послушать, что у них получится.
Он так любил высокое пение, такой силы многоголосой любви он никогда не испытывал, и понимал всем существом страсть к этому Иоанна. Стоило вступить слаженному хору, и его вмиг увлекало, уносило ввысь, во тьму и притягательность свечных огней, и не раз хотелось дойти в этом до некоего предела… Отрешиться. Да! Отрешиться в уединении душевном, как и твердит преподобный Григорий Синаит, растолковывая всякому подробно, как следует достигать блаженного мира в себе… Но не через потакание своим греховным, злым по большей части, плотским только, или иным каким житейским желаниям, а в такой вот спокойной, просторной и уютной свободе в себе… В горении ровном непрестанном.
Он смотрел в юное серьёзное, едва заметно оттенённого совсем ещё невидной бородкой, лицо Феодора, ставшего Стратилатом, верховным защитником своей земной обители, уже к двадцати годам… А облачённый в белый плащ и доспехи, Феодор Небесный на него смотрел, спокойно сжимая в деснице меч. Из доблести этой защиты, из долга перед всеми, кто жил в городе том, и на него надеялся, не зная даже в своих ежедневных заботах о его трудностях и печалях, он сделался защитником и духовным для них… А они и об том не подозревали! И вот, в час урочный вступил Стратилат в свой главный и последний бой – в противостояние царю того места… Царю! – тут Федька попадал в западню смятения, но – ненадолго. Тот царь, Ликиний, язычник и безбожник был, и потому Феодор применил благое непослушание! Да!!! Непослушание, но – благое ведь, а значит, и сие порушение законов, и клятв и обещаний прежних в верности – не есть грех, а напротив, наоборот – подвиг! Вот же как… Но царь земной, не следующий завету Царя Небесного, есть зло бесспорное, и, подобно Георгию, Змия поразившему, хотя никто его об том не просил из людей, а сердце велело мир от неведения злостного освободить, Феодор подвиг своего протеста совершил. Правда, сказано в житиях, что самого Бога Стратилат слышал, он самого Его принял наказ. Тут уж понятно, другого пути ему не было. Но… не в битве неравной мученичество конца встретил, а в смиренности приятия наказания от гневного Ликиния… Ведь сознавал же он, что наказание будет ужасно! В иной битве, в той, с собою, со слабостями своими мирскими, с желанием жить в себе и не протестовать, стало быть… И тут мысли совсем вскачь понесли с порывами влечений, и Федька ими задохнулся, и, упавши на пол перед образом Стратилата, замер… Всё пространство в нём и вокруг заполонил бой его сердца… Не ошибаюсь ли я жестоко, ответь мне, пресветлый великий мученик, ответь, мой Феодор! Не мыслю ли я сейчас доставить высокое насыщение душевного страдания Государю моему через тебя, а на деле – через себя, послушание и истовое служение тебе выказав своим замыслом, а на самом деле будет то служба кабаку?76..
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» – начал он повторять.
Но не так-то просто бесам противоречить, они громко кричат, и Ему, и всем тут их слышно: «Ты Марии-царице супротивничаешь, ты Государя Любови жаждешь, обожание Его себе удержать мечтаешь более прочего, а моим плащом белым, непорочным, прикрываешь свои побуждения настоящие? Так что ж сие, как не кабаку служба, да ещё хуже – в шкуру агнца ты волка своих хотений рядишь! Что замышляешь?! Чем лучше будет сие действие бешеных ваших веселий, опричных чёрных стай, от которых ты же сам порой воротишься?» – так грозно гремел над ним некий голос, и он не смел пока что ему ни возразить, ни ответить…
– … Деланье умное77, да жизнь окаянная, великий государь, – донеслось до него негромко и гулко, из глуби отдалённой, – уж твержу я им, сколь могу, что надобно от прежнего воспарить, по-новому мы поём теперь, учимся вот, да надо на то время небольшое…
– «Твое славяте заступление» начали?
– Да, великий государь, сейчас разучиваем, как раз, – со смиренной улыбкой отвечал, кланяясь опять, уставщик Савва78. – Так ведь не сразу… А уж долблю им ежечасно, умное, умное делание надобно! Не козлодёры, говорю, вы, певчие дьяки государевы, так гласить надо с сердцем. С понятием. Смехом говорю, не злом, Господи, огради! Тут палкою толку не добиться… Тут ласкою и учением и терпением только… Не беда, великий государь. Справимся к сроку!
"Делание умное, да жизнь окаянная", – эхом носилось в обессиленном Федькином сознании.
Спустя вечность, наверное, он ощутил прикосновение к плечу своему Иоанновой руки, и услыхал над собой его голос мирный:
– Ты тут спать, никак, собрался, Федя. Пойдём-ка.
Глава 5. Охота пуще неволи
Александровская слобода.
16 октября 1565 года.
У самого него колени постанывали и ныли до сих пор со стояния в Троицком на Покрова, преобразившегося чуть не во всенощное бдение, хоть, вроде бы, по канону богослужебному, едино всем епархиям теперь прописанному, этого и не вменялось обязательным. Но Иоанн был неутомим и казался осенённым светозарным поклонением Омофору Пресвятой Матери нашей… Впрочем, ему подушку алого атласа, наполненную мягкой упругостью наилучшей овечьей кудели, пропитанную ладанными и цветочными травными благовониями, золотыми кистями окаймлённую, под колени возложили, но только лишь как того требовало почитание его царственного величия. Сам бы Иоанн, кажется, босым и в рубище, на камнях, и безо всякого послабления предаваться молитве был намерен… Поднимать государя под руки в этот раз было доверено ему и старшему служке митрополита Елисею. Неустанно наблюдая государя, он тогда переглянулся с Елисеем, всё ещё румяным и улыбчивым затаённо, всё сияющим к исходу бесконечной праздничной службы аки некий херувим золотовласый, и подумал, чем они так щёки отрокам яблочно красят…
Увели Иоанна в покои через арки святилища, и там суетились уже спальники, и, государя разоблачая, в постель укладывая, расстарались. Снаружи шла самая непроглядная предрассветная темень. Федька поднёс государю воды мятной, принял ковш, и хотел упасть рядом на полу на своей медвежьей шкуре, но рука Иоанна вцепилась тут ему в плечо, как только все ушли.
– Какая смерть тебя пугает?
Уголья глаз государевых держали Федьку, склонённого над ним, кажущимся уставшим смертельно. Волосы Федькины, пахнущие медовым воском и ладаном, и дымом, и усталостью истомлённого дня, и томной его неприличной терпкой сладостью, медленно упали на бледную щёку Иоанна, и он схватил прохладную тяжёлую тёмную прядь, и притянул своего кравчего к себе поближе.
– Какая из всех более страшит?
Он не нашёлся даже, что ответить, только прижал вздрогнувшие губы к ледяному гладкому лбу Иоанна, умоляя в мыслях его о успокоении… По всему нынешнему было понятно –вновь пришли к Иоанну горестные видения, и оттого было его неистовство в аскезе, молении Пречистой, но не мог он отогнать тех видений, и даже после всех стараний не утихал терзающий его огонь мысли и сердечная мука… Может, мать привиделась, или его незабвенная голубиная душа Анастасия. И взыграла тоска. А где тоска у государя – там и гнев, там и жажда отмщения об руку идёт.
Довершая усталость, вопрос этот Иоаннов, внезапный, страстный, не к нему даже как бы обращаемый, не шёл из ума, и постепенно захватил его ледяными и жгучими когтями, и он не смог вдохнуть без боли тягостной, давящей в груди и под рёбрами, оставшись рядом с государем по мановению руки его. Что было в том вопрошении? Надо ли ответить на него? Но страшно это произнести, как будто, если выскажешь, точно то и исполнится! Или, может, сам себя вопрошал государь, будучи к себе жестоким, беспощадным и немилосердным, как ни к кому другому?.. Только вот видно это изо дня в день, наверное, одному Федьке.
– Ясный Сокол Финист… – начал дыханием одним напевать Федька внезапно пришедшее из детства, приблизясь к уху его.
Молчание тёплым стало.
– … за любимой улетел своей
далеко-далёко,
за тридевять земель…
То ли почудилась слеза, сверкание капельное, из-под века его выползшая, то ли правда горевал, душой истомясь, Государь его.
– За пять морей…
Не почудилось. Выплыла и застыла, и утончалась на сухом жаре его впалой щеки змейка слёзного ручья.
– Звал-вещал Подруге,
чтоб в глубокой вере ждала,
с ним, томясь в неволе,
духом неразлучной была…
И, молясь с любовью,
грезила девица о том,
как вдвоём с любимым
улетят в Небесный их Дом,
В Отчий славный их Дом!..
Во Терем Высокий…
В край заоблачный…
Ясный Сокол Финист
за любимой улетел своей…
И тут замкнулся вздох Иоанна в болезненном коме в горле, и Федька обнял мысленно его, и не жаждал ничего, кроме как утешения для них обоих в мире и сне… Скоро дыхание государя выровнялось, милосердный покой снизошёл. Увидев, что Иоанн спит, Федька умолк. Завершение Сказа о Финисте, самого излюбленного из тех, что матушкой пелись, витало, крутилось в его голове, сливалось со звёздным небом, с язычками свечными в оном, с простором, полным совсем уж непонятным кружением, пением и полётами, пока и он не упал в сон без видений.
– Федя! Феденька! Восставай, возбудися на жизнь, красавец мой! – мягкость трясения за плечо вывела его из тяжкой сонной лени.
– Иван Петрович!..
– Тута я, да.
– Иван Петрович! – и он кинулся обниматься, прям в постельной рубахе.
– Ну, будет, чойта ты!
– Соскучился по тебе! Какою судьбой?
– Чую, скучал! Да удачливы мы ныне на Югах, Федя, вот я и снова здесь, стало быть! Вздохнуть от войск домой отпущен, – и князюшка подмигнул ему этак, что всё внутри ёкнуло. Ещё белее, снежной, казалась его седина из-за густого степного загара, только в сетке лучинок от глаз бело оставалось. – Чего тебе поесть-то подать, розан вешний? Пока что вешний… Гуляешь, cтало быть, последок? Ээ-эхх, молодо-о-ой!
– Рыбки бы, и икорочки!.. – улыбаясь вовсю их извечной присказке, о столь многом напоминающей, Федька невинно похлопал ресницами, потягиваясь сладко в постели.
– Брродяга! Отродье смутительное! – отозвался, уходя, Охлябинин, окатив его изрядной долей отечески-непотребной своей ласковости.
Государь, верно, как-то сумел подняться, принять от спальников облачение, его не потревожив, и Федька сам себе дивился, что не проснулся даже. Наверное, сейчас уже в молельне, или на царицыной половине. Там же и трапезничает? А кто ему питьё подносит? Федька крикнул Арсения. День завертелся.
Позже, заловив Охлябинина наедине, вполне осознавши уже, что у Иоанна тот, как некогда Шигона Поджогин79 у батюшки царственного его, князя Василия, для особых, таимных сокровенных дел присутствует во внутренних покоях, Федька припомнил ему проказы в Коломенском год тому. Сам же нехорошо тревожился от этих шуток про "напоследок" гулянье и "пока что вешний", извечной греховной ревности своей преисполняясь час от часу. Ночь прошедшая успокоила его вроде бы, тем, что Иоанну он нужен и близок душевно по-прежнему… И всё ж, зачем князь-распорядитель тут, что от него государю занадобилось так, что нельзя было в общей трапезной или кабинетной комнате разрешить?
Жемчуга князюшки переливались, седина спорила с моложавостью его лика и задором в голубых глазах, только усиляя их, как всегда, а он всё мялся и вздыхал, будто знает нечто такое, что ты ещё не можешь понять. Или это только мерещилось? Завсегда князюшка выглядел полным тайными своими заботами, как обычно всё. И нечего лишнего себе нахлобучивать.
Федька придирчиво рассматривал себя в зеркале, но день выдался пасмурным, и толком себя оценить не удавалось никак, даже с поднесением подсвечника.
Появление на кухне государевой Князюшки имело волшебное действие. Федька смотрел и дивился. Всё задвигалось иначе, тайные знаки всем и каждому витали, и даже орали куда менее обычного, и подзатыльников обслуге поубавилось, как будто в том надобность отпала – все и так знали, куда бежать и что делать. Одним словом, дворцовый воевода явился. Ваське Грязному до этого, как отселе до Висби80. Не случайно ж государь держит людей бывалых. Хотя, как знать, ежели не сопьётся до сроку, может и из Грязного в распорядительстве палатном толк выйдет. Да и чёрт с ним… Но и бывалым доставалось, и знающим. И бывалых опала косила, Челядиных, скажем, хоть боярыня почтенная из их рода самого Государя пестовала во младенчестве81. Куда она подевалась, как только великой княгини Елены не стало, несложно было догадаться! Убрали её Шуйские в монастырь, а там внезапно померла, ну да! Так и муж её сгинул без следа, и красавец Телепнёв с ними.
Вся бездна этих суровых тяжких уз валилась на голову Федьки, и он путался и погибал в попытках выбраться… В тщете нащупать опору хоть какую в бесконечной череде побед и падений этих, точно в болоте, чтобы как-то себя упасти, не сгинуть бесславно, жертвою в чужой сваре или хитрости, или вовсе недоразумении случая. И будь ты хоть царевич, хоть герой, хоть холоп последний – Рок надо всеми виснет едино неумолимо.
Прямо спросить, что Охлябинин тут делает, так и не решился, но всё же удалось выпытать, будет ли на свадьбе, и не тысяцким82 ли. Пока что Князюшка ничего не обещал, но выражал, крестным знамением и молитвою себя подкрепляя, что на такое событие не должен опоздать. «И Фетинье моей погулять доведётся! – смеялся, но как-то опять серьёзно. – Коли живы будем».
Федька поедал солёную севрюжью икру, нарезая кружочками83 и досадуя, что свежей, несдавленной, нигде не добыть сейчас. Уж насытившись, устыжался, что удержу не знает в излюбленном ястве и чревоугодничает, тогда как всюду призраки большого голода уже встают… Батюшка уверял, весна будет тяжкою. А лето – тем паче. Переговорили они тогда о многом, провожая матушку с Петькой из Москвы, и с оказией завернув в Троицкую Лавру, где помолились об удачной для них дороге, о здравии родичей всех, ну и помянули иных. Тронуло Федьку, что по поручению Захария Иваныча дан был отцом вклад, целых пятьдесят рублей, по его давно умершей жене Ульяне. "Уж как он её любил, Ильяшу эту!" – вспоминались матушкины слова, и невольно думалось о своей участи. Чтоб к иноверке, пленнице, чадо вражье ханское выносившей, в чуждом стане выросшей и воспитанной, прикипеть так, это дивно было. Наверное, и она мужа нового приветила, и многими добродетелями обладала, раз отец её тоже уважал, поскольку заметил Федька, с каким вниманием выполнял он поручение… Хорошо ли так кого полюбить? И страдать после, как Захария Иваныч, на других не смотреть всю остатнюю жизнь? Ему представлялась княжна Варвара, тонкий и немного робкий почерк её, облачное свечение её нежно-милой красоты… Не лучше ль, как сейчас, оставаться им и в супружестве в ровном спокойном расположении друг к другу, без муки тоски разлук неминуемых, метаний души разных? Хоть и забилось в нём сердце, ретиво взыграло при виде её, и отступило всё иное на время, пока они рядом были, однако ж оставался Федька по-прежнему душевно невредим. Ибо страсти тянули его в чёрно-огненную ночь Слободы, не в светлый терем невесты! Отчётливо сие в себе ощутив, Федька отдался на волю Всевышнего, молитвой отгоняя неуместные во храме видения… После, по пути в Слободу, снова вернулись к делам государевым. Воевода посвящал его кой в какие новости, и упредил с этой поры особенно чутко примечать и запоминать всё. Беспорядки повсюду учинятся, верно, к весне, неминуемо это, и уже сейчас государь распоряжается отзывать с окраин и прочих важных мест одних воевод, назначать других, а в целом здесь, в Москве и окрест, к лету, собирает многих, и войска немало. Государев расчёт тут таков, пояснял воевода, чтоб на опасных пограничьях по крепостям своих верных самых сейчас поставить, а здесь, под своим приглядом да под нашим, Федя, оком, сомнительных удержать. Вот и станет нам видимо, каков кто в глазах государевых… А как же, спросил Федька, распознать это, коли призывает государь и верных, и сомнительных поровну? В ответ воевода мрачно усмехнулся только.
О том же упомянул и Охлябинин, сославшись на донесения из северных уделов, где уже поймали и судили нескольких отказников по делу заготовления припасов корма конского для опричного государева войска… Зимой не миновать падежа скота – засуха да непогода годовая скажутся, и посадским, а пуще – общинникам земельным и своих-то деловых84 лошадёнок нечем прокормить станет, вот и прячут загодя сено, овёс с ячменём – тем более, вместо чтоб сдавать по порядку на войсковые заставы… Случались уже и начатки бунта кое-где, ведь ужесточился закон на сей счёт, и вредительство всякое такое, влекущее опасность военного бедствия, приравнялось к прямой государю измене. А за измену такую, сам знаешь, что положено – усечение главы, самое малое. Монастыри пока что царские повинности тянут85, но тоже придётся, по сведениям некоторым, пойти на жертвы. Без боевых коней иль тягловых как воевать? У немцев86 коней закупать – так они золотые выходят, пушек дороже! Ты за него мешок серебра отвали, а оно, животина глупая, возьми да сдохни невесть от чего! А без пахотных – тоже никуда, беда, запустение земель… Не всякий сам в соху впрячься сможет.
Федька молчал и слушал Охлябинина, краем глаза заметив, как вошёл его Арсений, поклонившись, и вопросительно стал у стены, не прерывая разговора их, но и не выходя. Стало быть, с сообщением неким. Скорее всего, государь к себе воротился, и Арсений его упреждает.
– Лихих много… – подытожил Охлябинин тихо и ворчливо, – оно и понятно – каждый зверь за себя размышляет и себе выгоду устраивает по разумению своему. А вот что думают себе Мстиславский с Воротынским, это… не понять нам пока. Точь так же, как иные сейчас воротить Литве Полоцк да Псков помышляют, да Смоленск – Польше, наконец…
– Неужто и Мстиславский туда же?! А как же…
– Тсс, Феденька. Это меж нами, своими только. Услыхал, да в себе схорони.
– А… государь..?
Охлябинин кивнул многозначительно, давая понять, что государь осведомлён, само собой, но до поры свои намерения имеет, принимая без внимания доносы бесчисленные на Мстиславского, да и на Бельского, и оставляя их в управлении земской Думой, а Воротынского – из недолгой опалы в Москву вызывая. Вдохнул, убирая мягкую на вид, но сильную ладонь с его плеча.
– Федя, наш век ушёл, считай. Из последних бьёмся! Но ваш восходит. Думай осторожно! А делай – того осторожнее.
Александровская слобода.
Зима 1566 года.
Дни пошли мелькать отчаянно с самого начала Рождественского поста.
Зима оковала землю, и мор, и непорядки, наползавшие волнами с литовских и новгородских границ, приутихли вместе с первыми снегами и морозами…
В начале декабря в Риме скончался Папа, Пий Четвёртый. Кто он был для Государя, объявляющий себя не просто наместником Бога на земле, но неподсудным никакому суду, кроме Божьего, Наисвятейшим? Державный тайный властелин половины мира христианского, должный кого первого он братом бы назвать, по вере их общей и положению? – Волк! Волк на троне. Вот как именовал его Иоанн, и всю их папскую курию заодно. Зверь алчный! Лжец перед Господом, бесстыдный, наглый и прелюбодейный не в тайной своей греховщине, коей у любого вдосталь имеется, нет… Так и виделся перед мысленным взором разъярённый новостями о делах церковных Иоанн, и слышался его повелительно гремящий в покоях голос, выдающий накипевшее, что, конечно, не мог он поместить в посольскую роспись: «Ты эту грязь и торгашество на свет выволок, узаконил! Ты свой народ к паскудству приучаешь, не ведая стыда… Да полно, веруешь ли ты сам во что, кроме Златого Тельца?! И ты мне – мне! – Государю Божьего Царства истинного – свои услуги предлагаешь в обмен на моё покорство?! И мои грехи ты мне за грязное ныне византийское злато (что за насмешка Твоя, Господь мой!87 Или вправду пресекли мы меру Твоего долготерпения!) отпустишь от Божьего имени, на своём свитке бесовском рукою недрогнувшей расписавшись?! А не изгонял ли Иисус торговцев из храма?!. Так не страшно тебе умереть в грешном огне, всюду неправым, за то, что раздавал глупцам и негодяям за мзду прощение их скверны?! Заимодавец, процентщик наипервейший, гнуснейшим делом процветать не гнушаешься, а через тебя вся Церковь ныне загажена, и здесь уж, на Руси, из монастырей, из домов архиерейских торгашеские лавки сотворены! Не остановить тебя никому, думаешь, всех властителей купил, так и мне к тебе на поклон итти?! Никогда я, Православный Царь, не приму такого! А что делать мне, когда худшая скверна подползла уж вплотную? Когда раздирают уже меня здесь, в синоде собственном, и вынужден я, ложь и в своё действо допустивши, уже и перед тобою шутовствовать?88".
Ждали переизбрания Папы целых восемнадцать дней, а после Рождества стали ожидать уже от нового, Пия Пятого, послания государю Московскому, а что оно прибудет, не сомневались. Вот только с чем – с намерениями снова "мира вечного", либо полным новых хитроумных придумок и уловок, как заполучить Царя Московского в защитники, стравить прямо с турецким султаном, да при этом ничем от себя не поступиться… В тревоге ожидали и иерархи Синода. Что им сулили новые попытки замирения Иоанна с ненавидимой им римской церковью, и не откажется ли сейчас государь от своей непримиримости ради договора с Максимиллианом89… Опять же, ещё год назад послал государь письмо в Рим касаемо ходатайства оного за пленного магистра Фюрстенберга90, и теперь ожидалось получить ответ и на это. Впрочем, наружно всячески вежливо предлагая Иоанну союз, на деле Рим условий Москвы принимать не спешил…
«Ваша злобесная на церковь востания рассыплет сам Христос», рёк грозно Иоанн, порицая всякую ересь и отступничество, и брань меж единоверцами, и продолжал не раз, что «сего ради тако глаголет господь владыка Саваоф, сильный Израилев: «О, горе крепким во Израили! Не престанет моя ярость на противныя, и суд мой от враг моих сотворю, и наведу руку мою на тя…» -утверждая, что всякий царь земной, Бога отвергающий, непременно низвергнут будет. Странно было не принять на веру единожды отрезанную Иоанном отповедь, что об унии папской он и слышать более не хочет, и пусть останется на всём свете единой Москва православной – он и тогда не отступит. Что вручена ему Провидением самим эта честь и обязанность – держать в миру высоко Знамя Христово, и жизнь свою на то он положить готов.
Однако тем и славен Искуситель рода человеческого, что сомнениями толкает каждого на путь искания своей правды, деяния своей пользы. Но своя правда и польза не составляет Истины… И очень было возможно, что как раз этой непреклонностью наживал государь новых противников в стане своём, тайных пока что. Не понятно им было, почему они должны поступаться благополучием ради Иоанновых убеждений и упрямства, от прямой житейской выгоды далёких, и не всё ли едино, как быть, под унией этой или без неё…
Много думал Федька над тем, что слышал, и успел узнать, и никогда не приходил к согласию. Не то, чтоб с собой! – с теми, кто, наравне с Государем, себя царями мира объявляли. Он не мог принять как царя боготорговца-Папу, которому и сам император их Римский, кажется, не указ был, а только потворствовал. Не мог принять царей-подхалимов – византийцев. Беспечной упрямой самонадеянностью и жадностью к благам мирским они своё царство уступили Осману. А чая союзников в них обрести, опять же, посулами выгод своекорыстия, потеряли Константинополь и латинские христиане, генуэзцы с венецианцами. Двурушничество их всех только на пользу султанату турецкому вышло! И уж тем более не принимал царя-завоевателя – Османа. Великого стратега, безусловно, но… Этому ничему не было места в его душе. Всё, что слышал он о подвигах Великого султана Махмета, о могуществе правления его, что прекрасными словами преподносилось Пересветовым самому Иоанну в пример порядка и закона в государстве твёрдого, и восхищало, и гневило его равноценно… Да, единого Сулеймана признавал Иоанн себе равным по праву зваться Государем! Но всё ж был султанат покровителем работорговли везде, до чего мог дотянуться. Такая жестокость, бесчеловечность, не могла жить в христианском сердце наравне с достоинствами. Рабство есть гнуснейшая из вещей мира, и все царства, воздвигаемые на порабощении, ограблении и истреблении других племён, нечестивы, а значит – должны быть обречены, пусть не по людскому закону, но по Божьему суду. Так утверждал Иоанн, так видел и чувствовал он сам. Но Осман не был христианином, и потому ему это служило единственным оправданием. Куда гнуснее взаимное избиение единоверцев…
Средь всего этого виделся Федьке только один воистину великий государь – Иоанн Четвёртый Васильевич.
Федька вернулся взором к изжелта-бледной странице, старательно заполненной ровным строем чёрных букв, начертанных искусной рукою какого-то инока из Бел-Озера, вчитываясь снова в Филиппов "Плач"91, но впору было самому восплакать. Несчастное тело, страдающее от неумной, своенравной души, непрестанно спорящее с нею, вызывало сочувствие из-за бедствий, которым подвергалось путём неумелого собою управления со стороны души и упрёков её… Их спор Филипп Пустырник описывал доходчиво! Однако, в то же самое время, Федьке явственно слышались затверженные уж намертво наставления других, не менее почитаемых отцов-мудрецов, о том, что как раз наоборот всё обстоит, и это гнусное, скотское, исполненное скверны и греховности тело угнетает душу, толкая её вниз, в гноище и прах, вместо того, чтоб помогать, не мешая восходить к просветлённости помыслов и желаний чистоты… Как же так.
Федька с протяжным стоном бессилия отодвинул рукопись, запрокинул голову и прикрыл глаза.
Его сейчас тянуло на конюшню больше всего.
Посты прошли, и государь возобновил свой интерес к прежним забавам, ежедневно теперь бывая, один или с царевичем Иваном, то на бойцовском поле, то на литейном подворье, ну и на конном, с вожделенным восторгом наблюдая бесподобных красавцев-аргамаков, коих там выгуливали и объезжали для высшего искусного боя. Ценил он и высокорослых крепких помесов с дончаками и теми, пригнанными из немецких земель, носящими название «дестриэ»92. Кони то были могучие, сильные и податливые в обучении. Батюшка питал к ним большую приязнь, себе такого приобрёл тоже… Но прокорм такой скотины дорого обходился казне, да и считалось, что аргамакам, бухарцам и аравийцам, всё же, нет равных по выносливости и стойкости к хворям и холодам, а уж сообразительностью они превосходили иных людей намного. Особо хороши колхани93! И в походе незаменимы. А недавно Федька узнал о том, что на Москве, в Конном ряду, у Ахмета, опять появились колхани-сиглави, соединившие в себе рост, силу и выносливость одних и несравненную тонкую лебединую красу других… Те, серебряные, были как раз из таких! И чтоб доказать государю, что он подобного коня достоин, проводил теперь Федька время в единении со своими вороными, а выучивали их совместно, конечно, Шихмановские наилучшие мастера.
Опыт то был ценный, много чего Федька открыл, и к заключению пришёл, что Элишва, уступая Атре в росте, лихости и зловредности, в силе бешеного порыва набрасываться и биться со всем, что ему виделось враждебным, – в бою достоинства необходимые, вестимо! – зато чует его, хозяина своего, внимательней, и спокойней, и как бы умнее. А вынослива не менее жеребца. Недавно выучил её на посвист особый наземь ложиться! Затаиваться, и лежать так тихонечко, пока сам не подползёт и не поднимет, касанием или шёпотом, или по обратному свисту не позовёт к себе. Шихман подсказал, что можно такие штуки с аргамаками проделывать, и ещё не такие, что не всякая жена тебя так верно понимать станет, как подобная кобылица, но… на то нужно времени лет несколько. И чтоб ты жил с конём своим, спал возле него, ел вместе, и был в целом неразлучен. То же и Кречет подтверждал. Кречет, иной раз на таких уроках бывающий и наблюдающий и за своими сотоварищами, и за учениками, отметил, что сила-силой, а вот в ертаульном карауле94, в поле, иль близ вражеского стана, скажем, такому коню, разумному и послушному своему ездоку, цены нет.
И ежели поход случится, по зиме особенно, то лучше ему Элишву под себя взять, а уж Атру, совместно с царскими чтоб блюли, с собою в поводу вести. Для боя… Ну а гнедого, старинного верного своего – на пересменок в пути, если вдруг, не дай Бог, что с другими случится… Или вовсе Атру в бой не вести, жалко уж больно.
Много раз мелькали перед мысленным взором его татарские злые стрелы, которые вонзались во всё вокруг, и в шею и грудь благородных коней, заставляя их кричать и негодовать от боли, точно люди… И как они падали, подминая всадника, не успевшего понять, что конь под ним погибает… И вот как, как этакое сокровище, этакий Дар Божий загубить возможно… Федька мотал головой, гнал мысли, которые почитал неправильными, потому что жалость делает слабым. А воину слабость – главный враг! Так повторяет Кречет, наставляя его. Он заставлял Федьку мучиться несказанно бесконечными повторениями того, о чём говорил, и что показывал, своим телом, и твердил, что первое правило непобедимого воина – отказ от слабости любой. Даже друзьям своим не можно об том сказать, что тебя уводит от цели, что мутит и делает бессильным. Никому нельзя! Богу только, разве, прося избавления… Тогда все слабости твои в тебе, как без пищи, без чужого сочувствия, или злорадства тайного, что опаснее сочувствия стократ, умалятся и перестанут тобой править. Как не должен править добрым конём малодушный и робкий наездник… Эти слова крепко запали.
Федьке подумалось тогда впервые, что здесь у него не осталось друзей, да и не было, как бы… Захар где-то там далече, в своих заботах, а Чёботов пока что и друг, и нет, хоть видится в нём честное сердце. Разница есть меж ними, откровенности полной претящая. Прочие немногие – так, приятельство разве, да и то по необходимости, коли вместе все возле государя вертимся. Да и на дружбу время требуется вместе, опять же, а времени у него совсем не было.
Есть Сенька, правда… Вот ему поболе других про Федькины страхи и слабости известно, даже отцу неведомы все его терзания тайные так, как Сеньке. Всё же на глазах ежедневно. Когда так близко – и говорить не надо, видит один другого без пояснений. Сперва это внезапно осознанное положение озадачило и напугало даже, ведь как же тогда выполнить условие Кречета и неприступным оставаться. Но тепло при воспоминании об смышлёности и преданности Арсения вскоре победило эти беспокойства. В конце концов, и он не обо всём может догадаться, а услуги его бесценны. Есть же у батюшки Буслаев, и ничего, никаких за воеводой слабостей отродясь Федька не примечал! Надо бы как-то поддержать его, небось, мается содеянным смертоубийством, ни словечка никому не говорит, а самому тяжко… В остальном же ощутил Федька, что ни в ком более не нуждается, и ни в чьём таком участии сердечном.
Кроме Его – Государя своего…
И тут же Федька просмотрел тогда удар – его напарник, тоже ученик-первогодка, из донских, ещё не осведомлённый достаточно о том, кто таков кравчий царский, и потому без стеснения сражающийся с ним в полную силу, огрел его слегой. Пришлось прерваться, принять нахлобучку Кречета за посторонние помышления… А ежели государь в мыльню с собой позовёт, скажем, то и от него ещё достанется. Пошто опять шкуру испортил.
Кажется, всё б отдал сейчас за эту государеву баню…
Александровская слобода.
Январь 1566 года.
– Яничанин, прям!95
– Он! Он и есть…
Оба говорящих со стороны, с безопасности, за загородкой стоя, кивали, опираясь на свои клюки, пришлёпывали скрытыми в сивых усах ртами и жевали, от переживаний, и изредка даже утирали незримую слезинку, докучливую спутницу стариковских глаз. Но опирались они на посохи свои довольно стойко, и выстояли всю картину, налюбовавшись вдосталь резвой и хваткой, неистовой ловкой игрой всадников и коней, и их воспитателей-хранителей. И сейчас восторгались оба вздыбленным и замеревшим свечкою Федькиным вороным, послушным твёрдой его воле.
Один был Прокопьич, многоучёный потомок владимирского дьячка тот самый, что истины из «делания умного» неустанно изрекал, и сам отец многих детей, из коих один только сейчас жив оставался, да и то – по неслыханной милости литейного мастера тутошнего, в его талантах, видимо, пока что уверенного. Сын последний Прокопьича был женат, несчастно, для жены своей в особенности. Потому что пил беспробудно, спуская часто монетное довольство в том же Царёвом кабаке, как многие, сопричастные этому делу. То есть, приготовлению и проверке перед использованием государева огневого оружия, пушек, посредством стрельного зелья96.
Пушек в Слободе не отливали, только колоколы – мало тут и места было, да и дорог широких, по коим готовые их можно было бы развезти по надобности. На то отдельный Пушкарный двор в Москве соорудили. Там одарённый, но беспутный сын Прокопьича выучился мастерству изрядно, но за пьянство был изгнан из мастерской, и теперь обретался тут при отливе колоколов, под началом старшего мастера, само собою… Впрочем, и здесь иные «пушкари» находили себе окаянное пойло, хоть заведения никакого подобного не было, а в погребах перед хмелем изобильным поставлена была стража, предупреждая злоупотребления. Мастера жаловались самому государю, что работники нетрезвы часто на место испытания являются, а дело то не терпит небрежности. Тот дозволил нарушителей сечь розгами, и даже кнутом, ежели по их вине случалась потрава работе. Но ничего не помогало! Пушкарная обслуга, и даже младшие мастеровые пили, и ни битиём, ни пряниками, ничем их не получалось урезонить… Одному Кашперу Ганусу97, пожалуй, не на что было жаловаться – в обучение и помощь ему посылались самые трезвомыслящие.
Второй же был отцом именитой дворцовой кухарки, которая самому царскому повару иной раз советовала, и дельно всё, с учётом государева предпочтения и недомогания98, часто происходящего от полуголодного многострадального детства…
– Норов не очень. Зато глаз радует!
Оба старика согласно покивали, а Федька тем временем оказался в середине загонщиков, одетых в доспех и с разными гремящими штуками в руках, коими размахивали, наподобие боевого оружия. Роняя пену и злобно рыча, Атра не пугался, а желал броситься на врагов, и, выучке и седоку подчиняясь, снова поднялся на дыбы, прыгнул на задних копытах навстречу самому большому и страшному из нападающих, молотя в воздухе ногами передними, так что всякому, под них попавшему, было б несдобровать. Федька при этом рубил направо и налево затупленным сабельным клинком, так что к нему приблизиться никому не удавалось. Приземлившись, конь вихрем крутанулся и, поощряемый наездником, распустивши хвост чёрным крылом, ринулся в возникшую в кругу нападающих брешь, с намерением напасть на всякого, кто покажется ему враждебным.
– Добрый конь! Хоть и злой аки чёрт!
– Вот же как выходит – что тот добрее на деле, который злее!
Оба посмеялись, опять друг другу кивая.
Тут позади них, с небольшого отдаления, донёсся негромкий одобрительный смех государя, уже какое-то время назад подошедшего с малой свитой, и тоже любовавшегося зрелищем. От неожиданности оба старика чуть не подпрыгнули, попятились, согнулись в попытке пасть на колени, срывая шапки. Но государь милостиво кивнул им и показал рукою подняться. Сам же устроился на поднесённом малом кресле с ковром поверх сиденья.
Федька обогнул двор по кругу и возвращался, а ему наперерез кинулся и встал, раскинув руки крестом, здоровенный детина в широченном лохматом малахае. Но Атра не струсил и тут, как любой бы обычный конь сделал, и не принял это за приказ остановиться. Летел на супротивную страшную фигуру, и детине пришлось увернуться с его пути.
Весьма довольный и собою, и жеребцом своим, а в особенности тем, что заметить успел государя, за ним следившего, Федька остановился напротив него и сопровождавших. Тут же подбежали конюхи с покрывалом и полотенцами, уберечь взмыленного жеребца от простуды. Сияя улыбкою, оканчивая на сегодня конюшенные упражнения, он соскочил с седла, потрепал успокаивающегося быстро Атру по шее и приласкал, поблагодарив его крохотным лакомством, горстью изюма, которую тот подобрал из ладоней не менее уставшего господина горячими замшевыми жадными губами, отдал его заботам конюхов, ещё некоторое время отхаживающих жеребца по кругу, давая ему остыть. Сам же низко государю поклонился.
– Слышь, Федя, сколь метко об тебе Прокопьичем сказано: "Норов не очень, зато глаз радует". И мне б не сказать метче!
– Так ить!.. Я ить… Помилуй, Царь-батюшка, я ж то об скотине… – раздалось просительно-испуганно со стороны вблизи.
– Да что же ты извиняешься, старче, коли правдиво изречено! – успокаивая старика, а глядя на кравчего, мягко отвечал государь.
Федька, и без того разгорячённый, зарделся пуще, всё ещё глубоко дыша и откидывая с лица влажные кудри, в притворном смущении опуская ресницы, укрывая ими блеск плотоядно-довольных глаз. И скидывая на руку подоспевшего с поклоном стремянного чёрный простой кафтан, оставшись бесстрашно на лёгком, но настырном ветру в становом тонком златно-шёлковом терличке, темнеющем обширными пятнами пота, прилипшим на спине и груди… И приметливый Прокопьич, подслеповатость коего лишь видимой была, наверное, произнёс уже уверенно и благостно, никому – и всем:
– Впрочем, вот и святой Игнатий говорит, – и, видя, что Иоанн с нескончаемой улыбкой за всем наблюдает, а его кравчий, в накинутой на плечи шубе, в шапке стоит перед ним99, поднял в подтверждение своих слов указующий перст, коряво присогнутый, и завершил: – Почему и зачем в самых первых основах, во милости своей, Бог вложил в человека не только надобность во внешнем деянии, но и во внутриутробной, умозрительной работе, что выражено в созерцании… Не в беглые беспричинные мечтания ударяяся, но в видовосприятие в себе чистой красоты, и тем имея возвеличивание в себе воистину умного делания! А через то – и Бога, и творения Его.
