Странник века
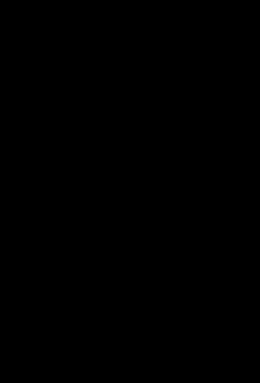
Andés Neuman
el viajero del siglo
Андрес Неуман, фото © Rafa Martín
В оформлении обложки использован фрагмент картины Фердинанда Бруннера «Странник» (1908)
© Andrés Neuman, 2009
© О. М. Кулагина, перевод, 2022
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2024
© Издательство Ивана Лимбаха, 2024
Моей матери,
которая напоминает и напоминает о себе
Моим отцу и брату,
которые слышат ее вместе со мной
Чудной старик, не должно ль мне
С тобой остаться?
Чтоб ты сопровождал мой голос
Звучанием своей шарманки?
Вильгельм Мюллер/Франц Шуберт
Европа! Тащась в своих лохмотьях,
Придешь ли ты когда-нибудь?
Настанет ли тот день?
Адольфо Касаис Монтейро
У вегетативных есть корни;
А людям даны ноги.
Дж. Стейнер
ВАНДЕРНБУРГ: движущийся город, расположенный где-то между старинными государствами Саксония и Пруссия. Столица княжества с таким же названием. Широту и долготу определить невозможно из-за его постоянного перемещения <…> Гидрографические данные: несудоходная река Нульте. Направления экономической деятельности: земледелие и текстильная промышленность <…> Несмотря на свидетельства хроникеров и путешественников, точное местоположение города определить не удалось.
I. Свет дня здесь стар
О-зяб-ли? крикнул кучер прерывающимся от тряски голосом. Спа-си-бо, мне хо-ро-шо! отозвался Ханс, стуча зубами.
Фонари раскачивались в такт галопу. Колеса сплевывали грязь. Готовые треснуть оси прогибались на каждой выбоине. Кони раздували щеки и выдыхали облака. По линии горизонта катилась тусклая луна.
С некоторых пор где-то вдалеке, к югу от дороги, начал вырисовываться Вандернбург. Но, подумал Ханс, как это обычно бывает в конце утомительного путешествия, город словно перемещался вместе с ними. Над экипажем нависало тяжелое небо. При каждом ударе кнута холод наглел и жестче обжимал контуры предметов. Дале-ко еще? крикнул Ханс, высовываясь в окно. Ему пришлось повторить вопрос дважды, прежде чем кучер вышел наконец из своей погруженной в грохот сосредоточенности и прокричал в ответ, указывая кнутовищем: Сами изво-о-лите ви-и-деть! Ханс не понял, что кучер имеет в виду: что ехать осталось самую малость или что заранее никогда не угадаешь. Поскольку Ханс остался в карете последним и разговаривать было не с кем, он закрыл глаза.
Открыв их снова, он увидел перед собой каменную стену со сводчатыми воротами. По мере того как стена приближалась, Ханс все сильнее ощущал ее аномальную непроницаемость: она словно предупреждала, что выбраться за ее пределы будет гораздо труднее, чем пробраться внутрь. В слабом свете фонарей проступили силуэты первых домов, чешуйки крыш, заостренные башни и архитектурные украшения, похожие на вереницу позвонков. Казалось, они въехали в недавно покинутый город – слишком гулким эхом отдавался стук копыт и прыгающих по брусчатке колес. Все было так неподвижно, словно кто-то, затаив дыхание, непрерывно за ними следил. Экипаж свернул за угол, галоп стал глуше: дорога здесь была грунтовой. Они ехали по улице Старого Котелка: Ханс разглядел качавшуюся на ветру железную вывеску. Он подал кучеру знак остановиться.
Кучер спрыгнул с козел и, едва очутившись на земле, сразу как-то сник. Пройдя пару шагов, он посмотрел на свои ноги и смущенно улыбнулся. Погладил по спине коренную, что-то благодарно прошептал ей в ухо, и животное ответило храпом. Ханс помог кучеру развязать веревки, крепившие багаж, поднять влажный брезент и достать из-под него чемодан и большой сундук с двумя ручками по бокам. Что у вас тут? Мертвец? проворчал кучер, роняя сундук на землю и отряхивая руки. Не мертвец, улыбнулся Ханс, а несколько мертвецов. Кучер хохотнул, но по лицу его пробежала тень тревоги. Вы тоже здесь заночуете? спросил Ханс. Нет, ответил кучер, я сейчас в Виттенберг, там меня ждет славное местечко для ночевки и одно семейство, которому нужно в Лейпциг. Покосившись на скрипучую вывеску, он добавил: Вы уверены, что не хотите проехать со мной дальше? Нет, спасибо, ответил Ханс, тут хорошо, да пора уже отдохнуть. Воля ваша, сударь, воля ваша, кивнул кучер и пару раз откашлялся. Ханс отдал ему причитающуюся плату, не стал брать нескольких монет сдачи, и они простились. За спиной Ханса щелкнул кнут, по деревянной обшивке кареты пробежала дрожь, зацокали, удаляясь, копыта.
Только теперь, оставшись один на один со своим багажом у дверей постоялого двора, Ханс наконец почувствовал, что спина у него затекла, мышцы свело, а в ушах стоит гул. Его не покидало ощущение тряски, по-прежнему мигали огни, зыбко колыхались камни мостовой. Он протер глаза. Заглянуть в окно постоялого двора не позволяли занавески. Он постучался в дверь, все еще украшенную рождественским венком. На стук никто не вышел. Он потянул холодную, как лед, ручку. Дверь с трудом поддалась. За ней был коридор, освещенный висевшими на крюках масляными лампами. Тело Ханса обволокло благодатным теплом. Где-то в глубине коридора бормотал, потрескивая, огонь. Ханс с трудом втащил в дом чемодан и сундук. Остановившись под одной из ламп, он силился согреться. Но вдруг подскочил от неожиданности: из-за конторки его разглядывал господин Цайт. Я как раз шел вам открывать, сказал хозяин. Он зашевелился так медленно, словно его прижало конторкой к стене. Живот господина Цайта напоминал барабан. А сам он источал запах лежалой ткани. Откуда изволили прибыть? поинтересовался хозяин. В этот раз – из Берлина, ответил Ханс, впрочем, это не важно. Для меня, сударь, важно, да еще как, перебил его господин Цайт, не догадавшись, что Ханс имел в виду совсем другое, и сколько думаете тут пробыть? Видимо, эту ночь, ответил Ханс, но пока не уверен. Как только определитесь, сказал хозяин, будьте добры, сообщите мне, я должен знать, сколькими комнатами располагаю.
Господин Цайт прихватил с собой канделябр. Он повел постояльца сначала по коридору, потом по какой-то лестнице. Ханс смотрел на тучное тело хозяина, штурмом бравшее каждую ступеньку. Ему было страшновато, что в любой момент оно может рухнуть на него сверху. В доме стоял запах горелого масла, серных фитилей, мыла и пота. Они прошли второй этаж и стали подниматься выше. Как ни странно, все комнаты казались пустыми. На третьем этаже хозяин подошел к двери с нацарапанной на ней мелом цифрой семь. Он отдышался и гордо объявил: седьмая у нас самая лучшая. Затем вынул из кармана ободранное кольцо с ключами и после нескольких попыток и сдержанных проклятий сумел открыть дверь.
Держа канделябр перед собой, хозяин вспорол темноту до самого окна. Задвижки отворились, и ставни исполнили аккорд на пыльной древесине. Уличный свет был так слаб, что не столько освещал комнату, сколько смешивался с ее тьмой, словно некое газообразное вещество. По утрам здесь довольно солнечно, пояснил господин Цайт, комната выходит на восток. Ханс сощурился и напряг зрение. Ему удалось разглядеть стол и два стула. Узкую кровать под полотняным покрывалом. Латунную лохань, ржавый ночной горшок, треногу с рукомойником, кувшин. Очаг из кирпича и камней с маленьким карнизом, на который, казалось, ничего нельзя поставить (очаг есть только в третьем и седьмом номере, пояснил господин Цайт), и кое-какую домашнюю утварь по углам: кочергу, совок, почерневшие щипцы, почти истершуюся щетку. В печи лежали опаленные поленья. На другой стене, примерно между столом и лоханью, Ханс заметил небольшую, акварельную, как ему показалось, картинку, но разглядеть ее он не смог. И вот еще что, торжественно закончил свои разъяснения господин Цайт, осветив стол и оглаживая его поверхность ладонью, это дуб. Ханс с удовольствием погладил стол. Внимательно оглядел канделябр с сальными свечами, позеленевшую керосиновую лампу. Я остаюсь, сказал он. И тут же господин Цайт бросился стаскивать с него сюртук с намерением повесить на один из придверных гвоздей, служивших вешалкой.
Жена! заорал хозяин так, словно вдруг наступил рассвет, жена, иди сюда! Постоялец! На лестнице сразу же зазвучали шаги. В комнату вошла крепко сбитая женщина в хлопчатобумажной робе и фартуке с гигантским карманом на груди. В отличие от мужа, госпожа Цайт двигалась резко и энергично. Она мгновенно сдернула с кровати постельное белье, поменяла его на другое, не такое пожелтевшее, быстро подмела пол и сбегала вниз, чтобы наполнить кувшин водой. Как только она его принесла, Ханс принялся пить и пил долго, почти не переводя дыхания. Поднимешь его багаж? обратился к жене господин Цайт. Хозяйка вздохнула. Муж воспринял ее вздох как знак согласия, кивком попрощался с Хансом и растворился в темноте.
Лежа на спине, Ханс провел ступнями по грубой простыне. Когда он почти смежил веки, ему показалось, что под полом кто-то скребется. Погружаясь в сон и постепенно теряя интерес ко всему, он подумал: завтра соберусь и поеду в другой город. Если бы он поднял к потолку свечу, то увидел бы между балок густые паутины. Сидевшее в самой гуще паутин насекомое нить за нитью ассистировало его сну.
Он проснулся поздно, с пустотой в желудке. Теплое солнце растеклось по столу и, как сироп, капало на стулья. Ханс ополоснул лицо, открыл чемодан и оделся. Подойдя к висевшей на стене картине, он убедился в том, что это действительно акварель. Рамка показалась ему слишком вычурной. Ханс снял картинку с гвоздя, чтобы получше ее рассмотреть, и обнаружил на обратной стороне маленькое зеркальце. Он снова повесил картинку на место, но развернув зеркалом к себе. Затем вылил в умывальник оставшуюся в кувшине воду, отрезал кусок мыла, нашел кисточку, бритву, ароматную эссенцию. Он брился и насвистывал, не задумываясь над мотивом.
Спускаясь по лестнице, Ханс встретил господина Цайта – держа в руке тетрадь, тот поднимался по ступенькам так, словно каждой из них вел учет. Он попросил Ханса расплатиться за номер до завтрака. Так уж у нас заведено, прокомментировал он. Ханс вернулся к себе, принес нужную сумму, щедрые чаевые и вручил хозяину с ироничной улыбкой. На нижнем этаже он осмотрелся. В конце коридора была видна большая гостиная, котелок на очаге. Перед очагом предавался праздности диван, умевший, как позже выяснил Ханс, утопить всякого, кто на него садился. По другую сторону коридора была еще одна дверь, видимо, в комнаты Цайтов, рядом стояла маленькая рождественская елка в неуместно пышных украшениях. Ханс нашел задний двор, туалеты и колодец. Посетив туалет, он сразу повеселел. Его внимание привлек запах еды. Он прибавил шагу и вскоре увидел госпожу Цайт, шинковавшую на кухне свеклу. Подобно неподвижным стражам, свисали с потолочных балок окорока, свиные и кровяные колбасы, полоски сала. На огне кипел чугунный горшок. Вереницы сковородок, половников, котелков и кастрюль радиусами преломляли утро. Поздновато вы, сударь, что ж, садитесь, приказала госпожа Цайт, не отрывая глаз от ножа. Ханс послушно сел. Обычно мы подаем завтрак в гостиной, продолжала хозяйка, но в такой час ешьте лучше здесь, я не могу оставить очаг без присмотра. Весь разделочный стол был завален овощами, отмокавшим в воде мясом, кудрявыми картофельными очистками. Кран звонко капал на внушительную стопку посуды. Внизу громоздились корзины с дровами, каменным и древесным углем. В глубине, между бидонами и кувшинами, стояли мешки с фасолью, рисом, мукой и манной крупой. Госпожа Цайт вытерла руки о фартук. Одним движением она отсекла кусок хлеба от буханки и намазала его фруктовым повидлом. Поставила перед Хансом чашку, плеснула в нее овечьего молока, а сверху добавила кофе, чуть не перебрав через край. Яичницу подавать? спросила она.
Вспоминая вчерашнее безлюдье, Ханс дивился уличному оживлению, если не сказать толчее. Впрочем, во всей этой суете чувствовалась определенная сдержанность. Пришлось признать, что город обитаем. Ханс бесцельно бродил по улицам. Несколько раз ему казалось, что он заблудился в этих кривых закоулках и периодически возвращается к одному и тому же месту. Он довольно быстро усвоил, что вандернбургские извозчики не любят тормозить, стараясь не рвать губы лошадям, и оставляют пешеходу не более секунды на спасительный прыжок в сторону. Еще он заметил, что на протяжении всего его пути в окнах шевелились занавески. Ханс попытался вежливо улыбнуться в некоторые из этих окон, но тени за стеклом мгновенно исчезали. Легкий снег хотел выбелить воздух, но был проглочен туманом. Даже голуби, пролетая над головой Ханса, оборачивались на него поглазеть. Одурев от бесконечных поворотов, намяв подошвы на булыжной мостовой, Ханс остановился передохнуть на Рыночной площади.
Эта площадь была той центральной точкой, куда сходились все дороги Вандернбурга, главной точкой города. На одном конце площади возвышалось здание городского магистрата с красной крышей и ощетинившимся фасадом. На другом – Ветряная башня. Разглядывая башню с мостовой, Ханс сразу же обратил внимание на квадратные часы, ронявшие на площадь капли точного времени. Но, подняв глаза к шпилю, он понял, что самым примечательным в башне был дрожащий, скрипучий, неугомонный флюгер.
Торговля шла не только с лотков, на которых жители города покупали продукты, но и с приехавших на площадь крестьянских телег. Кто-то пытался искать здесь поденную работу. По непонятной Хансу причине продавцы предлагали свой товар еле слышно, а сделки заключались чуть ли не шепотом, чуть ли не на ухо. На одном из лотков Ханс купил себе немного фруктов. Побродив еще какое-то время, он забавы ради стал считать, сколько занавесок пошевелилось за время его пути. Когда он снова взглянул на часы Ветряной башни, то понял, что дневной почтовый экипаж уже пропустил. Смирившись с этим фактом, он нарезал еще три-четыре круга и наконец выбрался на улицу Старого Котелка. Ночь прихлопнула город, как каменная плита.
Ханс шел по улицам вечернего Вандернбурга мимо позеленевших арок и редких фонарей, и к нему возвращались вчерашние ощущения. Горожане спешили, если не сказать панически разбегались по домам. Людей потихоньку вытесняли собаки и кошки – они вольготно носились где хотели, устраивали потасовки и подбирали уличные объедки. Входя на постоялый двор, Ханс заметил, что рождественский венок исчез с двери и что вооруженный пикой и фонарем ночной сторож уже сворачивает за угол, затягивая свой ночной псалом:
- Все по домам, до завтрашнего дня!
- Часы на церкви пробили шесть раз,
- Ложитесь спать, не жгите зря огня,
- И да хранит Господь всех нас!
Господин Цайт встретил постояльца так удивленно, словно ожидал, что тот исчезнет, не предупредив. В доме опять все вымерло, хотя, проходя мимо кухни, Ханс заметил шесть грязных тарелок, из чего сделал вывод, что есть еще четверо постояльцев. Однако его вывод оказался не совсем верным: пока он шел к лестнице, возле двери Цайтов появилась какая-то тонкая фигурка с рождественской елкой и коробкой свечей в руках. Познакомьтесь, это моя дочь Лиза, скороговоркой произнесла госпожа Цайт, проносясь по коридору. Втиснутый между конторкой и стеной господин Цайт прислушался к наступившей тишине и крикнул: Лиза, поздоровайся с господином! Лиза бросила на Ханса игривый взгляд, слегка пожала плечами и исчезла за дверью, не сказав ни слова.
Всего у Цайтов было семеро детей. Трое уже обзавелись семьями, двое умерли от кори. С родителями оставались жить Лиза, старшая из двоих, и Томас, невыносимый ребенок, не преминувший влететь в гостиную, как только Ханс приступил к макаронам и хлебу с маслом. Ты кто такой? спросил он Ханса. Ханс, ответил Ханс, на что Томас воскликнул: Тогда я тебя не знаю. В следующий миг он схватил с тарелки Ханса макаронину, крутнулся волчком и исчез в глубине коридора.
Заметив, что Ханс успел подняться на несколько ступенек, хозяин с трудом высвободил из-за конторки брюхо и пошел выяснять, не уедет ли гость завтра. Ханс твердо решил уехать, но назойливость господина Цайта вызывала такое ощущение, будто его выживают, и он назло хозяину ответил, что пока еще не определился. Казалось, такой ответ невероятно обрадовал господина Цайта, он даже проявил неожиданную любезность, спросив, не нуждается ли гость в чем-нибудь еще. Ханс поблагодарил и ответил, что не нуждается. Глядя на неподвижно стоявшего господина Цайта, он из вежливости добавил, что, если не считать Рыночной площади, улицы Вандернбурга выглядят довольно темными, и упомянул газовое освещение Берлина и Лондона. Нам здесь столько света ни к чему, отрезал господин Цайт и подтянул штаны, зрение у нас хорошее, привычки неспешные. Мы выходим из дома днем, а по ночам спим. Рано ложимся, рано встаем. Зачем нам газ?
Растянувшись на спине и зевая от усталости и недоумения, Ханс дал себе торжественную клятву завтра же собраться и уехать.
Ночь лаяла и мяукала.
На вершине Ветряной башни флюгер вспарывал туман и, казалось, пытался сорваться со своего штыря.
Во время новой прогулки по свежей изморози у Ханса возникло абсурдное ощущение, что, пока все спали, город поменял планировку. Разве мог он так ошибаться? Это невозможно было объяснить: таверна, в которой он вчера обедал, оказалась на противоположном углу, кузница, которой следовало вынырнуть из-за поворота справа, напугала его, загрохотав слева, знакомый склон, прежде, без сомнения, нырявший вниз, сегодня вдруг вздыбился, а многократно пройденный накануне переулок, выходивший, как он помнил, на широкую улицу, нынче упирался в глухой забор. Уязвленный в своем самолюбии бывалого путешественника, Ханс сперва договорился о месте в ближайшем экипаже до Дессау, а затем продолжил разбираться в этом лабиринте. Пару раз он угадывал правильное направление и уже торжествовал победу, но тут же падал духом, понимая, что снова заблудился. Единственным неизменно досягаемым местом оставалась Рыночная площадь, и Ханс без конца на нее возвращался, чтобы снова плясать от печки. Здесь он и стоял, коротая время до отхода экипажа, стараясь зафиксировать в памяти основные ориентиры и словно превратившись в солнечные часы, длинной пикой бросавшие тень на булыжную мостовую, когда на площади появился шарманщик.
Седобородый, передвигавшийся натужно, но изящно, словно пританцовывая, пусть даже и на ватных ногах, шарманщик выкатил на площадь шарманку, оставив след на девственном снегу. Его сопровождала черная собака, благодаря природному чувству ритма четко соблюдавшая дистанцию, несмотря на все задержки, пошатывания и синкопы старика. Шарманщик был одет, если это можно назвать одеждой, в бурый плащ и ветхую накидку. Он остановился на краю площади. С церемонным видом, словно репетируя предстоящее действо, расставил свои пожитки. Удобно расположившись, он отвязал потрепанный зонт, который возил прикрученным к ручке тележки. Осторожно раскрыл его и закрепил над шарманкой так, чтобы редкий снежок не падал на инструмент. Эта мелочь растрогала Ханса, и он решил дождаться, когда старик заиграет.
Но старик не спешил, а, может, просто наслаждался паузой. В глубине его бороды угадывалась лукавая улыбка, предназначенная собаке, которая смотрела на хозяина, чутко навострив треугольные уши. Шарманка была небольшая: даже установленная на тележку, она едва доставала старику до пояса, и, чтобы вращать ручку, ему приходилось к ней наклоняться. Тележка была выкрашена в зеленый и оранжевый цвет. Деревянные колеса – в красный. Эти колеса, стянутые обручами, благодаря которым им удавалось не развалиться, имели не круглую, а какую-то иную, замысловатую форму, поскольку пережили не меньше ударов судьбы, чем те времена, в которые им довелось странствовать по дорогам. Переднюю панель инструмента украшал по-детски безупречный пейзаж, изображавший реку и деревья.
Когда шарманщик начал играть, что-то неведомое коснулось каких-то неведомых пределов. Ханс не печалился о прожитом, предпочитая думать о будущем путешествии. Но по мере того как он слушал шарманку, ее металлическую повесть, ему все больше казалось, что это не он, а кто-то другой, какая-то прежняя его ипостась, вибрирует в лад музыке. Следуя за мелодией, как читают трепещущую на ветру страницу, он пережил диковинное состояние: он словно со стороны воспринимал собственные чувства, со стороны наблюдал за тем, как в нем нарастает волнение. Слух внимал шарманке, поскольку она звучала, шарманка звучала, поскольку слух ей внимал. Казалось, что старик не столько играет, сколько предается воспоминаниям. Бесплотной рукой, продрогшими пальцами он вращал ручку шарманки, и собачий хвост, площадь, флюгер, солнечный свет, полдень непрерывно вращались, потому что, едва мелодия касалась своего края, ювелирно точная рука шарманщика проделывала даже не паузу, не остановку, а лишь легкую прореху в музыкальной ткани и сразу же снова приходила в движение, и музыка снова звучала, и все снова кружилось, и холод отступал.
Очнувшись, Ханс изумился, почему никто, кроме него, не слушает шарманщика. Пешеходы шли мимо, не глядя: либо привыкли к его присутствию, либо просто спешили по своим делам. Наконец какой-то мальчик все-таки остановился. Шарманщик поприветствовал его улыбкой, и мальчик застенчиво улыбнулся в ответ. Два огромных башмака замерли позади болтавшихся шнурков парнишки, и чей-то голос прозвучал, приближаясь к его уху: Не глазей на этого господина, разве ты не видишь, как он одет, не мешай ему, пошли, пошли. Перед стариком стояла металлическая тарелка, в которую время от времени кто-то бросал медяки. Ханс заметил, что даже те, кто проявлял щедрость, не задерживались ни на минуту, чтобы послушать, просто роняли в тарелку подачку. Однако шарманщик не терял сосредоточенности и размеренности движений.
Сначала Ханс просто наблюдал за стариком. Но вдруг спохватился и понял, что и сам составляет часть картины. Он тихонько подошел ближе, стараясь всем своим видом выразить шарманщику безмерное почтение, наклонился и положил в тарелку вдвое больше монет, чем на ней лежало. Впервые с тех пор, как пришел на площадь, шарманщик поднял голову. Посмотрев на Ханса открытым, спокойным, приветливым взглядом, он продолжал играть, не меняясь в лице. Старик не перестал играть, подумал Ханс, потому что заметил, какое наслаждение доставляет мне его музыка. Однако пес шарманщика, обладавший, по всей видимости, более практичным складом ума, счел уместным соблюсти все правила этикета: он прищурил глаза, словно посмотрел на солнце, растянул в улыбке пасть и высунул длинный розовый язык.
Когда шарманщик сделал перерыв, Ханс решился с ним заговорить. Не сходя с места и потихоньку отсыревая под мелким снежком, они немного поболтали. Обсудили холод, расцветку листвы вандернбургских деревьев, различия между мазуркой и краковяком. Ханса очаровали сдержанные манеры шарманщика, а старику пришелся по душе глубокий голос собеседника. Сверившись с часами на Ветряной башне и прикинув, что у него есть еще час до тех пор, когда пора будет возвращаться на постоялый двор за вещами и идти к экипажу, Ханс предложил шарманщику выпить в соседней таверне. Шарманщик с поклоном согласился, но сказал: В таком случае я должен вас познакомить. Он спросил у Ханса его имя и обратился к собаке: Франц, я хочу представить тебя господину Хансу, господин Ханс, познакомьтесь: мой пес Франц.
Хансу казалось, что шарманщик вел себя так, словно ждал этой встречи с самого утра. По дороге старик остановился поздороваться с какими-то нищими. Из его отрывистых фраз стало ясно, что они хорошо знакомы, шарманщик оставил им половину собранных денег, а затем без долгих прощаний поспешил за Хансом. Вы всегда так делаете? спросил Ханс, кивая на нищих. Как? не понял сначала шарманщик, я про деньги, а! нет, я не могу себе этого позволить, сегодня я оставил им ваши деньги, чтобы вы знали: приглашение я принял не из корысти, а только потому, что вы мне симпатичны.
У дверей таверны «Центральная» старик приказал Францу ждать. Они оставили инструмент на попечении собаки и вошли, Ханс впереди, шарманщик за ним. Заведение ломилось от народа. Жар печей и плит, табачный дым, все сплеталось в раскаленную ткань, в которой вязли голоса, дыхание и запахи. Табачный дым, как зверь, выгибал хребет и пожирал посетителей. Ханс недовольно скривил лицо. С большим трудом, стараясь не толкать шарманщика, он отвоевал им место возле барной стойки. Старик все время рассеянно улыбался. А Ханс чувствовал себя крайне скованно, как гость на чужом пиру. Они заказали пшеничного пива, чокнулись, не отлепляя локтей от боков, и продолжили общаться. Ханс заметил старику, что накануне он его не видел. Тот объяснил, что зимой приходит на Рыночную площадь только по утрам, а не после обеда, когда на улице холодает. Ханса не покидало ощущение, что они обошли какой-то главный разговор и разговаривают так, словно уже сказали все, чего на самом деле не говорили. Они выпили еще по кружке, потом еще. Отличное пиво, похвалил старик, не утирая пену с бороды. Улыбка Ханса за стеклом кружки изогнулась дугой.
Приходил возница, спрашивал о вас, подождал немного и ушел в большой досаде, сообщил господин Цайт. А затем глубокомысленно, словно речь шла о непростом умозаключении, воскликнул: Сегодня уже вторник! Чтобы что-то сказать в ответ, Ханс согласился: Точно, вторник. Господин Цайт, казалось, был очень доволен и спросил Ханса, останется ли он еще на какое-то время. Ханс засомневался, на этот раз искренне, но ответил: Вряд ли, мне нужно в Дессау. Однако поскольку он вернулся в добродушном настроении, то решил добавить: Хотя заранее никогда не знаешь.
Утонувшая в диване и окрашенная отблесками печного огня в оранжевый цвет, госпожа Цайт штопала огромные носки, и Ханс подумал: интересно, это ее носки или мужа? Увидев постояльца, хозяйка встала. Она сообщила, что ужин готов, и попросила его не шуметь, потому что дети легли спать. Почти в ту же секунду ее слова опроверг Томас, вихрем ворвавшись в дверь с пригоршней зажатых в кулаке оловянных солдатиков. Он со всего разбегу врезался в мать, затормозил, подержал на весу дрожащую, бледную, худенькую ногу. И с той же скоростью, с которой влетел, вылетел обратно. Где-то в комнатах Цайтов хлопнула дверь. И тотчас же пронзительный девичий голос выкрикнул имя мальчишки и запричитал, но слов было не разобрать. Нечистая сила! процедила хозяйка сквозь зубы.
Лежа в кровати с приоткрытым ртом, словно в ожидании капли с потолка, Ханс прислушивался к своим мыслям: завтра, самое позднее послезавтра, соберусь и обязательно уеду. Когда он уже засыпал, ему показалось, что чьи-то легкие шаги приблизились и замерли у его двери. Он даже как будто расслышал чье-то взволнованное дыхание. Но утверждать бы не стал. Скорее всего, это дышал он сам, дышал он сам, дышал все глубже, все глубже, все.
Ханс отправился на Рыночную площадь проведать шарманщика. Он нашел его на том же углу, играющим все в той же позе. Заметив молодого человека, старик подал собаке знак, и Франц побежал навстречу гостю, размахивая хвостом, словно маятником метронома. Ханс и шарманщик пообедали, поев горячего супа, овечьего сыра и хлеба с печеночным паштетом и запив все это несколькими кружками пива.
Рабочий день шарманщика закончился, и они двинулись по Речной аллее к Высоким воротам, отделявшим Вандернбург от его пригородов. После протестов по поводу оплаченного обеда старик уговорил Ханса перекусить у него в гостях.
Они шли, по очереди дожидаясь друг друга каждый раз, когда шарманщик делал остановку, чтобы отдышаться, когда Ханс из любопытства сворачивал в какой-нибудь закоулок или когда Франц в очередной раз задирал заднюю лапу. За разговорами я так и не спросил, вспомнил Ханс, как вас зовут? Видишь ли, ответил шарманщик, перейдя на «ты», имя у меня некрасивое, и поскольку я никогда его не произношу, то почти уже забыл. Пусть я буду просто «шарманщик», для меня это самое лучшее имя. А тебя как зовут? (Ханс, ответил Ханс), это я знаю, но как твое имя? (Ханс, повторил с улыбкой Ханс), ну что ж, какая разница, верно? эй, пес! будь любезен не писать на каждый встречный камень! у нас сегодня гость, веди себя прилично, уже темнеет, а мы еще не добрались до места, вот молодец! так-то лучше.
Они миновали Высокие ворота. За небольшим участком ухабистой грунтовой дороги им открылись сельские поля, приглаженные и безупречно выбеленные. Ханс впервые видел эту бескрайнюю равнину, буквой «U» обнявшую Вандернбург с юга и востока. Вдали виднелись изгороди, окоченевшие пастбища, озимые поля в ледяном оцепенении. В конце дороги он различил деревянный мост, ленту реки, а за ней сосновую рощу и каменистые холмы. И только сейчас, заметив, что не видит впереди никакого жилья, Ханс спросил себя, куда же его ведут. Угадав мысли гостя и лишь добавляя ему сомнений, шарманщик на секунду отпустил ручку тележки, взял Ханса за локоть и сказал: Мы почти уже пришли.
Ханс прикинул, что от Рыночной площади до этого места примерно километра три. Если бы он взошел на каменистый холм позади сосновой рощи, то смог бы окинуть взглядом всю равнину и весь город. Он увидел бы главную дорогу, подходившую к городу с востока, ту, по которой приехал сюда ночью и по которой несколько дилижансов спешили на север, направляясь в Берлин, и несколько – на юг, в сторону Лейпцига. С противоположной, западной стороны от полей, вокруг текстильной фабрики, пачкавшей небо своей кирпичной трубой, месили воздух ветряки. На огороженных полях похожие на разбросанные точки крестьяне готовили землю к вспашке, медленно перемещаясь с места на место. Молчаливым свидетелем струилась мимо них река Нульте. Анемичная, непригодная для судоходства. Ее течение казалось вялым и покорным. Под эскортом двух шеренг тополей Нульте продиралась сквозь равнину, словно взывая о помощи. Сверху, с холмов, она напоминала взбитый ветром завиток воды. Не река, а скорее воспоминание о реке. Вандернбургская река.
Они перешли Нульте по деревянному мостику. Сосновая роща и каменистые холмы – это все, что было перед ними. Ханс не решался задавать вопросов, отчасти из вежливости, отчасти потому, что, куда б они ни шли, окрестности города были ему в равной мере интересны. Они пересекли сосновую рощу почти по прямой. Ветер гудел в ветвях, шарманщик отвечал ветру свистом, Франц отвечал свисту лаем. Когда они вышли к подножию скал, Ханс подумал, что единственный возможный путь теперь – через камни.
К его удивлению, туда они и пошли.
Шарманщик остановился возле какой-то пещеры и начал разгружать тележку. Франц бросился внутрь и появился с куском селедки в зубах. Сначала Ханс подумал, что это безумие. Потом, оглядевшись, решил, что чудо. Давно никто не удивлял его так, как этот старик, с улыбкой обернувшийся к гостю. Прошу, сказал шарманщик, гостеприимно простирая руку. Ханс с такой же театральной церемонностью отступил на несколько шагов назад, чтобы лучше оценить устройство пещеры. Приглядевшись, можно было заметить, что эта пещера, хоть и непохожая на человеческое жилье, имела удачное расположение. Ее окружали сосны, достаточно густые, чтобы создать некоторую преграду ветру и дождю, но не заслонявшие при этом входа. Рядом текла Нульте, так что воды было в достатке. И в отличие от других склонов того же холма, лишенных растительности и покрытых глиной, вход в пещеру обрамляла густая растительность. Словно подкрепляя выводы Ханса, шарманщик сказал: Из всех гротов и пещер эта – самая уютная. Ханс пригнулся, чтобы войти внутрь, и заметил, что там теплее, чем он ожидал, хотя и очень влажно. При помощи трута старик зажег несколько больших сальных свечей. Пещера осветилась, шарманщик повел гостя по всем закоулкам, словно показывал дворец. Большое преимущество в том, что здесь нет дверей, пояснял он, это позволяет нам с Францем наслаждаться пейзажем даже в постели. Как ты заметил, стены не очень гладкие, но эти выступы оживляют, создают интересную игру света, и какую игру! (старик стремительно повернулся вокруг своей оси, свеча в его руке очертила по стенам бледный круг, попыталась погаснуть, но не погасла), а кроме того, они образуют много, так сказать, закутков, где можно укрыться от посторонних глаз и поспать в полной безопасности. Посторонние глаза я упомянул потому (прошептал, подмигнув Хансу, старик), что Франц любит совать свой нос в чужие дела и всегда хочет знать, чем я занят, порой мне кажется, что хозяин в доме он, а не я. Но я тебе ничего не говорил, пошли дальше! Внутренность пещеры, как видишь, очень проста, хотя, обрати внимание, сколько здесь покоя, какая тишина, только лес шумит. Кстати! Что касается акустики, смею тебя заверить, что эхо в ней впечатляющее, и если играть на шарманке в пещере, то чувствуешь себя так, словно только что осушил целую бутылку.
Ханс слушал его с волнением. Хотя сырость, сумрак и грязь он не любил, но подумал, что было бы замечательно провести здесь день, а может быть, и ночь. Старик развел костер из кустиков дрока, остатков сена и газет. Франц бегал к реке, чтобы напиться, и вернулся весь в ледышках, с вздыбленной шерстью и немного побледневшими пятнами на лапах. Увидев костер, он бросился к нему так прытко, что чуть не опалил себе хвост. Ханс засмеялся. Шарманщик предложил гостю вина из оплетенной бутыли, стоявшей в одном из углов пещеры. Только теперь, в отсветах зажженного костра, Ханс разглядел все пространство до потолка, всю странную обстановку пещеры. Возле входа от стены к стене тянулась веревка с развешанной на ней одеждой. Под веревкой торчал воткнутый в землю зонт. Рядом красовались две пары башмаков, одни – совершенно изношенные, набитые скомканной газетой. Расставленные в ряд по размеру, опирались о стену керамические горшки, тарелки, пустые бутыли с затычками, латунные кружки. В одном углу лежал соломенный тюфяк, заваленный простынями и потрепанными шерстяными пледами. Вокруг тюфяка, словно на неприбранном туалетном столике, валялись миски, ножницы, деревянные шкатулки, куски мыла. Между двумя выступами скалы торчала связка газет. В глубине пещеры громоздились обувные коробки с гвоздями, винтами, многочисленными запасными деталями, приспособлениями и инструментами для ремонта шарманки. Посреди пещеры лежал не имевший ни единого изъяна, восхитительно неуместный здесь ковер, на который ее обычно ставили. Хансу не попалось на глаза ни одной книги.
Тепла хватало только на часть пещеры. В радиусе метра от костра воздух прогрелся и ласкал кожу. Но уже на сантиметр дальше стоял холод и выстуживал все, что в него попадало. Франц, похоже, успел уснуть или сосредоточился на том, чтобы согреться. Ханс потер ладони, подул между ними. Натянул поглубже берет, еще пару раз обмотал вокруг шеи платок, поднял лацканы сюртука. Он поглядел на изношенный, ветхий плащ шарманщика с выщербленными пуговицами. Послушайте, сказал Ханс, вам не холодно в этом плаще? Ну, он, конечно, уже не тот, что был прежде, ответил старик. Но у меня с ним связаны хорошие воспоминания, а это тоже греет, правда?
Костер потихоньку гас.
Еще несколько дней после знакомства с шарманщиком Ханс время от времени порывался уехать. Но, сам не понимая почему, продолжал откладывать отъезд. Помимо манеры игры, Ханса привлекало в шарманщике его отношение к собаке. У Франца, широколобого ховаварта, была внимательная морда и беспокойный, пушистый хвост. Лай он экономил, как деньги. За пределами города старик всегда поручал ему выбирать дорогу, вел с ним беседы, а на сон грядущий насвистывал ему мелодии своей шарманки. Франц, судя по всему, обладал незаурядной музыкальной памятью, потому что, если мелодия обрывалась не вовремя, он тут же начинал протестовать. Иногда хозяин и собака обменивались многозначительными взглядами, как будто вслушиваясь в какие-то недоступные для других звуки.
Не особенно вдаваясь в подробности, Ханс объяснил старику, что путешествует, ездит по свету и останавливается там, где хочет посмотреть что-то новое. И не покидает этого места до тех пор, пока не станет скучно или не захочется уехать и заняться чем-нибудь другим в других краях. Как-то раз он предложил шарманщику отправиться вместе с ним в Дессау. Шарманщик, никогда не задававший Хансу вопросов, на которые тот, скорее всего, не захотел бы отвечать, попросил его остаться еще на неделю и не лишать его своей компании.
Ханс вставал поздно, по крайней мере, позже, чем те немногочисленные постояльцы, которые, судя по объедкам, шагам на лестнице и хлопанью дверей, проживали на постоялом дворе. Завтракал он под присмотром госпожи Цайт, чье яростно-виртуозное владение кухонными ножами будило его рано или поздно каждый день, или ходил перекусить в «Центральную». Потом он некоторое время читал, выпивал чашку кофе, вернее, две и шел на площадь к шарманщику. Слушал музыку, смотрел, как старик вращает рукоятку, и предавался всяческим воспоминаниям. В такт оборотам валика он думал о тех многочисленных местах, в которых побывал, о путешествиях, которые ему еще предстояло совершить, о людях, которых не всегда хотелось вспоминать. Иной раз, когда часы на Ветряной башне давали знать, что шарманщику пора домой, Ханс провожал его до пещеры. Выбравшись из центра города, они шли по Речной аллее до Высоких ворот, по проселочной дороге до моста, через мост над журчащей Нульте и, миновав сосновую рощу, оказывались у подножия скалистых холмов. Бывало, что Ханс приходил в пещеру ближе к вечеру, и шарманщик встречал его бутылью вина и горящим костром. Они коротали время за вином и беседой и слушали реку. После нескольких таких вечеров Ханс перестал бояться сельской дороги и возвращался к себе на постоялый двор пешком. Его провожал Франц и оставлял одного, только когда впереди начинали маячить фонари Высоких ворот. Поднятый с постели, с отпечатками подушки на толстых брылах, ворча, чертыхаясь сквозь зубы и всхрапывая на ходу, двери ему открывал господин Цайт. Ханс шел наверх спать, спрашивая себя по дороге, сколько еще будет терпеть свою скрипучую койку.
Цайты вставали ни свет ни заря, к этому времени Ханс едва успевал поспать несколько часов. Отец семейства собирал всех домочадцев, читал отрывок из Библии, и они вчетвером завтракали на хозяйской половине. Потом каждый шел по своим делам. Господин Цайт устраивался за конторкой и, разложив газету на обширном пюпитре своего живота, проводил в этой позе несколько часов, а затем, почти уже в полдень, шел разбираться с платежами и счетами. По дороге домой он заходил пропустить пару кружек пива и послушать сплетни о соседях – он утверждал, что в этом состояла часть его работы. Что касается госпожи Цайт, то она приступала к бесконечной веренице дел: готовке, перетаскиванию дров, глажке, уборке, завершавшейся после ужина последними стежками штопки у очага. Только после этого она позволяла себе разгладить чело, сменить фартук на легкое одеяние из фланели, которое упорно величала «кимоно», и, покачиваясь, удалиться в нем в спальню, понуро, но все же грациозно.
Лиза водила Томаса в школу. Помимо привычки непрерывно скакать и не делать вовремя уроки, этот ребенок имел еще один порок, приводивший в ярость его сестру: он выпускал газы всякий раз, когда ему того хотелось. И всякий раз, когда он это делал, Лиза выбегала из их общей комнаты и бросалась к матери, требуя воздаяния. Пока разъяренная госпожа Цайт надрывала горло, угрожая сыну всяческими карами, мальчишка снова брался за свое. И так, хохоча и пукая, пукая и хохоча, заканчивал одеваться. На обед он возвращался домой, потом снова шел в школу, а еще два раза в неделю посещал уроки катехизиса. Лиза школу не посещала, хотя была гораздо усерднее брата во всем, чему ее учили. Проводив Томаса, Лиза помогала матери, ходила за покупками на Рыночную площадь и стирала белье в Нульте, что было особенно тяжело зимой, когда приходилось искать промоины во льду. Для своего возраста Лиза была высокой и довольно худой, хотя в последний год начала утрачивать худобу, радуясь этому факту, но и слегка из-за него тревожась. У нее была очень нежная кожа, покрытая легким пушком везде, кроме кистей рук: по контрасту с бархатистыми плечами и шеей ее руки выглядели непривлекательно. Покрасневшие суставы, ободранная кожа на пальцах, опаленные ледяной водой запястья. Как-то утром Ханс объявил, что хотел бы принять горячую ванну. Лиза взялась наполнять лохань, таская снизу черпаки с кипятком. Когда Ханс нечаянно задержал взгляд на ее руках, она смутилась и спрятала их за спину. Чтобы загладить неловкость, Ханс постарался отвлечь ее разговором. Лиза как будто бы благосклонно приняла его маневр и впервые перекинулась с ним парой слов. Ханса удивила непринужденность и сметливость девочки, которую раньше он считал тихоней. Когда ванна была наполнена, он повернулся к ней спиной, чтобы открыть чемодан, и ему показалось, что Лиза медлит у двери. Когда дверь за ней закрылась, он устыдился собственных мыслей.
Обеспокоенный аскетизмом шарманщика, питавшегося только вареной картошкой, вымоченной селедкой, сардинами и вареными яйцами, Ханс стал приносить в пещеру мясо, хороший овечий сыр и приготовленные госпожой Цайт колбаски. Шарманщик принимал все эти яства, но, когда Ханс уходил, скармливал их Францу. Уловка была замечена, и тогда старик объяснил, что безмерно благодарен Хансу за его щедрость, но много лет назад дал себе клятву жить только на заработанное шарманкой, ведь на то он и шарманщик. В конце концов Хансу удалось уговорить его ужинать вместе. Однажды вечером, когда они делили у костра порцию шпигованной телятины и риса с овощами, Ханс спросил, не одиноко ли ему в пещере. Как мне может быть одиноко, ответил шарманщик, не прекращая жевать, если за мной всегда присматривает Франц, верно, мошенник? (Франц подошел лизнуть хозяину руку, а заодно прихватить кусок мяса), кроме того, меня навещают друзья (кто? спросил Ханс), у тебя еще будет случай с ними познакомиться (старик подлил себе вина), не сегодня, так завтра они непременно придут.
И действительно, спустя пару дней Ханс застал в пещере двух гостей: Рейхардта и Ламберга. Никто не знал, сколько Рейхардту лет, но он явно был вдвое старше Ламберга. Рейхардт зарабатывал поденно: полол, пахал, косил и выполнял любые сезонные работы. Вместе с остальными поденщиками он жил на церковных землях, в двадцати минутах ходьбы от пещеры. Рейхардт был из тех пожилых людей, кто физически неплохо сохранился, но кажется даже старше своих лет, потому что остатки молодости в жилистом теле откровеннее обнажают нанесенный временем ущерб. Его суставы уже плохо ему подчинялись, безволосая кожа растрескалась и выглядела так, словно обгорела на солнце. К тому же во рту у него не хватало половины зубов. Рейхардт обожал сквернословить и получал от брани больше удовольствия, чем от темы разговора. Увидев в тот вечер Ханса, он приветствовал его словами: Значит, ты, черт подери, и есть тот самый тип, что явился незнамо откуда. Чрезвычайно польщен знакомством, ответил Ханс. Твою мать! загоготал Рейхардт, шарманщик, ядрена вошь! да этот парень недотрога еще почище, чем ты мне рассказывал!
Ламберг обычно слушал и молчал. В отличие от Рейхардта, частого гостя в пещере, он приходил либо по субботам, либо в воскресенье вечером, если бывал свободен. С двенадцати лет он работал на текстильной фабрике Вандернбурга. Жил в рабочем поселке, в общей комнате, плату за которую хозяева удерживали из его жалованья. Его задеревеневшее тело всегда выглядело так, как будто его свело судорогой. Из-за ядовитых фабричных испарений глаза постоянно воспалялись. Все, на что он смотрел, словно меняло цвет и раскалялось. На разговоры Ламберг был скуп. Голоса никогда не повышал. Возражал очень редко. Обычно ограничивался тем, что, как штыри, втыкал в собеседника свои красные глаза.
Франц по-разному относился к гостям: игриво фамильярничая с Рейхардтом, то и дело облизывая ему руки и заставляя чесать себе живот, он лишь изредка настороженно обнюхивал ноги Ламберга, словно никак не мог привыкнуть к его запаху. Пока вино ходило по кругу, Ханс сидел напротив двух гостей и наблюдал, как по-разному они пьянеют. Рейхардт пил умело: много размахивал стаканом, но редко подносил его к губам. Захмелев, не терял головы, как игрок, дожидающийся, чтобы соперник вконец опьянел. И наоборот, в жадной жажде Ламберга чувствовалось юношеское безрассудство. Впрочем, думал Ханс, возможно, Ламберг хочет поскорее забыться и поэтому пьет так, словно глотает не только алкоголь, но и слова, которые никогда не произносит.
Сначала Хансу захотелось остаться с шарманщиком вдвоем, чтобы спокойно поговорить, как это бывало обычно. Однако через пару часов он заметил, что Рейхардт обзывает его уже поласковей, а Ламберг мягче хлопает по спине. Тогда с гордой отстраненности Ханс переключился на оживленную говорливость. Рассказал несколько историй о своих путешествиях: одни были невероятными, но правдивыми, другие – правдоподобными, но выдуманными. Потом рассказал о постоялом дворе, о том, как госпожа Цайт режет рыбу, как Томас портит воздух, а Лиза при этом визжит. Когда он заковылял вразвалку, изображая господина Цайта, Ламберг впервые засмеялся, но тут же смутился и шумно, как лапшу, втянул в себя смех обратно.
Через табачный дым и марево печей к нему приближался муниципальный советник. Ханс был удивлен вдвойне: во-первых, он никогда не видел этого человека, а во-вторых, было уже довольно поздно. Осклабившись с приторной любезностью, советник прижал Ханса к барной стойке. Ханс наклонился к своей кружке и отхлебнул пива. Но советник не уходил: он явился явно не для приветствий.
После нескольких цветистых фраз, украшенных фальшивыми оборотами вроде «милостивый государь, дорогой гость, уважаемый господин», советник зыркнул на Ханса совсем другим взглядом, словно вдруг сфокусировал линзу, и Ханс понял, что сейчас он скажет то, ради чего пришел. Мы бесконечно рады видеть вас в нашем обществе, начал свою речь советник. Город Вандернбург весьма благосклонно относится к туризму, ведь вы приехали к нам как турист, не так ли? (да, можно так считать, ответил Ханс), и это нам, поверьте, очень приятно, у вас еще будет случай убедиться в том, насколько гостеприимны жители нашего города (это я уже заметил, успел ввернуть свою реплику Ханс), очень рад, очень рад, одним словом, знайте, что вы здесь желанный гость. Однако позвольте полюбопытствовать: вы местный, родом из здешних мест? и долго ли собираетесь у нас гостить? (я с визитом, коротко ответил Ханс, и родом я не здешний), ах вот как, понимаю. (Щелкнув пальцами, советник потребовал два пива. Официант бегом бросился выполнять заказ.) Ну что ж, милостивый государь, приятно иметь дело с таким светским человеком, мы рады, что нас посещают образованные люди. Возможно, вы заподозрите меня в нескромности, и в таком случае прошу меня простить, но я всегда стараюсь быть осведомленным, любознательность, знаете ли, друг мой! фундаментальнейшее преимущество! так что вы уж извините, я говорил, что, войдя сюда, обратил внимание на ваш костюм (на мой костюм? притворно изумился Ханс), да, вот именно! на ваш костюм, и, рассмотрев его, подумал: без сомнения, гость наш – человек утонченный, и это, уверяю вас, нам приятно. Но в то же время, подумал я, если присмотреться, не выглядит ли он слишком вызывающе? (вызывающе? переспросил Ханс, успевший за долгое время усвоить, что лучший способ вести себя на дознании – с интересом повторять каждый вопрос), вот именно! вызывающе! вижу, мы друг друга понимаем! поэтому я и решил (и вы можете не сомневаться, что с самыми лучшими намерениями) посоветовать вам, насколько это возможно и, конечно, ни в коей мере не стесняя вашей свободы, не провоцировать болезненной реакции властей (советник снова заулыбался, указывая на классическую немецкую одежду Ханса, возмутившую восстановленную власть), я, конечно, имею в виду, поспешил добавить он, чтобы не позволить Хансу повторить свою последнюю фразу, конкретную одежду, особенно берет (берет? переспросил Ханс. Советник нахмурил брови). Именно, берет. И подчеркну еще раз: ни в коей мере не стесняя вашей свободы (понимаю, сказал Ханс, вы весьма любезны, и мы с моей свободой бесконечно благодарны вам за совет), вот и хорошо, очень хорошо.
Прежде чем проститься и желая сгладить неприятный эффект от своих замечаний, а может быть, стремясь поближе изучить гостя, советник пригласил его на прием, который в тот же вечер давали городские власти в честь юбилея какой-то местной знаменитости. Будут представители лучших семейств Вандернбурга, сказал советник, ну, вы понимаете, образованные люди, газетчики, предприниматели. И именитые приезжие, добавил он, словно вдруг включив внутри себя праздничное освещение. Ханс подумал, что, наверно, наименее опасно и наиболее занятно будет не игнорировать этот прием. Он принял приглашение, копируя церемонные манеры советника. Оставшись один, он вышел на Рыночную площадь и взглянул на часы на Ветряной башне. По его расчетам, времени хватало как раз на то, чтобы вернуться на постоялый двор, принять ванну и переодеться.
К разочарованию Ханса, за весь вечер он не заметил ничего примечательного. Невероятно скучное мероприятие тянулось с достойной сожаления монотонностью. Внутри здание городского магистрата не отличалось от ему подобных: тот же пафос, тот же гипс. Муниципальный советник сразу же бросился к нему с приветствиями и, выразив всю свою фиглярскую сердечность, взялся представить его председателю муниципального совета Ратцтринкеру. Ваше превосходительство, проворковал он, имею честь представить вам… Обладатель острого носа и прилизанных усиков, председатель Ратцтринкер пожал Хансу руку, не удостоив его даже взглядом, и удалился приветствовать других гостей. При взгляде сверху зал приемов казался танцевальной площадкой, по которой непрерывно сновали сюртуки с косыми фалдами, пелерины карриков с заостренными воротниками, галстуки броских цветов и отливающие глянцем ботинки. Ханс сменил визитку, обтягивающие панталоны, шейный платок и берет на фрачную тройку, хотя и ненавистную, но сидевшую на нем весьма неплохо.
Перебрасываясь словом то с одним, то с другим гостем и ни с кем не вступая в длительный разговор, Ханс в конце концов нашел тихий угол и стал поджидать подходящего момента, чтобы изящно улизнуть. Там он наткнулся на господина с прелюбопытными усами и янтарной трубкой, только что вернувшегося из туалетной комнаты. Когда двое незнакомцев критикуют какое-нибудь тоскливое мероприятие, это означает, что им весело вдвоем, нечто подобное произошло с Хансом и господином Готлибом, который утверждал, что изнывает от скуки, и не давал просохнуть своим усам, похожим на взъерошенную птицу на краю фонтана. За неимением более интересных собеседников Ханс охотно согласился на его компанию и в разговоре проявил себя не самым последним занудой. Господин Готлиб, вдовец, глава состоятельного рода, занимался, как он сообщил, импортом чая и текстильным производством, хотя из-за возраста уже почти отошел от дел. Слова «из-за возраста» он произнес, дрогнув усами, чем вызвал симпатию Ханса. Казалось, и господину Готлибу неформальный тон их общения пришелся по душе. После трех бокалов вина и пары анекдотов он решил, что Ханс хоть и странный, но довольно приятный молодой человек, и в порыве энтузиазма пригласил его выпить у него чаю на следующий же день. Ханс обещал прийти, и на прощание они сдвинули бокалы. Свет люстр поплыл и утонул в вине.
Развернувшись, чтобы уйти, Ханс тут же отдавил ногу муниципальному советнику. У вас все в порядке, маэстро? осклабился советник, принимая позу цапли и вытирая башмак о собственные брюки.
Дом Готлибов находился всего в нескольких метрах от Рыночной площади, на углу Оленьей улицы. Входом в него служили массивные ворота. Левая, более широкая створка, снабженная бронзовым дверным молотком в виде рычащего льва, вела на сводчатую галерею, к каретным сараям. Правая, с молотком в форме ласточки, вела к лестнице и во внутренний двор. Ханс стукнул в ворота ласточкой. Сначала ему показалось, что никто не спешит открывать. Он снова взялся за крылья ласточки и хотел было постучать во второй раз, но тут раздались сбегавшие по ступенькам торопливые шаги. Они приблизились, постепенно замедляясь, и наконец замерли по ту сторону ворот. Взгляд Ханса уткнулся в верхнюю губу Бертольда.
У Бертольда, камердинера господина Готлиба, на верхней губе был тонкий шрам, деливший ее на две части, отчего все время казалось, что камердинер хочет что-то сказать. Шрам шевельнулся, Бертольд произнес приветствие. Раньше мы держали привратника, пояснил он, одергивая манжеты, но… Камердинер повел Ханса к каменным ступеням, покрытым ковровой дорожкой вишневого цвета, которую удерживали латунные прутья. Лестничная балюстрада с дубовыми перилами вычерчивала ломаную линию. Они вошли на основной этаж, второй, где находились комнаты Готлибов. Если бы Ханс продолжил подниматься, то увидел бы, что выше лестница становилась другой: она сужалась, лишалась ковра, меняла каменные ступени на скрипучие доски и фальшивый мрамор облицовки на известку. На третьем этаже жила прислуга. В мансарде на четвертом – кухарка и ее дочь.
Ханс и Бертольд прошли по ледяному вестибюлю и длинному коридору, в котором дуло, как на мосту. Потолки были так высоки, что их едва можно было разглядеть. В конце коридора замаячили пышные усы господина Готлиба. Проходите, милости просим, сказал хозяин дома, дымя трубкой, спасибо, Бертольд, чувствуйте себя, как дома, сюда, сюда, присядем в гостиной.
Ханс шел через большую гостиную, читая по ней историю со всеми ее извилистыми ходами: предметы обстановки в имперском стиле, слегка провинциальная избыточность классических мотивов, вычурность колонн и капителей, претенциозные параллелизмы, назойливость кубических форм. Почти всю мебель, сделанную, как определил Ханс, из красного дерева, украшали облицовочные панели и накладки с излишне скрупулезной гравировкой, как это принято в странах, которые стремятся подражать Франции. Поверх этих накладок громоздились дополнительные украшения, в основном в стиле Луи XVIII, призванные, хоть и безуспешно, маскировать ход времени, но в более современных предметах обстановки чувствовалась строгость уже иного порядка, результат какой-то метаморфозы (как бывает у насекомых), приведшей постепенно и незаметно для глаз к изогнутым линиям и более светлым сортам дерева (вяз, решил Ханс, или, пожалуй, ясень, а может, черешня), словно все битвы и замирения, в очередной раз пролитая кровь и новые перемирия лишили красное дерево сил, обездвижив его инкрустациями из амаранта и эбенового дерева и окончательно добив розетками, лирами и легкими, не слишком долговечными коронами. Пока господин Готлиб вел его к невысокому столу, Ханс по отдельным деталям бидермейера определил, что владелец дома переживает не лучшие времена. Во всей этой обстановке почти не чувствовалось застенчивого германского уюта, разве что в каком-нибудь серванте или овальном столике, лишенном победных углов, да в скромном ореховом дереве или березе. Этот дом, сделал для себя вывод Ханс, садясь в кресло, искал, но не нашел покоя.
В ожидании чая они беседовали о делах (господин Готлиб говорил, а Ханс слушал), о путешествиях (говорил Ханс, а господин Готлиб слушал), на прочие темы, в равной степени приятные и курьезные. Господин Готлиб был опытным хозяином и умел создать непринужденную обстановку, не оставляя гостя без внимания ни на секунду. Заметив, что Ханс косится на окна, он встал и пригласил его полюбоваться открывающимся из них видом. Под просторными окнами, через весь фасад, до угла Оленьей улицы тянулся балкон. Выглянув налево, можно было увидеть половину Рыночной площади и настороженный контур Ветряной башни. Если бы какой-то зритель смотрел с противоположной стороны, например из башенной бойницы, балкон Готлибов показался бы ему повисшей в воздухе чертой, а фигура Ханса – едва различимой на стене точкой. В этот момент Ханс услышал у себя за спиной позвякивание чашек, распоряжения господина Готлиба и его зычный оклик, призывавший некую Софи.
Юбки Софи Готлиб зашуршали по коридору. Этот щекочущий звук вызвал у Ханса какую-то невнятную тревогу. Через несколько секунд силуэт Софи возник из тени коридора в освещенной гостиной. Доченька, сказал господин Готлиб, хочу представить тебя господину Хансу, он в нашем городе проездом. Уважаемый господин Ханс, представляю вам Софи, мою дочь. Софи поздоровалась, приподняв дугой одну бровь. Ханса охватило острое желание наговорить ей комплиментов или сломя голову сбежать. Не найдя нужных слов, он неуклюже брякнул: Я и не подозревал, что вы так молоды, госпожа Готлиб. Милостивый государь, холодно ответила она, согласитесь, что это достоинство скорее непреднамеренного свойства. Ханс почувствовал себя полным идиотом и снова сел в кресло.
Сбившись с правильного тона, он стал путаться в предложениях. Пришлось брать себя в руки. Полувежливый, полуироничный ответ Софи на другой его неловкий комментарий, один из тех, которыми мужчины пытаются слишком быстро расположить к себе собеседницу, заставил его обратиться к более тонкой стратегии. По счастью, в это время Эльза, горничная Софи, принесла чай. Сев за стол, Ханс, господин Готлиб и его дочь обменялись несколькими обязательными, ничего не значащими фразами. Софи почти не вмешивалась в разговор, но у Ханса создалось впечатление, что именно она задает здесь тон. Помимо проницательности ее замечаний, Ханса весьма впечатлила ее манера говорить: она как будто подавала каждое слово, тщательно, чуть ли не нараспев, интонируя фразу. Ханс слушал, переключаясь с тона на смысл, со смысла на тон, и старался не поддаться головокружению. Несколько раз он делал попытки отпустить какую-нибудь реплику, которая привела бы ее в замешательство, но явно не сумел нарушить безмятежного равнодушия Софи Готлиб, откровенно, в упор наблюдавшей за тем, как он то и дело откидывает со лба свои длинные волосы.
Когда они приступили к чаю, Ханса поджидало новое потрясение: руки Софи. Не внешний вид ее необычно длинных пальцев, а манера прикасаться к предметам, ощупывать их форму, исследовать их осязательно. Дотрагиваясь до любой вещи, будь то чашка, край стола или складка одежды, пальцы Софи словно определяли ценность этой вещи, читали все, к чему прикасались. Следя за быстрым, настороженным движением ее рук, Ханс вдруг почувствовал, что понимает Софи, понимает, что ей необходимо все перепроверять самой, что ее отстраненность есть лишь глубокое недоверие к миру. От этой догадки Хансу стало немного легче, и он перешел к скрытой атаке. Поскольку господин Готлиб не потерял интереса к беседе, Ханс решил, что разумнее всего будет обращаться к Софи через ответы, адресованные ее отцу. Он оставил попытки произвести на нее впечатление, сделал вид, что перестал ее замечать, и направил всю свою изобретательность и импровизаторские способности на господина Готлиба, заставляя его усы подрагивать от удовольствия. Такое смещение акцентов, казалось, принесло свой результат, и Софи подала знак Эльзе, чтобы та раздвинула шторы. Свет одним аккордом сменил тональность, и у Ханса появилось ощущение, что лучи уходящего дня дают ему шанс. Софи задумчиво погладила чашку. Провела указательным пальцем по ручке. Деликатно надавила на блюдце. Взяла со стола веер. Пока Ханс развлекал разговором господина Готлиба, веер Софи раздвинулся, как стопка карт, которую изготовилась тасовать удача.
Веер растягивался, кивал. Ежился, тер косточки друг о друга. Ходил волнами, вдруг замирал. Слегка наклонялся, позволяя увидеть губы Софи, и тут же снова их скрывал. Ханс сразу заметил: хотя Софи молчала, ее веер реагировал на каждую его фразу. Пытаясь связно строить свой диалог с господином Готлибом, он украдкой интерпретировал каждое движение веера. Пока разговор состоял из уклончивых фраз и иносказаний, характерных для первого знакомства, Софи не переставала равнодушно обмахиваться веером. Когда все вступления остались позади, господин Готлиб решил перевести беседу на ту почву, которую Софи мысленно называла «примитивно мужской», имея в виду не слишком тонкое бахвальство былыми заслугами и мнимыми подвигами, с которого обычно начинается дружба двух незнакомых мужчин. Софи надеялась, что если Ханс действительно так находчив, как хочет казаться, то сумеет быстро увести разговор от вполне предсказуемых банальностей. Но ее отец гнул свое, и она видела, что молодой гость не находит способа выправить траекторию беседы, не проявив невежливости. Софи переложила веер в другую руку. Встревоженный Ханс удвоил свои усилия, но лишь еще больше раззадорил господина Готлиба, полагавшего, что обсуждаемая тема интересна им обоим. Софи начала медленно складывать веер, казалось, перестала слушать и теперь смотрела в окно. Ханс понял, что время на исходе, и одним отчаянным маневром перекинул мостик между темой, на которой так настаивал господин Готлиб, к другой, ничего общего с ней не имевшей. Господин Готлиб растерялся, словно утратив почву под ногами. Ханс поборол колебания собеседника, подкрепив аргументами свою неожиданную ассоциацию, вернул хозяину дома душевное равновесие и еще какое-то время перескакивал со старой темы на новую и обратно, как теряющий высоту мяч, но в конце концов окончательно ушел от первой и закрепился во второй, гораздо более интересной для Софи. Веер перестал складываться, и Софи повернулась к столу. Весь последующий диалог сопровождался размеренными взмахами, своей монотонностью создающими приятное ощущение, что путь был выбран верно. Поддавшись эйфории, Ханс со всем возможным почтением предложил Софи оставить позицию наблюдателя и окунуться в их оживленный спор. Софи не пожелала пойти на такую существенную уступку, но кромка ее веера все же слегка опустилась. Локальные победы придали Хансу храбрости, и он пошел на большой риск, позволив себе дерзость, однако резко схлопнувшийся в воздухе веер обозначил категорическое неприятие. Ханс отступил и с завидным цинизмом оборвал свой комментарий, придав ему чуть ли не обратный смысл, при этом ни на йоту не изменившись в лице. Слегка недоверчиво и с явным интересом Софи прижала веер к губам. На этот раз Ханс подождал, терпеливо выслушал господина Готлиба и, выбрав нужный момент, вставил пару тонких замечаний, заставивших Софи торопливо поднять веер, чтобы скрыть румянец одобрения. Теперь веер порхал живее, и Ханс понял, что он на его стороне. Наслаждаясь упоительным безрассудством, он позволил себе пуститься в неудобные рассуждения, способные вылиться в вульгарность (веер замер, замерло дыхание и даже веки Софи), но этого не произошло, и, резко проделав ораторский финт, Ханс иронично лишил веса все, что могло показаться в его речи нахальством. Когда Софи милостивым жестом поднесла длинные пальцы к щеке, чтобы поправить и без того идеально уложенный локон, Ханс перевел дыхание и почувствовал приятную истому в мышцах.
Всего через несколько минут, растянувшихся для Ханса в целую вечность, веер замер, и Софи как ни в чем не бывало вступила в разговор, вторгнувшись в него лаконичными и продуманными замечаниями. Господин Готлиб, со своей стороны, тоже старался втянуть дочь в беседу, и под конец все трое уже весело смеялись. После второй чашки чая, прежде чем встать из-за стола, Софи некоторое время смотрела на Ханса, поглаживая край веера указательным пальцем.
Только когда пришло время, соблюдая все формальности, откланяться, образ Софи наконец растаял перед мысленным взором Ханса, словно его унес вихрь, и звуки этого дома вновь проникли в его уши. Он встрепенулся, испугавшись, что проявил рассеянность и недостаточно внимательно слушал господина Готлиба. Но хозяин дома выглядел весьма довольным и, не став звать Бертольда, сам проводил Ханса до дверей, без конца повторяя, что визит гостя доставил ему истинное удовольствие: Истинное удовольствие, господин Ханс, приятнейший день, не правда ли? я рад, что вам так понравился чай, мы получаем его прямо из Индии, в этом весь секрет, было очень приятно, друг мой, поверьте, обязательно зайдите попрощаться, если соберетесь уезжать, конечно, всего доброго, большое спасибо, вы крайне любезны, взаимно.
Оказавшись на свежем воздухе, Ханс побрел по улицам наугад, чувствуя себя ужасно, чувствуя себя великолепно.
В гостиной Эльза зажигала свечи, Бертольд возился с очагом. Трубка и усы господина Готлиба дымились, а сам он задумчиво смотрел в окна. Симпатичный малый, вынес он наконец свой приговор. Ой ли, прошептала Софи, крепко стиснув веер.
Эй, Франц, смотри, кто пришел! воскликнул шарманщик, увидев заглядывающую в пещеру, расплывшуюся в улыбке физиономию Ханса. Франц бросился навстречу гостю и повис на его сюртуке. Мы по тебе скучали, признался шарманщик. Засунув голову под крышку шарманки, старик что-то подкручивал гаечным ключом. Рядом на газете лежали два валика, покрытые шипами, несколько мотков струн и обувная коробка с инструментами. Ханс подошел ближе. Шипы облепляли валик, как букашки, но при внимательном рассмотрении можно было заметить, что установлены они в филигранном порядке. Еще Ханс обнаружил внутри шарманки отдыхавшие от трудов молоточки и вереницу шурупов для крепления струн, сгруппированных по три штуки.
Эти шипы, объяснил шарманщик, поворачиваются вслед за рукояткой и зацепляют молоточки. Молоточки, а их тридцать четыре, ударяют по струнам. Низкие ноты расположены слева от валика, высокие – справа. Каждому шипу соответствует одна нота, каждому набору шипов – одна мелодия. Чтобы записать на валик мелодию, нужно нанести ноты на эти пергаментные ленты. Ленту оборачивают вокруг цилиндра, в отмеченные места втыкают шипы. Здесь и кроется главный секрет, потому что толщина и высота шипов должна быть немного разной для более протяженного и более отрывистого звука, более звонкого и более глухого. Каждый шип – это загадка. Или, лучше сказать, он представляет собой не саму ноту, а возможность ноты. Ну, струны, конечно, изнашиваются, приходится их менять. Это действительно проблема, потому что они очень дорогие. Я покупаю подержанные у господина Рикорди, хозяина музыкального магазина. Прихожу к нему и отдаю все, что собрал в тарелку. Струны полагается натягивать вот этой штукой, видишь? вчера я играл павану, и какие же у меня выходили си-бемоли – просто жуть!
Сколько на валике мелодий? спросил Ханс. По-разному бывает, ответил шарманщик, эти валики не очень большие, по восемь пьес на каждом. Я меняю их в зависимости от сезона и смотря для кого играю, летом не нужны медленные мелодии, их никто не хочет слушать, всем подавай подвижные танцы. А сейчас, зимой, настроение у людей, наоборот, созерцательное, и хорошо идет классика, особенно в дождь. Не знаю почему, но это так: когда идет дождь, людям хочется медленной музыки, именно за нее они готовы платить (и того, что они платят, поинтересовался Ханс, вам хватает на жизнь?), как тебе сказать, скрипим потихоньку, я не роскошествую, Франц тоже не слишком привередлив. Иной раз, когда у людей нет денег на оркестр, меня приглашают поиграть на каком-нибудь торжестве. Суббота – хороший день, по субботам отмечается много радостных событий (а по воскресеньям? спросил Ханс), по воскресеньям бывает по-разному: если люди выходят из церкви раскаявшимися, то да. Тот, кто чувствует себя виноватым, всегда готов больше тратить. Но это не важно, мне нравится играть, нравится приходить на площадь, особенно весной. Надо бы тебе посмотреть на нашу весну!
Когда шарманщик закончил подтягивать струны и закрыл крышку, Ханс не удержался и погладил рукоятку шарманки. Можно? спросил он. Конечно, улыбнулся старик, только осторожнее: нужно вращать рукоятку так… не знаю… как будто кто-то двигает твоей рукой, нет, не так сильно, расслабь локоть, вот! а теперь, прежде чем начинать, нужно выбрать пьесу, верно? видишь эту рукоятку поменьше? чтобы сменить мелодию, поворачиваем ее немного вперед или на себя, ох! подожди, дай я, ты что предпочитаешь: полонез или менуэт? лучше менуэт, в нем проще выдерживать темп, ну, давай, нет, Ханс, в эту сторону нельзя, сломаешь! нужно поворачивать по часовой стрелке, ровнее, ну как?
Ханс удивился тому, как легко и в то же время непросто играть на шарманке. Иногда рукоятка проворачивалась слишком быстро, иногда запаздывала. Ему не удавалось даже двух раз подряд повернуть ее равномерно, музыка выходила дерганая, с длиннотами и спотыканием – пародия на саму себя. Шарманщик рассмеялся и спросил: Как тебе, Франц, что скажешь? Сделав исключение, пес пару раз тявкнул, плохой знак, подумал Ханс. Мелодия закончилась, и Ханс нечаянно крутанул рукоятку в обратную сторону в тот момент, когда валик еще не остановился. Внутри что-то захрустело. Шарманщик нахмурился, отодвинул руку Ханса и, не говоря ни слова, поднял крышку. Он осмотрел оба конца оси, снял рукоятку, снова ее установил. Лучше не будем больше играть, вздохнул старик. Да, конечно, сказал Ханс, простите мне мою неловкость. Ничего, повеселел шарманщик, в последнее время она стала такой хрупкой, думаю, это из-за перепадов температуры. Теперь таких инструментов не делают, здешние шарманки все духовые, на трубках, а этот инструмент уникальный, превосходный итальянский образец. Итальянский? удивился Ханс, где же вы ее раздобыли? О, это старая история, ответил старик. Ханс ничего не сказал, просто присел на край скалы, уткнулся локтями в колени, а подбородком – в ладони. Франц улегся у его ног.
Странно, сказал старик, я только сейчас понял, что никому этого не рассказывал. Шарманку сделал мой старинный друг, неаполитанец. Микеле Бачигалупо, мир его праху. Микеле очень гордился этой шарманкой и, когда его приглашали играть на каком-нибудь торжестве, всегда брал ее с собой, поскольку считал, что звук у нее веселей, чем у других его инструментов. Шарманка помогала ему зарабатывать на жизнь, но однажды, когда Микеле играл на празднике тарантеллу, какого-то парня пырнули ножом за то, что он не разрешил своей девушке танцевать с другим. Сразу же образовалась куча-мала, люди ринулись в драку, вместо того чтобы оказать помощь раненому. Несчастная девушка, увидев, что ее жених истекает кровью, закричала и бросилась вниз с плоской крыши дома, где были устроены танцы. Увидев это, парень, ранивший ее жениха, бросился следом. Наверно, драка продолжалась долго, потому что сначала на них никто даже внимания не обратил. И знаешь, что все это время делал Микеле? Продолжал играть! Помертвевший от страха, бедняга доигрывал тарантеллу и начинал ее снова. С того дня народ невзлюбил эту шарманку, семьи погибших сочли ее проклятой. Никто больше не хотел под нее танцевать, и Микеле перестал брать ее с собой. Несколько лет спустя я нанялся работать в его мастерскую. Он научил меня играть на этой шарманке, ценить ее звук, правильно за ней ухаживать, а в один прекрасный день мне ее подарил. Он терзался мыслью, что ее никто не услышит, и счел, что в моих руках она не пропадет. Я перекрасил ее, отполировал и пообещал Микеле, что никогда не буду играть на ней тарантеллу (и все эти годы держали слово? спросил Ханс), голубчик, что за вопрос? с тарантеллой не шутят.
Вот так, закончил свой рассказ шарманщик, проводя ладонью по деревянному коробу, это существо попало в мои руки. И знаешь что? путешествиям моим сразу пришел конец, и хоть я был еще очень молод, но с тех пор уже не покидал Вандернбурга (а эту картину на передней панели, спросил Ханс, рисовали вы?), эту? а! да, пустяки, это вид из пещеры весной, я нарисовал ее, чтобы приучить шарманку к дыханию нашей реки, такой же миниатюрной и благозвучной, как и сам инструмент (однако ведь и рука чего-то стоит? улыбнулся Ханс, сами слышали, какой кошачий концерт я устроил), нет-нет! это не так трудно, важно ощущение, в нем все дело, в ощущении (Ханс к тому моменту уже раздумывал, не брать ли с собой в пещеру записную книжку, поэтому попросил: Объясните, что это значит?), дорогой мой, ты сущий дознаватель! (странствующий дознаватель, уточнил Ханс), одним словом, мысль моя такая: все мелодии имеют свою историю, как правило печальную. Когда я кручу рукоятку, я представляю себя персонажем той истории, о которой повествует мелодия, и стараюсь воспроизвести ее настроение. Но одновременно я как будто немного притворяюсь, понимаешь? нет, не притворяюсь, лучше скажу так: переживая все эти эмоции, я должен в то же время думать о конце мелодии, ведь я знаю, как именно она закончится, а те, кто ее слушает, возможно, не знают или не помнят. В этом и заключается правильное ощущение. Когда у шарманщика оно есть, этого никто не замечает, но, когда его нет, это заметно всем (иными словами, уточнил Ханс, шарманка для вас – это шкатулка с историями), именно так! ах, черт, как прекрасно ты все объяснил: играть на шарманке то же самое, что рассказывать истории у костра, как ты сам недавно нам рассказывал. Казалось бы! записал мелодию на валик и готово! поэтому многие считают, что можно просто крутить рукоятку, а голову занять чем-то другим. Но мне кажется, что настрой очень важен: крутишь ты ее просто так или с душой, результат не может быть одинаков, ты меня понимаешь? дерево тоже умеет страдать и испытывать благодарность. В свои молодые годы, а я тоже когда-то был молод, мне довелось слышать многих шарманщиков, и уверяю тебя, что даже из одного и того же инструмента каждый из них извлекал свою особую мелодию. Но так и в любом деле, верно? чем меньше ты вкладываешь в него любви, тем бесцветней результат. И с историями то же: знакомые, но рассказанные с любовью, они воспринимаются как новые. Вот что я тебе скажу!
Шарманщик опустил голову и стал протирать шарманку тряпкой. А Ханс подумал: Откуда он такой взялся?
Пошел легкий снег. Старик закончил приводить в порядок инструмент. Извини, сказал он, я сейчас вернусь. Выйдя из пещеры, он беззастенчиво спустил штаны. Оголенные тополя на берегу реки пропускали сквозь себя медленный свет, который долго путался в их ветвях, а выбравшись наружу, падал на тощие ягодицы шарманщика. Ханс смотрел на выжигавшую снег мочу, на жалкие экскременты. Обычное дерьмо, дерьмо, и ничего другого, дерьмовое дерьмо.
Сегодня утром, дочка, ты выглядишь просто необыкновенно! сказал господин Готлиб, ведя Софи под руку по направлению к церкви Святого Николауса. Спасибо, отец, улыбнулась она, стало быть, есть надежда, что к вечеру я буду выглядеть обыкновенно.
Прихожане вереницей тянулись по Стрельчатой улице к портику храма. Церковь Святого Николауса стояла чуть в стороне от Рыночной площади. Ее охранял небольшой сквер с деревянными скамьями. Церковь была самым старым зданием Вандернбурга и в то же время самым необычным. Вблизи, примерно с того места, где сейчас толпились прихожане, в первую очередь бросался в глаза румяный оттенок словно перегретых на солнце камней. Помимо портика, арками углублявшегося в своды более мелких арок, церковь имела множество боковых дверей, по форме напоминавших висячие замки. Стоило отойти на несколько метров и увидеть церковь целиком, сразу становились заметны две ее неодинаковые башни: одна заостренная, похожая на гигантский карандаш, другая более округлая, увенчанная колокольней с гулкими колоколами и такими узкими проемами, что в них едва пробирался воздух. Однако больше всего Ханса поразил фасад, заметно завалившийся вперед и готовый, казалось, рухнуть в любую секунду.
После своего визита к господину Готлибу Ханс старался вести себя с ним подчеркнуто любезно. Его беспокоило, что при встречах его новый знакомый, хоть и проявлял приветливость и даже останавливался перекинуться с Хансом парой слов, в свой дом его больше не приглашал. Он ограничивался расплывчатыми фразами вроде «рад был вас видеть» и «надеюсь, мы еще пересечемся», то есть вел себя достаточно прохладно, чтобы можно было самовольно нанести ему визит без веских на то оснований. Уже несколько дней Ханс украдкой бродил возле Оленьей улицы и в ее окрестностях в надежде встретить Софи. Пару раз ему это удалось, но девушка вела себя странно. Отвечая на его реплики с непроницаемой сдержанностью, она тем не менее смотрела на него так, что он начинал нервничать. Она не пыталась затянуть разговор и не смеялась в ответ на его шутки, но стояла так близко от него, что Ханс, будь он немного уверенней в себе, счел бы это подозрительным. Он твердо решил не отступать и узнал, что Софи каждое воскресенье сопровождает отца в церковь Святого Николауса, обычно к «третьему часу»[1], поэтому тем ранним, не слишком щедрым на солнечный свет утром, проснулся спозаранку, чтобы идти к мессе. Увидев его на кухне ровно в восемь утра, госпожа Цайт, как раз успевшая занести свой кухонный нож, замерла с открытым ртом, изрядно напомнив треску, которую собиралась потрошить.
В церкви Ханс почувствовал себя вдвойне чужим. Во-первых, потому, что много лет не бывал на мессе. Во-вторых, потому, что, едва он вступил в церковный полумрак, его тут же атаковали пристальные взгляды. Девушки с любопытством косились на него со своих скамеек, мужчины постарше хмуро следили за каждым его движением. Снимите головной убор, приказала ему какая-то дама: сам того не заметив, Ханс вошел в церковь Святого Николауса как любопытствующий путешественник, даже не сняв берет. Пахло воском, маслом и ладаном. Ханс прошел в центральный неф. Какие-то лица казались ему теперь знакомыми, хотя он и не мог припомнить откуда. Прочесав взглядом публику, Ханс не нашел Софи, хотя был уверен, что раньше видел ее в толпе. Разглядеть что-то в сумраке нефа было нелегко, мутные витражи пропускали только световую пыль, белые песчинки. Поскольку служба еще не началась, Ханс стал пробираться вперед, к первым рядам. Когда шепот голосов остался позади, он наконец разглядел главный алтарь с пугающим распятием в обрамлении встроенных канделябров, с четырьмя свечами наверху и мрачной резной оградкой. Алтарь венчали два ангела с медальоном в руках, который они волокли с неожиданной натугой, должно быть, потому, что сверху на нем возлежал третий пухлый ангел, словно в приступе головокружения вцепившийся в край своего ложа. Слева от медальона Ханс разглядел обвивающую столбик змею, справа – колючее растение, вплетенное в какую-то ветку. Только с определенной высоты, например с упитанного плечика верхнего ангела, Ханс смог бы обнаружить, насколько близко он оказался к Софи, и даже успел бы воспользоваться подарком судьбы, свободным местом в том же ряду с мужской стороны, прежде чем она заметила бы его присутствие.
Теоретически центральный неф и пересекавшая его полоска света делили прихожан по половому признаку. На практике такое деление лишь разжигало обоюдный интерес и оживляло весь спектр скрытого общения: отыскивая себе место, Ханс то и дело замечал какие-то жесты, подмигивания, платочки, записки, вздохи, гримасы, хмурые взгляды, кивки, полуулыбки, веера, учащенное дрожание ресниц. От этого увлекательного занятия его внезапно отвлек гулкий аккорд величественного, нависавшего над входом органа. Все встали. Детский хор взял пронзительную, протяжную ноту. Из сумрака вынырнули смутные тени и пошли по рядам собирать церковное подаяние. К проходу торжественно двинулась процессия, состоявшая из малолетнего служки, косого на один глаз кадилоносца и ковылявшего на полусогнутых дьячка, а замыкал шествие отец Пигхерцог, приходской священник храма Святого Николауса и, в отсутствие архиепископа, глава католической церкви княжества Вандернбург. Ханс поискал глазами свободное место в первых рядах. Благочестивая процессия приблизилась к алтарю, вся четверка преклонила колени перед дарохранительницей. Ханс втиснулся между двумя упитанными господами. Отец Пигхерцог поцеловал алтарь и осенил себя крестом. Ханс кашлянул, один из упитанных господ на него покосился. Кадилоносец окурил алтарь, отец Пигхерцог прочитал «Вступление» и «Господи, помилуй». Ага! вздрогнул Ханс, вот она! Неподвижная и элегантная, словно позируя для портрета в профиль, Софи рассеянно смотрела куда-то поверх алтаря.
Отец Пигхерцог со страстью прочитал «Gloria in excelsis»[2], ему ответил хор. Софи по-прежнему стояла в позе расчетливой кокетки, делающей вид, что не подозревает об устремленных на нее взглядах. Dominus vobiscum[3], пророкотал отец Пигхерцог, Et cum spiritu tuo[4], в унисон ответили ему прихожане. Ханс не мог определить, увлечена ли Софи богослужением или думает о своем.
Пока господин Готлиб, остановившись у входа, обменивался любезностями с кем-то из знакомых, успевший переодеться в сутану и мантию отец Пигхерцог подошел к Софи. Он зажал пальцы девушки своими ладонями: изящные руки Софи всегда восхищали священника, он находил их просто созданными для молитвы. Помнишь, как ты приходила к исповеди, дочь моя? заговорил отец Пигхерцог, и вот смотри-ка! просто чудо, как Господь пропускает сквозь наши души течение времени, смотри-ка! ты уже совсем взрослая, но почему ты больше не приходишь, дочь моя? уже столько лет я задаю тебе этот вопрос, почему ты больше не приходишь? Отец мой, ответила Софи, краем глаза глядя на господина Готлиба и прикидывая, насколько затянется его беседа со знакомыми, вы сами знаете, время лишним не бывает, а между тем в моей ситуации столько дел требуют моего пристальнейшего внимания! Именно поэтому, дочь моя, поднял палец священник, именно в твоей ситуации необходимо постоянное общение со словом Божьим. Вы сами сказали, отец мой, ответила Софи, и сказали очень верно, что свойственно вашей благочестивой натуре: время течет через наши души, и души меняются. Ты с детства обладала множеством дарований, сказал отец Пигхерцог, и весьма подвижным умом, хотя есть в тебе, как бы это сказать, склонность разбрасываться, пытаться охватить слишком многое и сразу, а в результате ты забиваешь себе голову таким количеством познаний, что отвлекаешься от самого главного. Вы так превосходно все объясняете, отец мой, сказала Софи, что мне и добавить нечего. Ах, дочь моя, начал терять терпение священник, почему бы тебе не прийти хотя бы помолиться? Видите ли, достопочтенный отец мой, ответила она, если вы позволите мне быть предельно откровенной, а, насколько я понимаю, рядом с Домом Господним надлежит проявлять именно такую откровенность, я бы сказала, что в настоящее время для общения со своей совестью мне не нужна никакая литургия. Отец Пигхерцог втянул в себя воздух и выдохнул его, пытаясь переварить слова Софи. Постигнув наконец их полный смысл, умышленно смягченный намеренно невинным взглядом, каноник забормотал: Послушай, дочь моя, такие идеи сбивают тебя с пути истинного, душа твоя в опасности, и я мог бы тебе помочь, то есть, если бы ты захотела, я бы мог. Благодарю вас за заботу, ответила Софи, и молю извинить мне мое суесловие, но иногда мне кажется, что чрезмерная настырность в вере скрывает под собой попытку навязать свою правоту. В то время как всестороннее сомнение, отец мой, слишком уязвимо, чтобы выдержать такой напор. Пресвятая Дева Мария! перекрестился отец Пигхерцог, я знаю, что ты так не думаешь, ты просто любишь вести себя вызывающе, но в душе об этом сожалеешь. Возможно, отец мой, сказала Софи, жестом давая понять, что намерена присоединиться к господину Готлибу. Послушай, дочь моя, склонился к ней священник, я знаю, тебе что-то не дает покоя, ведь по воскресеньям, когда ты приходишь, пусть даже только по воскресеньям, ты садишься на скамейку и сидишь с отсутствующим видом, и не думай, что я ничего не замечаю, мне очевидно, что твоя смятенная душа ищет покаяния. Не пора ли нам домой? крикнула Софи, вытягивая шею в сторону господина Готлиба, беседовавшего в это время с кем-то другим. Я предлагаю тебе, продолжал отец Пигхерцог, беря ее за локоть, еще вернуться к этой теме, мы могли бы все обсудить, в любое удобное для тебя время, ты облегчишь свою душу и увидишь все в более ясном свете. Даже не знаю, как вас благодарить, отец мой, сказала Софи, высвобождая локоть. Придешь, дочь моя? не унимался священник, скажи мне! ты ведь не откажешься прочитать со мной несколько абзацев из Писания, ты, которая столько читает? Я не заслуживаю вашего великодушия, ответила Софи, и должна вам признаться, коль скоро вы меня к этому призываете, что в последнее время интересуюсь такими священными текстами, которые ваша честь не одобрит. Например? насторожился отец Пигхерцог. Например, ответила она, «Катехизисом разума» пастора Шлейермахера[5]: при всем моем уважении к вам именно он представляется мне единственным теологом, заметившим, что мы, женщины, помимо того что склонны сбиваться с пути истинного, еще как минимум составляем половину человечества. Как минимум? оторопел отец Пигхерцог. Софи! позвал наконец господин Готлиб, Софи, ты идешь? Отец Пигхерцог сделал шаг назад и сказал: Не беспокойся, дочь моя, я знаю, твоя строптивость преходяща. Ступай с Богом. Я буду за тебя молиться.
Господин Готлиб и Софи направились домой через Рыночную площадь. Вдруг Софи остановилась, отпустила руку отца и пошла к обочине, привлеченная томительно-сладким звуком старого инструмента, который не раз уже привлекал ее внимание, когда ей доводилось здесь проходить. Шарманщик исполнял мазурку, приподнимая на третьей доле каждого такта полуседую бровь. Оказавшийся между двух музык, довольный и счастливый, Ханс стоял напротив шарманщика и наблюдал за наблюдавшей Софи. Он не терял ее из виду с тех пор, как она вышла из церкви, но ее диалог с отцом Пигхерцогом затянулся, и он не придумал ни повода, ни подходящего занятия, чтобы топтаться в двух метрах от нее и ждать, когда можно будет поздороваться. Поэтому он сдался и пошел на площадь проведать шарманщика. И надо же! в тот редкий момент, когда он ее не искал, Софи сама подошла к нему и с улыбкой приветствовала его наклоном головы. Ханс молча кивнул в ответ и под размеренные звуки мазурки принялся безнаказанно разглядывать ее белоснежную шею и сцепленные за спиной пальцы.
Да, да, обрадовался Ханс, она остановилась перед вами, вы должны ее помнить (я помню, что подошла какая-то девушка, сказал шарманщик, и я заметил, что ты проявил к ней большой интерес, но не могу вспомнить ее лица, какая она?), а! значит, с вами происходит то же самое? (ты о чем?), лицо Софи! вы тоже не можете себе его представить? вы удивитесь, это трудно объяснить, но я, вспоминая ее, вижу только кисти рук. Вижу руки и слышу голос. Больше ничего, ни единой черточки. Не могу ее себе представить. И не могу забыть. (Понимаю, плохи твои дела.) Я чувствую себя так странно, когда думаю о ней: иду где-нибудь, и вдруг мне является смутный образ Софи, и приходится останавливаться, понимаете? и всматриваться, в памяти мелькают отдельные штрихи, фрагменты ее лица, и нужно упорядочить их, чтобы они не ускользнули. Но как только я пытаюсь их объединить и воссоздать ее лицо, они разлетаются, исчезают, и тогда я должен срочно ее увидеть, чтобы наконец-то вспомнить. Что вы на это скажете? (Скажу, улыбнулся шарманщик, что тебе придется задержаться в Вандернбурге.)
Вскоре пришел Рейхардт, вслед за ним Ламберг, оба с завернутыми в газету бутылками. Сейчас, на заходе солнца, день вдруг опрокинулся, резко выплеснув весь свой холод до дна. Рейхардт плюхнулся на землю и проворчал: Старик, ты, что ли, дервиш какой-то, твою мать? давай же! разводи огонь! Всем добрый вечер, поздоровался Ламберг, своими воспаленными глазами поддавая жару костру. Немного помолчав, он повернулся к Хансу: Сегодня я видел тебя в церкви. Этого? в церкви? изумился Рейхардт, гляди-ка, старикан! а твой дружок, оказывается, святоша! Ханс ходил туда, чтобы увидеть одну девушку, невозмутимо и кратко пояснил шарманщик. Я так и думал, сказал Рейхардт, какое бесстыдство! Да еще ввалился в храм прямо в берете, добавил Ламберг. Ты тоже обратил внимание? улыбнулся Ханс. Да, кивнул Ламберг, все барышни на него косились. Небось потешались над ним? спросил Рейхардт. Не знаю, пожал плечами Ламберг, мне показалось, что он им нравится. Выпьем же за его берет! воскликнул Рейхардт. Выпьем, согласился шарманщик.
Через час холод настолько окреп, что их уже не спасал ни костер, ни растирание конечностей. Каждый раз, когда кто-то начинал говорить, изо рта у него шел пар. Ледяной воздух вползал в пещеру и пробирался во все щели, под одежду, под ногти. Ханс перестал чувствовать пальцы. Ламберг изо всех сил стискивал зубы. Франц колотил хвостом, как ребенок, стряхивающий снег с игрушки. Шарманщик совсем съежился в своих одеялах, но безмятежно улыбался. Дрожавшего всем телом Рейхардта вдруг одолел приступ безумного смеха. Он хохотал отчаянно, хохотал так, как хохочут люди перед тем, как насмерть окоченеть, и, выпуская облачка пара, кричал: Мажордом, печь! мажордом, затопи же нам эту сраную печь! Запрокинув голову, шарманщик захохотал и ударился затылком о скалу. Заметив его неловкость и тыча в него пальцем, Рейхардт зашелся мучительным кашлем. Ханс корчился от смеха, тыча пальцем в них обоих. А Ламберг, видя, что все трое заливисто хохочут, попробовал сдержаться, но не смог и присоединился к очередному взрыву смеха. Франц, скажи хоть ты что-нибудь! хоть что-нибудь! извивался Рейхардт, обнажая побагровевшие от вина десны.
Костер угасал. Бутылки опустели. Слышите? прошептал шарманщик, слышите? (я слышу только свои кишки, сказал Рейхардт, больше нет ничего пожрать?), ш-ш-ш, там, между ветвями (что там такое? спросил Ханс), вот сейчас! разговаривают! (какие-то звуки я точно слышу, сказал Ламберг), это не звуки, это голоса ветра (что за ерунда? воскликнул Рейхардт), это ветер, это разговаривает ветер. Франц и шарманщик, закрыв глаза, напрягали слух. Рейхардт уперся: Нет здесь ничего, тишина одна, старик. Шарманщик ответил: Тишины не бывает. И продолжал вслушиваться в ночь, приподняв голову. Не знаю, зачем тебе все это, старик, сказал Рейнхардт. Ветер полезен, вздохнул шарманщик.
После недели расчетливо подстроенных встреч и назойливых выражений учтивости Ханс добился своего и стал часто бывать в доме Готлибов. Господин Готлиб принимал его в гостиной, дымя янтарной трубкой возле мраморного камина. Каминную полку украшала вереница унылых статуэток, готовых, казалось, броситься в огонь. Во время этих визитов Ханс получил возможность внимательнее рассмотреть картины на стенах, и среди семейных портретов, пары плохих копий Тициана, какого-то темного трактира и удручающих сцен охоты одна картина привлекла его внимание: по заснеженному лесу, в противоположную от зрителя сторону, шел человек, на пне сидел ворон.
Господин Готлиб обычно смеялся резко и неожиданно, почти всегда в ответ на реплики дочери. Это был восторженный, нервозный смех – смех мужчины, который слушает умную женщину намного моложе себя. И каждый раз, смеясь, он косился на кончики своих усов, словно изумляясь их разлету. Ханс чаще пил чай с хозяином, чем с Софи: она то ходила с Эльзой к портнихе, то разучивала с подругой новую музыкальную партию, то отправлялась к кому-то с ответным визитом. Лишь изредка, когда Ханс умудрялся увлечь господина Готлиба разговорами до самого вечера, он получал возможность увидеться с Софи и немного с ней поговорить. Она вела себя отстраненно, настороженно и, казалось, избегала затяжных диалогов и бесед наедине, хотя по-прежнему смотрела на него так, что у него голова шла кругом. Если же ему не везло и приходилось покидать дом Готлибов до наступления вечера, он шел на Рыночную площадь и провожал шарманщика до пещеры.
Не имея общих интересов с Хансом, господин Готлиб, казалось, все же находил его приятным собеседником. Он явно не был сторонником задушевных разговоров, но, если требовалось, мог такой разговор поддержать. Ханс замечал, что хозяин дома часто неправильно трактует его вопросы, но при этом дает интересные ответы. Так, например, после какого-то тривиального замечания гостя о красивой обстановке дома господину Готлибу показалось, что Ханс намекает на Софи, и он принялся делиться с ним своим беспокойством по поводу дочери. Ханс не стал уточнять смысл своей реплики и навострил уши. Господин Готлиб, у которого был еще женатый сын, проживавший в Дрездене, всю жизнь один опекал Софи: ее мать умерла во время родов. Он растил дочь с тем особым усердием и беспокойством, которое обычно выпадает на долю младших в семье детей. Без всякого сомнения, он гордился дочерью, но одновременно, а может быть, именно поэтому, терзался многочисленными страхами. Сами видите, говорил он, Софи девушка необыкновенная (выражая согласие, Ханс старался не проявить излишнего энтузиазма), но я боюсь, что с таким характером и такими требованиями ей нелегко будет найти хорошего мужа. Возможно, вы зря так беспокоитесь, осмелился возразить Ханс, ваша дочь восхитительная девушка и яркая индивидуальность (и тут же подумал: не надо было говорить «восхитительная»), одним словом, замечательная молодая особа, и я уверен, что она сама… Если моя дочь, перебил его господин Готлиб, и дальше будет такой восхитительной и яркой индивидуальностью, то обзаведется легионом воздыхателей, но не мужем.
Прежде чем Ханс успел ответить, господин Готлиб добавил: Поэтому так важно, чтобы ее свадьба с Руди Вильдерхаусом состоялась как можно скорее.
Ханс отреагировал не сразу, словно до него донеслось только эхо сказанного, а он ждал самих слов, которые подтянутся следом. Потом он почувствовал что-то вроде удара в лоб. Простите, как вы сказали? пробормотал он, и снова удача подбросила ему спасительное непонимание собеседника: господин Готлиб решил, что Ханса заинтересовала фамилия Вильдерхаус. Именно, именно! подтвердил господин Готлиб, сам Вильдерхаус, и знаете, что я вам скажу? на самом деле это очень приятная семья, гораздо более приятная, чем о ней говорят, представьте, весьма утонченные люди (какие могут быть сомнения! ответил Ханс, не имея ни малейшего представления, о ком идет речь) и, помимо всего прочего, еще и великодушные. Вильдерхаусы сидели здесь, ну, не здесь, конечно, а в столовой, несколько недель назад, и родители жениха сделали официальное предложение, а я, вы только себе представьте! Вильдерхаусы! боже! (представляю! воскликнул Ханс, порывисто закидывая ногу на ногу), одним словом, я, конечно, поломался для приличия, и мы согласовали самую ближайшую возможную дату, в октябре, после летнего сезона. Тем не менее я вам признаюсь…
В этот момент в другом конце коридора, соединявшего прихожую с гостиной, раздались шаги и голоса. Ханс узнал шелест юбок Софи. Господин Готлиб оборвал фразу на середине и заготовил на лице улыбку, которую сохранял до тех пор, пока его дочь не появилась в дверях.
Но почему она так смотрит на меня, если обручена черт знает с кем? недоумевал Ханс. Ответ пришел ему в голову столь же простой, сколь логичный, но он отверг его как слишком обнадеживающий. В тот день Софи, казалось, была особенно внимательна ко всему, что он говорил, и не переставала испытующе на него поглядывать, как будто чувствовала, чем вызвана гримаса разочарования на его унылом лице. Во время разговора с Софи, проходившего на этот раз в более свойском тоне, Ханс заметил, что в нем зарождается и крепнет пусть безумная, но надежда. Он пообещал себе не анализировать эту надежду, а просто отдаться ей, как порыву ветра. Поэтому, когда Софи стала ему объяснять, что он был бы желанным гостем (желанным гостем, м-м-м, посмаковал ее слова Ханс, желанным гостем?) ее Салона, решил принять приглашение. Салон Софи Готлиб собирался по пятницам во время вечернего чая, основными темами разговоров были литература, философия и политика. Единственное достоинство нашего скромного Салона, продолжала Софи, отсутствие цензуры. Если не считать весьма, скажем так, благочестивых взглядов моего батюшки (Софи с неотразимой улыбкой посмотрела на отца). Единственное наше правило – искренность высказываний, что в таком городе, как этот, господин Ханс, можно считать чудом. Гости приходят и уходят, когда пожелают. Всякий раз бывает по-разному, иногда очень интересно, иногда довольно предсказуемо. Поскольку мы никуда не спешим, встречи порой затягиваются допоздна. Насколько я понимаю, в этом последнем смысле, дорогой господин Ханс, вы будете образцовым гостем (Ханс не смог сдержать радостную дрожь от заговорщицкого тона Софи). Мы пьем чай или что-нибудь еще, на столе бывают аперитивы, легкие закуски, то есть нельзя сказать, что мы голодаем. Иногда звучит музыка, иногда мы устраиваем импровизированные чтения пьес Лессинга, Шекспира, Мольера, в зависимости от настроения. Мы вполне доверяем друг другу, постоянных участников у нас не более восьми-девяти человек, включая отца и меня. Одним словом, обычно вечер проходит приятно, и, если у вас в пятницу нет более интересных дел, впрочем, вы, может быть, собираетесь уехать? Я? Ханс выпрямился, как пружина, уехать? отнюдь!
В пятницу Ханс, привыкший в доме Готлибов к глубокой тишине, удивился, найдя гостиную столь оживленной. Как только Бертольд помог ему раздеться и удалился с его пальто по коридору, попутно ощупывая шрам на губе, Ханс услышал что-то вроде отдаленного концерта голосов под аккомпанемент позвякивающих чашек. Основная группа гостей сидела на стульях и в креслах вокруг невысокого стола. Один гость задумчиво стоял у окна, еще двое беседовали друг с другом. Софи сидела справа от мраморного камина, вернее, едва касалась кружевами юбки кончика стула, готовая в любую секунду вскочить. С несуетливым проворством она то подливала кому-то чаю, то перебрасывалась с кем-то парой слов, но при этом постоянно обходила комнату, подобно цеховому мастеру, со всех сторон осматривающему ткацкий станок. Будучи незаметной осью всего собрания, его связующим звеном, она выслушивала, предлагала, вставляла замечания, подыскивала ассоциации, смягчала споры, подталкивала к высказываниям и всегда держала наготове уместный комментарий или провокационный вопрос. Ханс онемел от восторга. Софи предстала перед ним в таком блеске, такая оживленная и уверенная в себе, что он остановился, не дойдя до конца коридора, и наблюдал за ней до тех пор, пока она сама не подошла к нему, не будьте так застенчивы! чтобы отвести в центр гостиной.
Одному за другим он был представлен всем участникам Салона за исключением отсутствовавшего в тот вечер Руди Вильдерхауса. Сначала – профессору Миттеру, доктору филологии, почетному члену Берлинского общества немецкого языка, Берлинской академии наук, бывшему профессору Берлинского университета. Известный деятель культуры Вандернбурга, профессор принимал участие в нескольких изданиях «Альманаха муз» Геттингена и каждое воскресенье публиковал стихотворение или критическую литературную заметку в местной газете «Знаменательное». Рот господина Миттера искривился в легком оскале, словно он только что раскусил зернышко жгучего перца. На нем был строгий темно-синий костюм, лысую голову украшал давно вышедший из моды белый парик с буклями. Ханс обратил внимание на то, с каким невозмутимым спокойствием профессор наблюдал за царящим вокруг оживлением – оно, видимо, не столько его задевало, сколько казалось результатом каких-то неправильных умозаключений или методологических ошибок. Напротив профессора задумчиво сидел биржевой посредник и поклонник теософии господин Левин и держал в руках чашку непригубленного чая. Во время разговора он имел привычку смотреть собеседнику не в глаза, а куда-то в брови. Любитель загадочных, но не частых высказываний, иными словами, полная противоположность профессору Миттеру, господин Левин держался довольно напряженно, как всякий, кто старается выглядеть респектабельно даже в самой статичной позе. Рядом с ним сидела его супруга, малоприметная госпожа Левин, имевшая обыкновение участвовать в разговоре только тогда, когда в нем участвовал ее муж, либо одобрительно комментируя его слова, либо, крайне редко, взывая к его благоразумию. Затем Ханса представили давно овдовевшей госпоже Питцин, страстной любительнице проповедей отца Пигхерцога и бразильских украшений. Госпожа Питцин, привыкшая развлекать себя во время беседы вышиванием, опустила веки и протянула Хансу руку для поцелуя. Он обратил внимание на боа из желтых перьев, кольцо с брильянтами и ожерелье из тяжелых жемчужин, оставивших на красной коже ее декольте следы, похожие на отпечатки пальцев.
Наконец, Софи остановилась перед гостем, которого Ханс видел у окна. Господин Ханс, сказала Софи, разрешите представить вас господину Уркио, Альваро де Уркио. Уркихо, поправил ее гость, Уркихо, моя любезная госпожа. Уркикхо, да! засмеялась Софи, простите мне мою неловкость. Ханс произнес фамилию испанца правильно. В ответ Альваро де Уркихо кивнул и обвел гостиную взглядом, словно говоря «добро пожаловать во все вот это». Ханс заметил его иронию и сразу почувствовал к нему симпатию. По-немецки испанец говорил свободно, хоть и с акцентом, от которого его речь казалась слегка экзальтированной. Наш дорогой господин Ур… м-м… Альваро, продолжала Софи, сколь бы он этим ни тяготился, стал еще одним жителем Вандернбурга. Поверьте, сударыня, улыбнулся Альваро, одна из немногих причин, позволяющих мне не тяготиться этим фактом, – ваша готовность считать меня вандернбуржцем. Любезный друг, ответила Софи, пожав плечиком, оставьте вашу утонченную галантность, теперь вам следует вести себя как всякому вандернбуржцу. Альваро резко хохотнул, но промолчал, уступая победу Софи. Она кивнула и временно с ними рассталась, чтобы поспешить на подмогу госпоже Питцин, со скучающим видом уткнувшейся в свои пяльцы.
Вечер прошел незаметно. С помощью Софи, временами вовлекавшей Ханса в беседу, он получил возможность приглядеться к остальным участникам Салона. Каждый раз, когда его спрашивали, чем он занимается, Ханс отвечал: путешествиями, путешествиями и переводами. И собеседники принимали его кто за толмача, кто за дипломата, кто за отдыхающего. Однако каждый вежливо восклицал: О, понимаю! Разговоры то вспыхивали, то угасали. Пользуясь услугами Эльзы и Бертольда, Софи принимала участие в каждом из них. Господин Готлиб сидел немного в стороне, ворошил усы кончиком трубки, молчал и с лукаво-отрешенным видом наблюдал за происходящим, скептически воспринимая все обсуждаемые темы, но явно наслаждаясь непринужденным поведением дочери. Когда она говорила, он улыбался с тем добродушным видом, с каким улыбаются люди, уверенные, что говорящий им отлично знаком. В свою очередь, Софи украдкой поглядывала на него совсем с другой улыбкой, улыбкой человека, уверенного, что слушателю его побуждения совершенно неведомы. Господин Готлиб явно опекал профессора Миттера и кивал каждому его слову. Ханс вынужден был признать, что, вопреки ожиданиям, профессор оказался изрядно эрудирован. Говорил он утомленным тоном, но аргументацию выстраивал четко и безупречно, ревностно следя за тем, чтобы ни на йоту не сдвинулся его парик. Ханс решил, что профессор Миттер – собеседник почти непобедимый, поскольку одолевает либо своей правотой, либо за счет инертности оппонента, поскольку, для того чтобы опровергнуть профессорское мнение, нужно было сперва оспорить всю прочную аргументацию, выстроенную им в качестве заградительной полосы. Хотя из осторожности Ханс для первого раза ему почти не возражал, но уже догадывался, что, если они будут встречаться и впредь, споров им не избежать. Профессор Миттер обращался к Хансу с высокомерной и несколько враждебной любезностью. Каждый раз, выслушивая соображения Ханса, столь отличные от его собственных, профессор подносил чашку к губам с таким опасливым видом, словно боялся, что у него запотеют очки.
Еще Ханс успел заметить, что Бертольд преследует Эльзу, а может быть, Эльза избегает Бертольда, а может быть, и то и другое одновременно. Несмотря на усердие служанки, Ханс сумел распознать ее бунтарский нрав: на собеседника она смотрела смело, не как обычная прислуга, словно за ее молчанием скрывался дерзкий вызов. Эти двое успели проработать в доме Готлибов примерно одинаковое время, но Бертольд смотрелся здесь старожилом, а Эльза – залетной птицей. Бертольд фланировал среди гостей с важным видом, Эльза – со скукой. Дорогуша! окликнула ее госпожа Питцин, дорогуша, сходи на кухню, спроси, остались ли еще меренги, да, спасибо, милочка, а скажи-ка мне, Софи, красавица моя, не собираешься ли ты сегодня усладить наш слух игрой на фортепьяно? вот как? ты не представляешь себе, как мне жаль! ведь когда хорошо играют на фортепьяно, это так… так!.. мне так нравится фортепьяно! не кажется ли вам, господин Ханс, что наша дорогая Софи должна, ну просто обязана исполнить нам хоть что-нибудь? хотя бы в честь вашего визита! я думаю, если мы проявим настойчивость, как это нет? о, пожалуйста, девочка моя, не заставляй себя умолять! ты уверена? на следующей неделе? ты мне обещаешь? ладно, ладно, договорились, но имей в виду, ты обещала! в определенном возрасте, господин Ханс, вернее, в моем возрасте, знаете ли, становишься такой чувствительной к музыке!
Каждый раз, упоминая свой возраст, госпожа Питцин делала короткую многозначительную паузу, ожидая какого-нибудь комплимента. Но Ханс этого не знал и не сказал ей ничего лестного. Госпожа Питцин гордо подняла подбородок, три раза моргнула и снова вклинилась в беседу господина Левина с Альваро де Уркихо. Ханс незаметно перешел на другое место, стараясь оказаться поближе к испанцу, чтобы при первой возможности возобновить с ним прерванный разговор. Обменявшись парой соображений с господином Левином, Ханс пришел к выводу, что этот собеседник слишком сговорчив для человека, искренне разделяющего чужую точку зрения. Он заподозрил, что тот готов соглашаться с кем угодно, но не из скромности, а потому что, даже убежденный в своей правоте, спорить не решается. Еще он заметил, что госпожа Левин ведет себя с мужем точно по той же схеме, по которой ее муж ведет себя с остальными гостями. Что касалось испанца Альваро, то тут Ханс не ошибся: этот малый сильно отличался от всех, и не статусом иностранца, а явным инакомыслием, вызывавшим к нему интерес. Казалось, и Альваро откликнулся на этот интерес к своей персоне: каждый раз, когда профессор Миттер принимался витийствовать, испанец с легкой улыбкой ловил взгляд Ханса, ища в нем понимание.
Таковы были основные впечатления Ханса от этого вечера. Но все они крутились вокруг одной оси, как разные нити вращаются вокруг одной и той же прялки: главной целью, истинным смыслом его визита в Салон Готлибов ни на секунду не переставала быть Софи. Иногда она обращалась к нему с какой-нибудь фразой, но их диалоги продолжались недолго: она сама же под любым предлогом их прерывала. Или Хансу так казалось. Была ли то застенчивость? Или надменность? Возможно, он как-то неправильно себя вел? Или ей быстро надоедали его речи? Но если ей с ним скучно, зачем она его пригласила? В тот день Ханс то радовался, то горевал, интерпретируя все движения Софи и придавая им чрезмерное значение, переходя от энтузиазма к отчаянию, от мгновенной эйфории к легко вспыхивающей досаде.
А Софи весь вечер чувствовала, что Ханс, хоть и учтиво по форме, но все же дерзко по сути, пытается добиться от нее всевозможных мелких проявлений доверия. Допустить этого она категорически не могла, и по нескольким причинам. Во-первых, в присутствии гостей ей приходилось уделять внимание бесконечному множеству деталей, которыми она не имела права пренебрегать в угоду кому-то одному. Во-вторых, Ханс пришел в Салон впервые и не мог рассчитывать на какие-либо преференции, поскольку это выглядело бы необъяснимо и несправедливо по отношению к другим гостям. В-третьих, она была обручена, и отец пристально следил за ней сквозь дым своей трубки. Но главное, Софи с досадой заметила, что по непонятным ей самой причинам разговор с Хансом ее отвлекал и заставлял думать о самых неподходящих вещах, ничего общего с Салоном не имевших.
Впрочем, уверяла себя Софи, перенося свои колышущиеся юбки из одного конца гостиной в другой, эти мелкие неудобства не повод, чтобы больше его не приглашать, и она не могла не согласиться с тем, что его все более частые реплики отличались оригинальностью, определенной провокативностью и заметно оживляли спор. Именно по этой причине, а не по какой другой, твердила себе Софи, она приняла решение, что Ханса следует приглашать и впредь.
Не знаю, что со мной делает этот город, воскликнул Ханс, передавая шарманщику миску с рисом, он словно не позволяет мне уехать. Шарманщик жевал, кивал и поглаживал бороду. Сначала возникли вы, продолжал Ханс, потом она, каждый раз новая причина, чтобы откладывать отъезд. Иногда мне кажется, что я только что приехал, а иногда я просыпаюсь с таким чувством, будто всю жизнь провел в Вандернбурге. Я выхожу на улицу, смотрю на экипажи и говорю себе: ну же! садись! ведь это так просто, ты ездил в них тысячу раз. И снова пропускаю очередную возможность, сам не зная почему. Представьте, вчера господин Цайт уже не стал меня спрашивать, когда я уеду. Мы увиделись на лестнице, я его подождал, а он, вместо того чтобы задать свой ежедневный вопрос, посмотрел на меня и сказал «до завтра». Меня это ужаснуло. Ненавижу знать будущее. Я почти не мог спать и все думал, сколько дней я здесь? сперва я вел счет, но теперь точно не скажу (а почему это тебя так волнует? спросил шарманщик, что плохого в том, чтобы здесь остаться?), не знаю, но думаю, я боюсь видеться с Софи, чтобы потом вынужденно уехать, ведь это будет куда горше, чем сейчас, поэтому, пока еще не поздно, наверно, разумнее уехать (но ведь это и есть любовь, верно? удивился старик, любовь – это и есть счастье остаться), я в этом не уверен, я всегда считал, что любовь – это движение в чистом виде, своего рода путешествие (но если любовь – путешествие, возразил старик, то зачем тебе уезжать?), хороший вопрос, ну, для того, например, чтобы вернуться, чтобы точно знать, где тебе действительно хочется быть, а как ты иначе узнаешь, что ты в нужном месте, если никогда его не покидал? (а я знаю, что люблю Вандернбург именно поэтому, ответил шарманщик, потому что не хочу его покидать), да, но как быть с людьми? с людьми разве то же самое? для меня нет большей радости, чем вновь увидеть друга, которого давно не видел, иными словами, человек возвращается в какие-то места, потому что их любит, ведь верно? и любовь – это что-то вроде возвращения из путешествия (поскольку я старше тебя, то думаю, что любовь, любовь к каким-то местам, людям, вещам, связана с гармонией, а для меня гармония означает отдых, возможность оглядеться вокруг, и мне хорошо там, где я есть, именно поэтому я всегда играю на Рыночной площади: потому что не представляю себе лучшего места на земле), вещи и места остаются неизменными, но люди меняются, ты и сам меняешься (дорогой Ханс, места тоже постоянно меняются, ты обратил внимание на ветви деревьев? ты обратил внимание на реку?), да никто не обращает на них внимания, шарманщик! весь мир идет своим путем, ни на что не глядя, люди привыкают, привыкают к своему дому, к своей работе, к своим любимым, и в конце концов убеждают себя в том, что это и есть их жизнь, и другой быть не может, это чистейшая привычка (конечно, но любовь тоже привычка, не так ли? любить кого-то – все равно что… как бы это сказать… поселиться в этом человеке). Кажется, я пьянею, вздохнул Ханс и повалился на тюфяк. Шарманщик встал. Похоже, нам нужно третье мнение, сказал он с улыбкой. Выглянув из пещеры, он крикнул: Франц, а ты что думаешь? Но Франц не стал лаять и вместо ответа продолжал спокойно мочиться на сосну. Шарманщик обернулся к Хансу, тот лежал, приложив ладонь ко лбу. Ладно, сказал старик, не грусти. Ты что предпочитаешь: вальс или менуэт?
Господин Цайт заметил темные круги под глазами Ханса и откашлялся. Добрый день, сказал он, уже пятница! Да, неохотно отозвался Ханс. Но тут же подумал: Пятница! сегодня будет Салон! Немного оживившись, он инстинктивно пригладил волосы и внезапно испытал симпатию к колышущемуся пузу хозяина. Знаете, господин Цайт, сказал он, чтобы начать разговор, я вот все думал, почему у вас нет других постояльцев? Вам не нравится наше обслуживание? господин Цайт, казалось, обиделся. Я этого не говорил, поспешил исправиться Ханс, просто меня удивляет, почему здесь так безлюдно. Ничего удивительного, проговорил за его спиной голос госпожи Цайт. Ханс обернулся и увидел, что хозяйка приближается к ним с охапкой дров в руках. У нас так каждый год, продолжала она, зимой постояльцев почти нет, но начиная с весны, а особенно летом работы хватает, приходится даже нанимать двух горничных, чтобы обслужить все номера. Господин Цайт почесал брюхо. Если вы пробудете у нас до конца сезона, то сами сможете убедиться. А еще вот что, продолжал Ханс, где тут у вас отправляют телеграммы? я не видел ни одного телеграфа. В Вандернбурге нет телеграфа, ответил господин Цайт, он нам не нужен. Когда мы хотим что-то друг другу сказать, то идем и говорим.
А если мы хотим кому-то написать, то дожидаемся почтальона и отдаем ему письмо. Мы люди простые. Такими нам и нравится быть.
Лиза! несешь ты белье или нет? закричала вдруг госпожа Цайт. Лиза вошла со двора с корзиной заледеневшего белья. На лице ее застыло раздражение, волосы припорошил снег. Увидев в коридоре Ханса, она шмякнула об пол корзину, как не свою, и поправила слегка задравшийся свитер. Вот, матушка! сказала она, глядя на Ханса. Добрый день, Лиза, поздоровался Ханс. Добрый день, улыбнулась она. Холодно сегодня? спросил Ханс. Холодновато, ответила она. Заметив у него в руке чашку, Лиза спросила: Матушка, кофе остался? Не сейчас, ответила госпожа Цайт, сейчас иди за покупками, а то уже поздно. Лиза вздохнула. Ну что ж, сказала она, тогда до свидания? До свидания, кивнул в ответ Ханс. Лиза закрыла за собой дверь, а Ханс, господин Цайт и его жена больше не обмолвились друг с другом ни словом. Лиза зарыла щеки в воротник пальто. Она улыбалась.
Снег почти стер с лица земли улицу Старого Котелка, окна, крыши домов, прилегающие дороги, пригородные тропинки. По небесному своду над Вандернбургом кто-то упорно передвигал тяжелую мебель.
Профессор Миттер беседовал с господином Готлибом, и пламя мраморного камина освещало его парик. Госпожа Питцин вышивала, украдкой вслушиваясь в их разговор. Господин и госпожа Левин заглядывали друг другу в лицо и учтиво улыбались. Альваро что-то говорил Хансу и увлеченно махал руками. По другую сторону камина, рядом с креслом своего отца, стояла Софи и при помощи невидимых нитей передавала тему разговора от одних гостей к другим. Ханс был доволен: по причине неотложной встречи с недавно прибывшим в Вандернбург графом Руди Вильдерхаус снова не смог прийти. Его усадили в кресло рядом с Софи, и каждый раз, когда она говорила и ему хотелось на нее взглянуть, он вынужден был выкручивать шею. Как и всякий новичок, Ханс находился под пристальным наблюдением, по крайней мере, так ему казалось, и вести себя неблагоразумно он не решался. Поэтому он стал потихоньку двигать кресло каждый раз, когда вставал или менял позу, и постепенно сумел переместиться в зону видимости большого круглого зеркала, висевшего на противоположной от камина стене, получив, таким образом, возможность, не нарушая приличий, следить за движениями и взглядами Софи. Он не знал, разгадала ли она его оптический маневр, но картинные позы, которые она принимала в своем кресле, показались ему подозрительными.
Лично я, говорил господин Готлиб, сомневаюсь в уместности Таможенного союза[6]. Подумайте, друзья мои, какая вспыхнет чудовищная конкуренция и, как знать, не закончится ли она разорением всех мелких коммерсантов и всех семейных предприятий, которым всегда так трудно удерживаться на плаву. Напротив, господин Готлиб, возразил господин Левин, Таможенный союз оживит рынок, количество сделок возрастет в разы, возрастут и возможности обмена (и комиссионные вознаграждения посредников, не так ли? язвительно ввернул профессор Миттер), кхм, это всего лишь прогноз. Я совсем в этом не уверен, ответил господин Готлиб, завтра может объявиться торговый посредник, ну, скажем, из Майнца, и перехватить те операции, которыми прежде занимались вы, ведь верно? Я думаю, лучше оставить все как есть, жизнь меняется только к худшему, поверьте мне, я кое-что в ней повидал. И все же, не отступал господин Левин, если говорить о распределении задач, то вполне вероятно, что мистер Смит[7] не ошибался, предлагая каждой стране сконцентрироваться на производстве того, к чему располагает ее естественный порядок (естественный порядок? удивился Альваро, и что такое «естественный порядок»?), ну, это же ясно: природные условия, климат, традиции, все прочее, чтобы можно было затем совершенно свободно обмениваться произведенными продуктами с другими странами, кхм, такая вот идея. Идея интересная, господин Левин, подключился к беседе Ханс, но, прежде чем говорить о свободе предпринимательства, следовало бы посмотреть, кто будет хозяином этой уникальной продукции, естественной или какой-то еще, назовите ее как угодно. Ведь если все окажется в руках немногих, эти немногие станут истинными хозяевами страны и будут диктовать правила игры и условия жизни для всех остальных. Теории Смита могут привести государства к богатству, но его тружеников – к абсолютной нищете. Я думаю, что, прежде чем вводить систему свободной торговли между странами, следовало бы принять другие меры: провести земельную реформу, ликвидировать латифундии, распределить землю более справедливо. Речь нужно вести не только о развитии предпринимательства, но и об устранении истинных препятствий для его развития, в первую очередь – социально-экономических. Ох! воскликнул профессор Миттер, теперь мы перескочим на Сен-Симона? Не совсем, господин профессор, ответил Ханс, хотя я не понимаю, что было бы в этом плохого. Работники не должны попадать в безраздельную зависимость от владельцев собственности, государство обязано не скажу «контролировать», но в определенных пределах регулировать весь процесс, чтобы гарантировать работникам их основные права. Ну, ясное дело, откликнулся профессор Миттер, нам требуется сильное государство, которое укажет верную дорогу, государство, скроенное по наполеоновскому или робеспьеровскому образцу! Я говорю не об этом, возразил Ханс, перераспределение богатств вовсе не обязательно должно вести к террору (а кто может гарантировать, что дело не дойдет до такой крайности? поинтересовался профессор, кто будет контролировать само государство?), позвольте мне договорить, профессор, одним словом, вообразите, что произойдет, если заводы будет контролировать один Господь Бог! Кхм, снова заговорил господин Левин, возвращаясь к Смиту… Я согласен с идеей Таможенного союза, перебил его Ханс, в душе подозревая, что зря столько говорит, – но лишь в качестве первого шага. При всем моем уважении, господин Левин, коммерческое общество – это далеко не все, что нужно, эта деталь важна, нет никаких сомнений, но она не главная (а какая же главная, разрешите полюбопытствовать? спросил профессор Миттер), я назвал бы самым главным согласование принципов внешней политики. Естественно, в корне отличных от принципов Священного союза, нацеленных лишь на защиту монархий. Я говорю не о военном единстве, а о парламентском. О том, что Европа должна рассуждать как единая страна, как содружество граждан, а не как сумма экономических партнеров. В первую очередь, конечно, следовало бы смягчить пограничный контроль. А после этого почему бы не пойти дальше, объединив таможни? почему бы не представить себе германский союз, ставший частью континентального союза? Профессор Миттер вытянул губы дудочкой, как человек, потягивающий через соломинку коктейль. Сколько же в вас наивности! воскликнул он, объединить нас с кем, господин Ханс? С французами, которые нас захватили? С англичанами, которые подмяли под себя всю промышленность? С Испанией, которая с одинаковой легкостью два раза коронует одного и того же короля и провозглашает дикую республику[8]? Давайте все же будем практичны и перестанем предаваться мечтам! Во всяком случае, мне, пожал плечами Ханс, кажется вполне уместным предаться подобной мечте. Да, безусловно, конечно, фантазии, пробормотал господин Левин, хотя…
Софи сцепила пальцы в замок и, дипломатично улыбаясь, произнесла: Я в принципе согласна с фантазиями господина Ханса. Господин Готлиб опустил веки и закурил, словно свое собственное мнение он надумал сжечь. Профессор, сказал Альваро, и все-таки вы хватили через край (это в чем же? не понял профессор Миттер), насчет Испании (а! отозвался профессор). Кто-нибудь хочет слоеного пирожного? Софи встала, уклоняясь от взгляда Ханса, следившего за ней через зеркало.
Затем Ханс надолго отключился от споров. А когда к ним вернулся, речь держал Альваро. В Испании? говорил он, там, знаете ли, по-разному бывает, мне доводилось читать Ховельяноса и Олавиде[9]. Друг мой, с искренним интересом перебил его профессор Миттер (но Ханс, еще не различавший профессорских интонаций, заподозрил в его голосе иронию), я боюсь, что мы не знаем, кто такие эти господа. Сочту за честь объяснить, ответил Альваро (и снова Ханс не был уверен, нет ли и в этих словах иронии), ничего удивительного, профессор, мы, испанцы, к этому привыкли: в моей стране было мало мыслителей, но те немногие, кто все-таки думал, задумывались весьма глубоко, хотя иностранцы этому не верят. Олавиде, мужественный человек, был чересчур вольтерьянцем, чтобы быть севильцем, и чересчур севильцем, чтобы совершить Французскую революцию. Его очень мало читали, а теперь читают еще меньше. Ховельянос же, напротив, добился известности. Он был большим умницей, но в нем словно уживались два человека. Наклонности приходского священника разрушали в нем реформаторские устремления, если вы понимаете, что я имею в виду. И, безусловно, он был слишком интеллигентным, чтобы хоть кому-то доставить неприятности. В моей стране, дорогие друзья, либералы, даже самые умеренные, всегда заканчивают жизнь в изгнании. Ховельяносу хватило одной лишь смены короля, чтобы из мадридского дворца отправиться инспектировать астурийские рудники, а оттуда в тюрьму, купаться под охраной в море, хотя его вполне умеренные взгляды не изменились ни на йоту (как интересно! воскликнула госпожа Питцин, это мне напоминает роман, который я недавно читала. Дорогая, сказала Софи, погладив ее руку, вы немедленно нам о нем расскажете), пока не умер от пневмонии. К удивлению Ханса, профессор Миттер достал из кармана блокнот, что-то записал и спросил: А какое произведение господина Овельяноса, господин Уркио, вы считаете лучшим? Уркихо, улыбнулся Альваро, лучшим? трудно сказать. С моей точки зрения, самое лучшее деяние Ховельяноса – это его попытка показать всей Испании, что по ее театральным и прочим развлечениям, по ее боям с быками можно точно судить, как она живет, трудится и позволяет собой управлять[10]. О! понимаю, воскликнул профессор Миттер, отрывая глаза от блокнота, эдакий образчик французского просветителя[11]. Альваро вздохнул: Еще какой! Ханс почувствовал, что фразе испанца чего-то недостает: Но? Альваро кивком поблагодарил его за уловленный подтекст и закончил свою мысль: Да нет, ничего такого, просто исповедовался он не реже двух раз в месяц! (Ханс было засмеялся, но, бросив взгляд на господина Готлиба, проглотил остатки смеха), вот такие дела: испанское просветительство на деле оказалось лишь печальным анекдотом.
Видя, с каким энтузиазмом Софи услаждает слух профессора Миттера лестью, Ханс заподозрил, что она не высказывается не потому, что не имеет собственного мнения, а только из хитрого расчета. Видимо, острота дебатов доставляла ей удовольствие. Подталкивая гостей к спору и никого не перебивая, она в то же время старалась угодить профессору. Эта девушка, подумал Ханс, еще потреплет мне нервы. Но, дорогой господин Ханс, возразил профессор Миттер, нажимая пальцем на дужку очков, Европе совершенно необходим порядок, едва ли имеет смысл напоминать вам о войнах и вторжениях, которые мы пережили. Профессор, ответил Ханс, косясь на зеркало, Европа никогда не сможет установить внутри себя порядок, если справедливый порядок не установится в каждой из ее стран. Разве тот факт, что конституции наших захватчиков принесли нам гораздо больше свободы, чем мы до этого имели, не повод, чтобы хотя бы задуматься?
И тут взгляды перекрестились: Ханс увидел в зеркале, что господин Готлиб поворачивает к нему голову, а Софи, в свою очередь, ищет в зеркале его глаза, чтобы привлечь его внимание. Ханс быстро обернулся, как раз вовремя, чтобы успеть извиниться: Сударь, прошу вас простить мне мою горячность. Хозяин дома покачал головой, словно отказываясь кого-то судить. Ах, оставьте, господин Ханс, вмешалась Софи, мой отец уважает мнение каждого участника Салона, ценит свободу высказываний, и это его качество, не правда ли, дорогой отец? одно из тех, которые меня в нем особенно восхищают. Господин Готлиб застенчиво подобрал усы, подержал руку дочери в своей и снова откинулся на спинку кресла. Как я бы сказал, кхм, laissez faire, laissez passer[12], вдруг лукаво прокомментировал господин Левин. Все засмеялись. Невидимое зубчатое колесо преодолело преграду и продолжило свое вращение. Ханс увидел в зеркале приподнятые брови Софи.
Но позвольте узнать, милостивый государь, снова заговорил профессор Миттер, за что вы так ненавидите Меттерниха? За слишком длинный нос, ответил Ханс. Софи не смогла сдержать легкой усмешки. Покосившись на отца, она отвела глаза в сторону и поспешила за новой порцией печенья, прихватив с собой Эльзу. Ханса поддержал Альваро: Его величество Фридрих Вильгельм[13] хоботком также не обездолен и, видимо, поэтому так хорошо чует все то, что попахивает республикой. Профессор Миттер, обладавший удивительной способностью реагировать вдвое спокойней как раз в тех случаях, когда готов был взорваться, ответил отеческим тоном: Liberté, fraternité, кто этого не желает? Sans rancune, bien sûr, mais qui ne voudrait pas ça?[14] Сам Спаситель к этому призывал! Честно говоря, господа, меня удивляет допотопность ваших так называемых новых идей. Вы вспомните, вмешался господин Готлиб, подняв указательный палец и высунув из-за спинки кресла усы, словно вынырнувший бобр, к чему привело взятие Бастилии. Сударь мой, ответил Ханс, видя, в каком состоянии теперь пребывает Франция, мы не удивимся, если ее возьмут еще раз. Профессор Миттер сухо засмеялся. Je vois, добавил Ханс, que vous avez l’esprit moqueur[15]. Глядя друг другу в глаза, оба вынуждены были признать, что хорошо владеют французским. В это время из коридора появилась Софи. Шелест ее юбок замер возле камина. Мой молодой друг господин Ханс, медоточивым тоном продолжал профессор, давайте проявим благоразумие и, как предложил наш милейший господин Готлиб, посмотрим, куда нас завела революция; скажите нам: это и есть правосудие? в этом и заключаются новые времена? в рубке голов? в переходе от абсолютизма к сверхабсолютизму? в низвержении монархов с целью короновать императоров? но в таком случае объясните, как же добиться этой вашей хваленой свободы? Не знаю, ответил Ханс, но, поверьте, точно знаю, как ее добиться нельзя. Например, ее нельзя добиться, упраздняя конституции, запрещая свободу слова. Франция, заметил Альваро, хотела революции, а все обернулось бунтом. Настоящая революция должна быть другой. Но какой? вдруг словно проснулся господин Левин, какой она должна быть? Думаю, что совершенно другой, ответил Ханс, она должна быть чем-то таким, что сначала преобразует нас самих, а потом и наших правителей. По крайней мере, во Франции, усмехнулся Альваро, революции затевают те, кто у власти, а здесь этим занимаются исключительно философы. Если мы обратимся к латыни, наставительно изрек профессор Миттер, то все станет на свои места: слово «революция» означает поворот вспять. И единственное, что она умеет делать, это повторяться. Боюсь, господа, что ваша так называемая свобода есть не что иное, как историческое нетерпение. Нежелание терпеть, профессор, это и есть принцип свободы, возразил Альваро. Не так ли? поддакнул господин Левин. Именно так, неожиданно вмешалась в спор госпожа Питцин. Господин Ханс? Софи повернулась к нему за ответом. Я, сударыня, улыбнулся Ханс, предпочитаю не проявлять нетерпения.
Чтобы нарушить наступившую тишину, Софи вдруг сказала: А вы, госпожа Левин? Госпожа Левин подняла глаза и в ужасе уставилась на Софи. Я, промямлила она, что я? Дорогая, продолжала Софи, мне показалось, вы так молчаливы! Я просто хотела узнать, каковы ваши политические взгляды. Если, конечно, с моей стороны не слишком дерзко спрашивать вас об этом (добавила она, глядя на мужа госпожи Левин и очаровательно хлопая глазами). По правде говоря, ответила госпожа Левин, дотрагиваясь до своей прически, у меня нет политических взглядов. Сударыня, вы хотите сказать, уточнил Альваро, что никогда не задумываетесь о политике или просто от нее устали? Господин Левин ответил за жену: Мою супругу политические дискуссии утомляют, она никогда об этом не задумывается. Ах, господин Левин, вздохнула Софи, умеете же вы разрушить чужое молчание!
К запаху табачного дыма господина Готлиба примешался запах бульона. Эльза и Бертольд зажигали свечи. Бертольд что-то шептал горничной в ухо, она отрицательно качала головой. В свете канделябров черты лица профессора Миттера приобрели патрицианскую обстоятельность. Я полагаю, что французы, продолжал он, восприняли разгром Бонапарта и уничтожение своих армий не как конец какой-то аномалии, а как начало грандиозной реконструкции. Французские политики озлоблены и строят из себя оскорбленную невинность. Не знаю, удастся ли им таким путем восстановить страну, или они уничтожат себя дважды. Лишние воспоминания замучают их стыдом, а если они станут изображать амнезию, то так никогда и не поймут, каким образом до всего этого докатились. Вы совершенно правы! вмешался Ханс, хотя и мы, немцы, должны это помнить, ведь подобное с нами случалось и может случиться вновь. Именно чем-то в этом роде и занимаются изменники, сказал профессор Миттер, которые поддерживали Бонапарта, а теперь претендуют на объединение с Пруссией, совершенно игнорируя прошлое и, как этого не упомянуть! все наши культурные различия. Дражайший профессор, возразил господин Левин, но разве мы так уж отличаемся друг от друга? разве обязательно настаивать на нашем разделении, вместо того чтобы… Послушайте, перебил его профессор Миттер, вы все, кто с восторгом судачит о единстве, братстве разных государств и бог весть о чем еще, верите, что различия между народами исчезнут, как только на них перестанут обращать внимание! Исторические различия нужно изучать (но не усугублять, заметил Ханс), изучать, господин Ханс, и учитывать, каждое в свою очередь, чтобы очертить разумные границы, а вовсе не для того, чтобы безответственно играть в их устранение или сдвигать их, как нам заблагорассудится. Но Европа ведет себя так, словно мы все сговорились мчаться вперед без оглядки. И позвольте добавить, что при старом режиме наши герцогства, княжества и города имели больше свобод и больше автономии. Вот именно, ответил Ханс, выпрямляясь в кресле, ровно столько автономии, что постоянно свободно воевали, выясняя, кто из них главный. Господа, воскликнул Альваро, подобная картина напоминает мне Средние века в Испании. Это плохо? спросила госпожа Питцин, чрезвычайно интересовавшаяся то ли Средними веками, то ли Альваро де Уркихо. Плохо – не то слово, ответил он, хуже некуда. Я обожаю Испанию! вздохнула госпожа Питцин, это такая пламенная страна! Ах, сударыня, не переживайте, сказал Альваро, вы еще познакомитесь с ней поближе. Господин Ханс, снова заговорил профессор Миттер, меня удивляет вот что: вы, столь многословно рассуждающий о личных свободах, отказываетесь соглашаться, что национализм выражает индивидуальность народов. В этом следовало бы сперва убедиться, ответил Ханс, иногда мне кажется, что национализм – одна из форм подавления индивидуальности. Кхм, интересная мысль, заметил господин Левин. Я лишь хочу сказать вам вот что, настаивал профессор: сделай Пруссия все необходимое, чтобы остановить распространение революции, французы никогда бы нас не оккупировали. А я вам говорю, ответил Ханс, что мы просто ошиблись с оккупацией и, вместо того чтобы позволить захватить себя французским идеям, позволили захватить себя французским войскам.
Видя, что профессор Миттер набирает воздуха для ответа, Софи поднесла ему тарелку с теплым пудингом из саго и сказала: Господин Ханс, поясните нам, пожалуйста, свою мысль. Да, конечно, продолжал Ханс, мы были унижены и преданы Наполеоном. Но теперь мы, немцы, управляем собой сами и, удивительное дело, когда нам удалось изгнать захватчиков, притеснять нас взялось наше собственное правительство, как вам это нравится? Дорогой господин Ханс, вмешался господин Готлиб, поймите, мы двадцать лет терпели унижения на своей земле, наблюдали, как мимо нас маршируют французские войска, видели, как они устраиваются на берегах Рейна, как идут через Тюрингию, захватывают Дрезден, кстати, Софи, в последнее время тебе писал твой брат? нет? и после этого он жалуется, что мы его не навещаем! одним словом, что я говорил? а! войска, как они оккупируют Берлин и даже Вену, дорогой господин Ханс, да Пруссия почти прекратила свое существование, одним словом, возможно ли было не отреагировать на это жестко? Не будем забывать, дорогой господин Готлиб, сказал Ханс, что, помимо всего прочего, именно наши князья довели дело до того, что. Я не забываю, перебил его господин Готлиб, я не забываю, но, честно говоря, неплохо бы народу Пруссии однажды отомстить за все свое бесчестье. Отец, запротестовала Софи, не говори таких слов. Voilá ma pensée[16], объяснил господин Готлиб, поднимая руки и прячась за ушками кресла. Чтобы уничтожить всю Европу, сказал Ханс задумчиво, Наполеон не понадобится, нам достаточно самих себя. Я только что из Берлина, сударь, и уверяю вас, мне совсем не понравился воинственный энтузиазм молодежи, лучше бы у нас было больше английской политики и меньше прусской полиции. Не будьте таким легкомысленным, возмутился профессор Миттер, эта полиция защищает вас и меня. Мне она об этом ничего не говорила, иронично возразил Ханс. Господа, вмешалась Софи, господа, немного выдержки, у нас впереди еще чай, и будет жаль, если мы не успеем его выпить. Эльза, дорогая, пожалуйста…
Ханс увидел, что Софи заговорила с господином Левином, и стал смотреть в другую сторону. Господин Левин, сказала Софи, вы выглядите таким задумчивым, скажите, какого вы мнения о нашем излюбленном злодее? Кхм, ответил господин Левин, я не думаю о нем ничего определенного, то есть вы понимаете. Нужно признать, что среди прочих деяний, кхм, достойных упоминания, Наполеон ввел некоторое гражданское равноправие, я хочу сказать, что. Это мы отлично понимаем, перебил его профессор Миттер, скривив губы, а мне интересно, что сказано в Торе по поводу гражданского равноправия. Дорогой профессор, осадила его Софи, прошу вас не записываться в острословы! Кстати, сказал Альваро, а что думает по этому поводу наша очаровательная хозяйка? Вот именно, поддержал его профессор, нам всем это ужасно интересно. Дорогая, сказала госпожа Питцин, тебя взяли в оборот! Усы господина Готлиба обвисли в ожидании. Госпожа Левин перестала пить чай. Ханс снова обратился к зеркалу и смотрел в него во все глаза. Господа, сказала Софи, хотя по сравнению с вами в политике я полный профан, но все же думаю, что разочарование в революции не должно становиться причиной для разворота истории вспять. Возможно, я слишком далеко захожу в своих догадках, но вы читали «Люцинду»[17]? не кажется ли вам, что эта книжица есть закономерный плод революционных ожиданий? Дорогая моя, воскликнул профессор Миттер, эта книга не имеет никакого отношения к политике! Милейший профессор, улыбнулась Софи и грациозно пожала плечами, смягчая свое возражение, разрешите мне заняться домыслами и на минуту предположить, что имеет, «Люцинда» – глубоко политический роман именно потому, что в нем нет рассуждений на темы государства, а есть лишь рассуждения о частной жизни, о новых личностных взаимоотношениях граждан. Но бывает ли более серьезная революция, чем революция нравов? Профессор Миттер вздохнул: Эти Шлегели, они невыносимы. И какая идиотски исступленная враждебность к протестантскому рационализму! Младший брат в конечном счете превратился в то же, во что и его афоризмы – в прах. А старшему, бедняжке, из увлекательного за всю жизнь только и досталось, что переводить Шекспира. Изумленный Ханс уже не смотрел в зеркало. Так, значит, вам нравится Шлегель, сударыня? спросил он тихо. Шлегель – нет, ответила она, вернее, не во всем. Я обожаю его роман, мир, который он создал. Вы не представляете себе, прошептал Ханс, до какой степени я с вами согласен. Софи опустила глаза и принялась переставлять чашки. Еще мне кажется, продолжила она, убедившись, что ее отец и профессор завели разговор между собой, мне кажется, что Шлегель закончил тем же, чем и Шиллер: паническим страхом перед настоящим. По правде говоря, будь на то их воля, я бы не имела возможности рассуждать об их произведениях, а занималась бы только примеркой нарядов. Дорогие друзья, произнес господин Готлиб и встал с кресла, надеюсь, что вы приятно завершите эту встречу. Он подошел к настенным часам, пробившим ровно десять. Как и каждый вечер в этот час, он завел пружину. Затем раскланялся и удалился в свои покои.
Понимая, что ему нельзя уходить последним, немного погодя встал и Ханс. Бертольд пошел за его пальто и шляпой. Ханс отвесил общий поклон, задержав взгляд на профессоре Миттере. Софи, как будто бы оживившаяся после ухода отца, подошла к нему попрощаться. Госпожа Готлиб, сказал Ханс, прошу вас, не сочтите мои слова за пустую вежливость, но благодаря вам я провел несколько незабываемых часов. С вашей стороны было весьма великодушно пригласить меня, и я надеюсь, что не буду изгнан из Салона за свою болтливость. Напротив, уважаемый господин Ханс, ответила Софи, это я должна вас благодарить, сегодняшние дебаты были самыми оживленными и интересными из всех, какие я могу припомнить, и подозреваю, что ваше присутствие имело к этому отношение. Даже не знаю, как мне воспринимать вашу поддержку, сказал Ханс, переходя дозволенные рамки кокетства. Не беспокойтесь, покарала его Софи, в следующую пятницу я буду чаще вам возражать и проявлю меньше гостеприимства. Госпожа Готлиб, откашлялся Ханс (слушаю вас, поспешно откликнулась она), если вы позволите, одним словом, я хотел, мне было бы приятно поздравить вас с таким удачным высказыванием о Шлегеле и «Люцинде». Благодарю вас, господин Ханс, улыбнулась Софи, поглаживая пальцами ребро другой ладони, вы, видимо, заметили, что я стараюсь не возражать своим гостям, но, когда меня спрашивают о Наполеоне, я не нахожу в себе сил поддерживать реставраторов монархии. А сейчас, уважаемый друг (при слове «друг» у Ханса екнуло сердце), если это не слишком смело с моей стороны, мне хотелось бы кое-что конкретизировать по поводу Французской революции (прошу вас, продолжайте, сказал он), думаю, сегодня мы оба защищали определенные убеждения, но, чтобы не изменять самой себе, я должна напомнить вам о том, о чем вы не сказали. Видите ли, среди многих упреков, которые мы можем предъявить якобинцам, один связан с их возмущением в ответ на требование французских женщин позволить им участие в публичной жизни. Поэтому я говорила, что, помимо новых политических проектов, необходимы преобразования в частной жизни. Думаю, вы со мной согласитесь: если бы революция личностных отношений свершилась должным образом, ее естественным следствием стало бы изменение государственного управления, вы понимаете, о чем я говорю, и мы, женщины, смогли бы претендовать на места в парламенте, а не только на места за пяльцами, хотя, уверяю вас, я не имею ничего против вышивания и, по правде говоря, считаю его одним из лучших способов успокаивать нервы. Короче, уважаемый господин Ханс, не надо считать меня такой уж изобретательной, я уверена, что в ближайшую пятницу вы найдете интересные аргументы, чтобы мне возразить, Бертольд! куда ты запропастился? я уж думала, что ты потерял пальто нашего гостя! доброй ночи, и будьте осторожнее, на лестнице очень темно, до свидания, спасибо, до свидания.
Пока Ханс, как сомнамбула, брел к воротам Готлибов, кто-то окликнул его с лестницы, и он остановился. В просвете между двумя полосами тьмы мелькнул, блеснув глазами, Альваро. Дружище Ханс, сказал он, хлопнув собеседника по спине, не слишком ли сейчас детское время, чтобы два таких кабальеро, как мы, отправились по домам?
Пробираясь по смерзшейся грязи и обледеневшей моче, они миновали Оленью улицу. Благодаря газовым фонарям Рыночная площадь слегка мерцала: их свет то вспыхивал, то угасал, как аккорд на музыкальном инструменте, обезлюдевшая мостовая меняла угол наклона, барочный фонтан то исчезал, то появлялся снова, контуры Ветряной башни чуть-чуть дрожали. Альваро и Ханс перешли площадь, прислушиваясь к своим шагам. Ханса по-прежнему поражал контраст между днем и ночью, между яркой цветовой гаммой фруктовых прилавков и желтой тьмой, между суетой прохожих и этой ледяной неподвижностью. Можно подумать, сказал он себе, что одна из этих площадей, то ли дневная, то ли ночная, просто мираж. Подняв глаза, они оглядели асимметричные шпили церкви Святого Николауса, ее накренившийся фасад. Альваро остановился и сказал: Однажды эта церковь непременно рухнет.
В отличие от чистого поля и сельских окрестностей, где дневной свет увядает постепенно, в Вандернбурге день смыкает свои створки в мгновение ока, с той же пугающей быстротой, с какой захлопываются ставни в домах. Закат словно утекает в водосток. И сразу же редкие прохожие начинают натыкаться на амбарные бочки, углы повозок, края брусчатки, забытые поленья и мешки с отбросами. По ночам возле каждой двери киснет мусор, и в круг его зловония сбегаются кошки и собаки, чтобы на этом пиршестве не отставать от мух.
Если посмотреть на город сверху, он похож на плывущую по воде свечу. Вокруг ее центра, фитиля, сияют газовые фонари Рыночной площади. В стороны от них волнами сгущается тьма. Все прочие улицы отходят от центра пучками волокон, растаскивающих с собой нити света. Масляные фонари, похожие на бледный, вьющийся по стенам плющ, едва освещают землю под ногами. Ночь в Вандернбурге – это не просто волчья пасть, это жадно заглатываемая волком добыча.
С некоторых пор по ночам, старательно избегая встреч с ночным сторожем в прилегающих к площади улочках, сливаясь цветом со стенами, укрывшись в тени, выжидает некто неизвестный. То в Шерстяном переулке, то на узкой Молитвенной улице, то в самой глубине Господня переулка, затаив дыхание, облаченный в длинное пальто и черную широкополую шляпу, неизвестный держит руки по локоть в карманах: на нем облегающие перчатки, под пальцами, наготове, нож, маска и веревка, и, схоронившись в углу, он вслушивается в каждый шаг, в малейший шорох. Как всегда по ночам, где-то рядом с темными переулками, которые его скрывают, совсем где-то рядом, перекрещиваются освещенные фонариком пики ночных сторожей, и каждый час, сняв шляпы, сторожа трубят в свои рожки и зычно голосят:
- Все по домам, до завтрашнего дня!
- Часы на церкви били восемь раз,
- Ложитесь спать, не жгите зря огня,
- И да хранит Господь всех нас!
Рыночная площадь дрейфует под своим замерзшим флюгером. Позади – асимметричные башни Святого Николауса. Та, что с острым шпилем, царапает край сочащейся влагой луны.
Любители выпить собирались у барной стойки, окружали ободранные сосновые столы. Ханс огляделся, переводя взгляд с одной кружки на другую, и, к своему удивлению, узнал одного из выпивох. Ведь это? начал он, разве это не? (кто? встрепенулся Альваро, вон тот?), да, в сверкающей жилетке, тот, что чокается с двумя другими, разве это не? (бургомистр? подсказал Альваро, да, а почему ты спрашиваешь? ты с ним знаком?), нет, то есть мне его представили на одном приеме несколько недель назад (а, ты тоже там был? какая жалость, что мы еще не знали друг друга!), да уж, празднество было скучнейшее, но что он делает здесь в такое время? (чему тут удивляться, глава городского совета Ратцтринкер любит «Центральную» таверну, про пиво я и не говорю, к тому же он всегда твердит, что его жизнь состоит в служении народу, ну а пьянство с народом по ночам, видимо, лучший способ узнать его поближе).
Альваро заказал светлое пиво. Ханс предпочел пшеничное. В мареве раскаленного пара, в тесном общении они убедились, что их взаимная симпатия в Салоне возникла не случайно. В свойской беседе Альваро был говорлив и откровенен, давал волю энергии, которую в обществе старался сдерживать. Как все очень живые люди, он сочетал в себе две характерные черты: язвительность и ранимость. Обе можно было разглядеть в том энтузиазме, с которым он говорил. Что же касалось его самого, то в Хансе ему была симпатична неброская твердость человека, уверенного в чем-то, чего он никому не поверяет. Его умение присутствовать и не присутствовать одновременно, нечто вроде вежливой границы, из-за которой он слушал с таким видом, словно готов был в любую секунду повернуться спиной. Они общались, как редко удается пообщаться двум мужчинам: не перебивая друг друга, не бросая друг другу вызов. Чередуя повествование смешками и долгими глотками пива, косясь на столик председателя городского совета, Альваро поведал Хансу удивительную историю города Вандернбурга.
На самом деле, рассказывал Альваро, невозможно указать на карте то место, где находится Вандернбург, потому что он все время перемещается. Город так часто переходит из одного региона в другой, что стал почти невидимкой. Поскольку эта территория испокон веку болталась между Саксонией и Пруссией, сама толком не зная, кому принадлежит, то вырос Вандернбург исключительно за счет земель католической церкви. Об использовании этих земель церковь изначально договорилась с несколькими местными семействами, с Ратцтринкерами в том числе – им принадлежат фабрики и существенная часть текстильной промышленности, а также с Вильдерхаусами (с Вильдерхаусами? вздрогнул Ханс, с теми самыми, что?..), с ними, с семьей Руди, жениха Софи, и я думаю, что теперешние Вильдерхаусы – потомки одного из первых князей Вандернбурга, что ты на меня так смотришь? серьезно! я слышал, что Руди и его братья доводятся этому князю какими-то непрямыми потомками. Кроме уймы земельных наделов, у Вильдерхаусов есть родственные связи в прусской армии и в чиновничьих кругах Берлина. Но главное – в свое время эти родовитые семейства обязались в обмен на часть церковных земель не уступать давлению протестантских князей, будь то саксонцы или пруссаки. Эти земли до сих пор приносят их потомкам изрядный доход, ну а они, в свою очередь, платят церкви богоугодную треть дохода (фабула ясна, сказал Ханс, но почему их до сих пор не захватили? почему протестантские князья терпят это упрямство?), возможно, потому, что не видят смысла их захватывать. Местные помещики всегда были отменными землепользователями, очень эффективными управляющими, и очевидно, что никому другому не удастся выжать хоть что-то большее из этих территорий и скота, в свою очередь не стоящего того, чтобы из-за него браться за оружие. К тому же у кого, ты думаешь, до недавнего времени оседала одна из оставшихся двух третей дохода? Естественно, у наследного саксонского князя. Так что сделка была выгодна всем: никого не надо захватывать, ни с кем не надо судиться, и каждый получает свое. Церковь сохраняла земли в самом центре еретического региона. Саксонские князья избегали обострения приграничных конфликтов и вражды с католическими князьями, а заодно обретали ореол известной терпимости, которым в нужный момент не преминут воспользоваться. Поэтому вандернбургская олигархия без всяких угроз всегда платила дань обеим сторонам, не знаю, внятно ли я объясняю (объясняешь ты превосходно, сказал Ханс, но как ты все это узнал?), коммерция, друг мой, ты и представить себе не можешь, как много узнаёшь, занимаясь коммерцией (я все еще удивляюсь, что ты занимаешься коммерцией, твоя речь совсем не похожа на речь дельца), минутку, ты должен учесть два обстоятельства. Во-первых, дорогой Ханс, не все коммерсанты такие идиоты, какими они поголовно кажутся. And number two, my friend[18], это уже другая история, и началась она в Англии, но расскажу я ее как-нибудь в другой раз.
Но как ты ладишь со всеми этими семействами? спросил Ханс. О! превосходно! воскликнул испанец, я их молча презираю, а они делают вид, что не собираются за мной шпионить. Кстати, прямо сейчас за нами шпионят, pues que les den bien por el culo![19], (как ты сказал? переспросил Ханс, я не понял), ничего, не важно. Продолжаем улыбаться и обсуждать дела. Я знаю, что некоторые семейства пытались найти других оптовых продавцов для своей текстильной продукции. Но у нас самые выгодные условия, так что им по сей день приходится меня терпеть, чтобы поддерживать отношения с моими английскими партнерами (а почему ты не в Англии?), видишь ли, ответ на этот вопрос довольно грустный, я расскажу тебе об этом в другой раз. Но главное – они нуждаются в наших оптовых закупщиках в Лондоне. После блокады и падения Наполеона Вандернбург не имел никаких коммерческих связей с Англией, а теперь они нашли возможность расширить рынок сбыта через моих партнеров. В любом случае у них нет другого выбора, это мелкая провинция, удаленная от Атлантики, слабо связанная торговлей с портами Северного и Балтийского морей. Они в нас нуждаются. Терпения вам, господин бургомистр! (промурлыкал Альваро, поднимая кружку в сторону Ратцтринкера, не имевшего возможности расслышать его слова и состроившего в ответ кислую мину).
Только одного я не пойму, сказал Ханс, каким образом здесь появились церковные земли? Откуда взялось католическое княжество на протестантской территории? С каждым днем этот город удивляет меня все больше и больше. Да, согласился Альваро, меня он тоже сначала удивлял. Видишь ли, во время Тридцатилетней войны эти земли находились практически на границе между Саксонией и Бранденбургом и только с большой натяжкой могли называться саксонскими. Регион был захвачен католиками и стал их анклавом, призванным воспрепятствовать сообщению вражеских войск. Таким образом, совершенно случайно, Вандернбург оказался в роли бастиона Католической лиги в самом сердце Евангелической унии. После заключения Вестфальского мира его объявили церковным княжеством, официант! еще две кружки! как это нет? от последней не отказываются, ни в коем случае, заплатишь в следующий раз, или ты больше не пойдешь со мной в таверну? Так о чем я говорил? А, и оно стало называться Вандернбургским княжеством и официально называется так и по сей день. Если ты помнишь, в Вестфалии было решено уважать религию каждого государства, выбранную его правителем, критерий весьма плачевный, да. И, судя по всему, здешним князем в то время был католик. Его родители, видимо желая избежать разрушения города, сотрудничали с силами Контрреформации. Таким образом, Вандернбург стал и с тех пор остается католическим городом (интересная история, воскликнул Ханс, я ее не знал и даже не подозревал о существовании церковного княжества, хотя несколько раз слышал об этом, но), я тебя понимаю, так бывает со всеми, я приехал сюда по другим причинам, иначе бы тоже ничего не узнал, одним словом, оставим это до следующего раза. Да, и вот еще что особенно интересно: в течение веков ситуация почти не изменилась. Эта маленькая территория всегда была окружена врагами, затерявшись среди сотен разрозненных германских государств, но даже объединительным процессам империи не удалось изменить судьбу нескольких гектаров земли (а при Наполеоне? разве при французах ничего не изменилось?), о! это самая увлекательная часть истории! Поскольку Саксония приняла сторону Наполеона, Вандернбург был мирно оккупирован его войсками, проходившими через город к границе с Пруссией и обратно. Брат Наполеона в обмен на услуги города, исполнившего роль перевалочного пункта, проявил уважение к католической власти Вандернбурга. Но после падения Наполеона Пруссия оккупировала часть Саксонии, и определенная часть вандернбургских земель оказалась на прусской территории. Рядом с городом опять прошла граница, но уже с другой стороны. А посему, мой друг, поднимем кружки! мы с тобой пруссаки, coño![20], и обязаны об этом громко заявить, так что давай воспламенимся прусским задором! (Когда Ханс поднес свою кружку к кружке испанца, Вандернбург впервые показался ему немного ближе.)
Теперь уже Пруссия получает часть подати, засмеялся Альваро, и за это мирится с исключительным положением Вандернбурга. Вильдерхаусы, Ратцтринкеры и прочие землевладельцы по-прежнему зовутся католиками и в роли надежного оплота католической веры сохраняют все предоставленные им церковью привилегии, ну а перед прусским королем, конечно, изображают из себя толерантных, готовых к межконцессиональному сотрудничеству пруссаков, таких же истовых, какими прежде были саксонцами, союзниками французов и кем угодно еще. Поэтому сюда вернулись некоторые эмигрировавшие лютеранские семьи, такие как семья профессора Миттера. До Венского конгресса невозможно было представить, что власти и газеты столь уважительно примут такого человека, как профессор, но нынче это политически выгодно. (Но я полагаю, сказал Ханс, что Саксония не собирается сидеть сложа руки.) До настоящего времени Саксония не предпринимала совершенно никаких действий, видимо решив, что установленные в Вене границы продержатся так же недолго, как границы Германии. И тогда, уверяю тебя, у местной власти снова не будет никаких проблем: она упадет в объятия очередного саксонского князя и поведает ему о бесчеловечных страданиях, причиненных ей прусскими врагами, закатит пир на весь мир и встретит его с истинно саксонской помпой. И так будет всегда, пока эта местность не исчезнет с лица земли или пока Германия не станет единой. Но на сегодняшний день обе перспективы выглядят весьма туманными. Надеюсь, я не утомил тебя своими разглагольствованиями? («разглагольствованиями»? где ты выкопал такое слово?[21]), ну, если мне следует выражаться проще, могу еще сказать «всей этой канителью» (а теперь ты похож на саксонскую бабулю), ладно, брось. Так что, как видишь, Вандернбург никогда не знает, где проходят его границы, сегодня они здесь, завтра – там (видимо, поэтому, пошутил Ханс, я постоянно в нем теряюсь?), Альваро вдруг стал серьезным: С тобой тоже это происходит? у тебя тоже иногда возникает это ощущение? (что ты имеешь в виду? что улицы, скажем так, перемещаются?), именно! Я никому не решался в этом признаться, мне было просто стыдно, но я уже взял себе в привычку выходить из дома намного загодя, на тот случай, если что-то опять окажется не на своем месте. Я думал, я один такой! Твое здоровье.
Алкоголь начал проделывать злые шутки с языком Ханса, он мазнул ладонью по плечу испанца. О, пр-рошу пр-рощения, я тебя толкнул? извини, да, слушай, с тех пор как мы р-разговорились, я все хочу спр-р-сить тебя одну вещь: ты… как ты научился так х-р-шо говорить по-немецки? Альваро вдруг погрустнел. Как раз об этом, ответил он, мне не хотелось бы говорить. Я был женат на немке. Много лет. Ее звали Ульрикой. Она родилась совсем недалеко от этих мест. В нескольких километрах. Ей очень нравился Вандернбург. Местный пейзаж. Обычаи. Не знаю. Воспоминания детства, так это называется. Поэтому мы поселились здесь. Ульрика. Тому уже много лет. Как же мне теперь уехать?
Ханс смотрел на остатки пены на краях кружки, на полое ухо ручки, на все, на что смотрят, когда все слова уже сказаны. Потом тихо спросил: Когда? Два года назад, сказал Альваро. От чахотки.
Они медленно допили пиво. Официанты убирали со столов с тем недовольным видом, с каким только они умеют прохаживаться перед закрытием заведения. Слушай, пробормотал, запинаясь, Ханс, не слишком ли много вдовцов в В-вандернбурге? отец Софи, гсс-жа Питцин, возможно, и п-пррофессор Миттер. Это не случайно, ответил Альваро, в приграничных городах всегда так бывает: в них становится ясно, что потусторонний мир находится где-то совсем рядом, не знаю, как это объяснить. Сюда приезжают путешественники, потерявшие себя, одинокие люди, которые ехали куда-то еще. И все они остаются, Ханс. Ты еще к этому привыкнешь. Оч-чень сомневаюсь, ответил Ханс, я тут пр-роездом. Привыкнешь, повторил Альваро, я тут проездом уже десять лет.
Сидя на сундуке, умывальник по одну руку, полотенце на спинке стула по другую, расставив ноги, чтобы не намочить босые ступни, Ханс косился в пристроенное на полу зеркальце и брился. Он привык бриться в такой позе, словно глядя в маленькое озерцо, так ему легче думалось, потому что после сна мозги требуют некоторой встряски, особенно мозги полуночника. Бывают дни, подумал Ханс, которых ни на что не хватает. Сегодня он проснулся полным сил и спешил реализовать все свои планы. За завтраком нужно было дочитать книгу, потом сходить к шарманщику и предложить ему вместе поужинать, выпить кофе с Альваро и немножко попреследовать Софи, если удастся, как уже не раз удавалось, встретить ее на прогулке с подругой, после визита в магазин с Эльзой или на полпути к кому-нибудь в гости. Сидя с бритвой в руке, весь в пене, не успев даже одеться, он был уверен, что все это можно успеть.
Из задумчивости его вывели крики на нижнем этаже. Отметив про себя, что день явно начался, Ханс вытер лицо, повесил акварель на место, загнал в пятку занозу, чертыхаясь, ее извлек, закончил одеваться и спустился вниз. Крики не утихали. Лиза пыталась пробиться к кухонной двери, но ее мать и свисавшие с потолка окорока преграждали ей путь. Можешь рассказывать что угодно, вопила госпожа Цайт, но меня не проведешь: здесь не хватает пятнадцати грошей, десяти по крайней мере! Но, матушка, защищалась Лиза, разве вы не видите, что я принесла на целый фунт больше и мяса, и помидоров? Конечно вижу, не унималась госпожа Цайт, и не пойму, кто тебе велел покупать столько помидоров, мясо еще ладно, оставшееся можно засолить, но эту корзину помидоров, кто, по-твоему, будет есть, ну, скажи! Кроме того, фунт мяса не может стоить так дорого, ты меня за дуру держишь? Матушка, возражала Лиза, я уже вам говорила, сегодня утром цены подскочили, из каждых семи ценников один поменялся. Это мы еще проверим! перебила ее мать, завтра я сама пойду на площадь и клянусь тебе, что. Да делайте что хотите, в свою очередь оборвала ее Лиза, и, если мне не верите, можете ходить туда и завтра, и послезавтра, хоть каждый день. Меня не интересуют ни мясники, ни помидоры, ни споры с вами. Но послушай, дочка, не унималась госпожа Цайт, хватая Лизу за запястья, даже если это правда, разве ты не знаешь, что почем? когда же ты образумишься? Если цены подскочили вдруг на ровном месте, нужно отбросить гордыню и торговаться, слышишь? торговаться! а не изображать из себя важную даму.
Лиза как раз собиралась ответить, когда боковым зрением увидела неподвижно стоявшего в коридоре Ханса. Она тут же сделала вид, что его не замечает. Любопытство перебороло воспитанность, и Ханс продолжал стоять на месте. Лиза отбивалась от сыпавшихся на нее упреков короткими высокомерными фразами. И было очевидно, что, несмотря на свой материнский авторитет, госпожа Цайт страдает от этого спора гораздо больше, чем ее дочь. Они постепенно переместились в другую часть кухни и теперь стояли почти напротив Ханса. В отблесках медной и оловянной посуды он видел морщины на лице госпожи Цайт, множившиеся при каждом новом крике. Видел шрамы, пятна и ссадины на жестикулирующих руках Лизы. И на какое-то мгновение разница между ними обеими, несходство их силуэтов, различия во внешности и поведении вдруг стерлись, и перед глазами Ханса промелькнула одна и та же женщина в двух разных моментах времени, одна и та же женщина двух разных возрастов. Ханс сразу же ушел.
Доброе утреннее расположение духа вернулось к нему только после того, как в гостиную стремительно ворвался Томас. Перед безоговорочным оптимизмом этого ребенка и его инстинктивным настроем на лучшее устоять было просто невозможно. Мальчик рассеянно поздоровался с Хансом, спросил, каково его отношение к лосям, спрятал его чашку с кофе за диван, брыкнул ногой и исчез в коридоре. Ханс поднялся из-за стола, и Томас, решив, что за ним собираются гнаться, сломя голову бросился вверх по лестнице. Чтобы не обманывать ожиданий ребенка, Ханс пошел за ним следом, изображая людоедский гнев и требуя чашку, которую уже нашел на полу. Добежав до конца коридора и уткнувшись в стену с окном, Томас обернулся к преследователю с таким перекошенным лицом и такой паникой в глазах, что от неожиданности Ханс едва не почувствовал себя настоящим людоедом. Как раз в ту секунду, когда он протянул руку, чтобы погладить беднягу по голове и развеять его страх, Томас громко захохотал, и Ханс понял, что мальчишка притворялся не хуже его самого. Он рассеянно посмотрел в окно и увидел, что идет дождь. Томас, дьяволенок! взревела снизу госпожа Цайт, удвоив свою ярость, как всякий родитель, только что потерпевший фиаско в ссоре с другим ребенком. Томас, тебе говорю, спускайся немедленно вниз и займись уроками! Господь милосердный! ты даже первое упражнение не доделал! Хорошо бы школа работала и по субботам! И, кстати! забудь, что собирался кататься на санках! Мальчик посмотрел на Ханса, привел себя в порядок и пожал плечами, как человек, осознающий, что игре пришел конец. Понурив голову, он поплелся к лестнице. Они спустились вместе в полном молчании. Разгневанный папаша выбрался из-за конторки, на ходу схватил Томаса за ухо и повел по коридору к хозяйской квартире. Вернувшись обратно и все еще пребывая на взводе, он сказал: Сами изволите видеть, все как у людей. Конечно, ответил Ханс, ничего страшного. Хозяин сунул руку в карман слегка сползших штанов и объявил: Кстати, учитывая ваше длительное пребывание и ваш, так сказать, ночной образ жизни, вот вам ключи! Пожалуйста, не потеряйте! И всегда носите их с собой, когда отправляетесь куда-то на ночь глядя.
Полдень постепенно тонул. На узком тротуаре пихали друг друга зонты. Сапоги Ханса хлюпали и смазывали собственные следы. Поднимая грязную волну, мимо неслись экипажи, напоминавшие чьи-то безнадежно упущенные возможности. На рыночной площади торговцы складывали лотки. Ханс заметил шарманщика, он стоял, склонившись над инструментом, на своем обычном углу, сосредоточенный на музыке, и вращал по кругу площадь. Из его капюшона высовывалась борода, с нее медленно падали капли. Увидев старика таким невозмутимым, Ханс смирился с ненастным днем: до тех пор, пока шарманщик стоит в центре Вандернбурга, город не пропадет. Франц, как обычно, первым почувствовал приближение Ханса: он навострил черные уши, поднял голову, встал на ноги и отряхнулся.
Как дела, шарманщик? поздоровался Ханс, сжимая морду крутившегося юлой Франца. Прекрасно, ответил старик, ты заметил, как переливается туман? Туман? нет, признался Ханс, не заметил. Он все утро менял цвет, объяснил шарманщик, тебе нравится туман? Мне? удивился Ханс, наверное, не очень. Нам с Францем он кажется забавным, сказал шарманщик, верно, животина? А что народ? спросил Ханс, в порыве прагматизма указывая на тарелку, чего немедленно устыдился, я хочу сказать, публика сегодня подавала? Совсем чуть-чуть, признался шарманщик, но на ужин хватит, ты ведь придешь? Ханс кивнул, сомневаясь, спросить ли насчет вина, поскольку старик всегда обижался, когда понимал, что все принесенное Хансом не проявление вежливости, а попытка снабдить его продуктами. Ламберг обещал забежать после ужина, добавил шарманщик. Я беспокоюсь за этого парня, на фабрике он вкалывает до потери сознания и очень редко смеется, а когда человек много пьет и мало смеется, дело плохо. Постараемся его вечером развлечь, ладно? ты расскажешь про свои путешествия, я сыграю что-нибудь радостное, а Рейхардт, думаю, позабавит нас своими скабрезными шутками. Ну а ты, разбойник, отрепетировал какой-нибудь новый лай?
На случай ухудшения погоды Ханс пошел условиться с возницей, чтобы тот ближе к ночи подбросил его до дороги, ведущей к мосту. Возница ответил, что все крытые коляски ангажированы на весь день, и он не уверен, что сможет предложить пассажиру крытый экипаж. Тогда Ханс попросил зарезервировать ему место в открытом тильбюри, обещав, что прихватит зонт. Возница откашлялся и ответил, что вряд ли сможет предложить пассажиру открытый тильбюри. Ханс пристально на него посмотрел и со вздохом достал пару монет. Возница тут же вспомнил, что в последней коляске, кажется, одно местечко оставалось.
Возвращаясь на постоялый двор, где он рассчитывал немного почитать, Ханс шел по широкому тротуару Королевской улицы, обрамленной с обеих сторон акациями и привыкшей к более чистым колесам, более крепким лошадям и к возницам, одетым в ливреи. Среди крытых колясок, сияющих ландо, грациозных кабриолетов внимание Ханса привлек один экипаж, передвигавшийся торжественным галопом и запряженный парой белых лошадей. Хансу не сразу удалось сфокусировать зрение на пассажирах кареты, а когда удалось, он, к своему изумлению, разглядел половину лица Софи, за каплями дождя показавшегося ему слишком миниатюрным, а рядом – силуэт мужской шляпы. Софи сразу же отпрянула от окна, и Ханс услышал, как чужой заботливый голос спрашивает, все ли с ним, Хансом, в порядке.
Экипаж свернул с Королевской улицы. С противоположного конца Крайней аллеи к Стрельчатой улице приближалась какая-то фигура. Когда экипаж с ней поравнялся, прохожий повернул голову: облаченный в капелло и мантию поверх сутаны, отец Пигхерцог опустил зонт и отвесил приветственный поклон. Внутри обитой бархатом кареты спутник Софи изо всех сил изогнулся, чтобы ответить на приветствие. Софи не шелохнулась. Добрый день, дорогой господин Вильдерхаус! проговорил отец Пигхерцог, все сильнее вытягивая шею по мере того, как экипаж удалялся. И добавил, возможно, слегка запоздало: Благослови вас Господь! Снова поднимая над головой зонт, отец Пигхерцог нечаянно сбил с себя шляпу, и она шлепнулась в грязь. В большой досаде он пошел по Стрельчатой улице дальше, держа шляпу двумя пальцами на отлете.
Ризничий надраивал церковные сосуды. Мир тебе, сын мой, сказал отец Пигхерцог, входя в ризницу. Ризничий помог ему снять мантию, оставил шляпу отмокать и закончил приводить в порядок реликвии. Как прошел сбор пожертвований, сын мой? спросил священник. Ризничий протянул настоятелю стальную шкатулку, именуемую хранилищем богоугодного волеизъявления. Ступай себе с миром, сказал отец Пигхерцог, ты свободен.
Оставшись один, отец Пигхерцог оглядел аккуратно прибранную ризницу и вздохнул. Затем сверился с настенными часами, сел под лампу и переложил стопку книг со стола себе на колени. Вернул обратно книгу церковных обрядов и «Римский миссал». Подержал секунду катехизис Пия V, что-то пометил на одной из страниц и тоже отправил на стол. На коленях у него остался только толстый фолиант под названием «Книга о состоянии душ», в который он делал записи о своих богоугодных трудах: о церковной службе, о выполнении прихожанами Пасхального обряда, каждым поименно, о подробностях жизни каждой семьи в приходе, о происшествиях во время литургий, о потребностях и ожидаемых нуждах, а также о достойных упоминания взносах и пожертвованиях; записи последнего раздела, самые спорадические, адресованные «Его Высокопреподобию» и посвященные «Квартальному балансу использования земель, сданных Святой Матерью Церковью в концессию», священник тщательно проверял, переписывал начисто и отправлял архиепископу почтой. Все записи отец Пигхерцог вносил изящнейшим почерком и каждую тему предварял заголовком.
Он раскрыл «Книгу о состоянии душ» на последней заполненной странице. Перечитал завершающие абзацы. Взял перо, торжественно обмакнул его в чернила, поставил на странице дату и приступил к делу.
…кто вызывает во мне беспокойство, так это фрау Г. Х. Питцин, чьи печали мы комментировали прежде. Немало терзаний омрачает ее совесть и смущает душу, и спасение ее в большой степени зависит от готовности ее к искуплению, к этой последней мере, вызывающей в ней гораздо меньше отклика, чем молитва. Не следовало бы женщине ее веры и семейных обстоятельств так усердствовать во всевозможных вольностях и мирских забавах. Принять во внимание указанные тенденции на ближайших исповедях.
…как следует из упомянутого эпизода, сиятельный господин Вильдерхаус-младший, чье благородство и щедрость к нашему скромному приходу мы уже с умилением отмечали, сделал понятный выбор, обратив внимание на достоинства барышни Готлиб, кои, однако, прискорбно затмеваются, как я позволю себе заметить,
хххххнекоторой строптивостью и легкомыслием, укоренившимися в ней в последние годы. Речь, однако, не идет ни о чем таком, чего бы праведная семейная жизнь, тишина домашнего очага и хлопоты материнства не могли бы исправить. Направить ризничего в поместье Вильдерхаусов с повторной письменной благодарностью за щедрое пожертвование, на бланке прихода. Просить у господина Готлиба разрешения на приватную беседу с его дочерью.…таким образом отказавшись он своего статуса вновь обращенной. И все же достойно похвал ее стремление отринуть прошлую ересь, но окончательно ли оно, мы увидим в дальнейшем. Гораздо более сложный случай видится нам в ее супруге, господине А. Н. Левине, который не только не отказывается от своих ххххх семитских заблуждений и арианских вывертов, но вносит сумятицу в душу своей супруги разного рода фальшивой теософией, начиная с адопционизма, посягающего на единосущность Отца и Сына, и заканчивая лживой мешаниной из приникейской христианологии, картезианской онтологии и брахманического пантеизма. Насколько я наслышан, именно пантеизм поверг в сомнения его супругу. Ей следовало бы объяснить мужу, что упомянутая система провоцирует духовное безразличие, поскольку если бы во всем сущем в равной мере присутствовал Бог, то уместно было бы печься о тучах и камнях в той же мере, в какой и о Святом Духе. Всё не есть Бог, но Бог есть всё – вот что она должна была ему напомнить. Еще раз предостеречь фрау Левин. Просить ее также получить консультацию супруга по поводу сделок, описанных на следующих страницах.
…с неслыханным бесстыдством. Произвести дознание в его группе по изучению катехизиса. Строго предупредить учителя.
…об этих обнадеживающих признаках. Посвятить общую воскресную молитву первостепенности самоотречения, на примере его задачи.
…но и о чревоугодии. Направить ему затем предупреждение, пригрозив запретом посещать столовую.
…нечистые помыслы с вызывающей тревогу частотой и ххххх недвусмысленные рисунки. Потребовать наказания. Поговорить с его наставниками.
…я вижу себя обязанным сообщить Вам, что новые поступления в наше хранилище богоугодного волеизъявления, столь благотворно повлиявшие на наш смиренный приход и на процесс отпущения грехов, за последний месяц уменьшились на семнадцать процентов, истаяв с прежнего полуталера на одного прихожанина до нынешних восьми грошей за каждую воскресную мессу, что равносильно оскудению наших ресурсов на пятнадцать луидоров или двадцать два дуката брутто – причина, по которой я настоятельно и смиренно прошу Ваше Высокопреподобие войти в наше положение и отыскать способ возместить указанную потерю, хотя бы частично. И наконец, сообщаю, что, учитывая незначительную текущую активность в сфере сельского хозяйства, размер податей сохранится на прежнем уровне до третьего квартала, то есть до того момента, пока не будет пересмотрен и не составит три с небольшим талера с каждого облагаемого крестьянина. Будучи покорнейшим слугой Вашего Высокопреподобия, ожидаю Вашего нового визита, чтобы облобызать Ваши руки в надежде, что Вы лично распорядитесь относительно упомянутых дел и отслужите Епископскую Торжественную мессу во всем ее величии и красоте.
Я рада, что вы упомянули Фихте, господин Ханс (сказала Софи, поглаживая ручку чашки по внутренней дуге, но не продевая в нее палец, а лишь слегка до нее дотрагиваясь, отчего наблюдавшему за этим движением Хансу становилось все тревожней на душе), ведь если мне не изменяет память, в прошлую пятницу никто из нас не вспомнил о нем во время дискуссии о нашей стране, но не кажется ли вам, дорогой профессор Миттер (сказала она другим тоном, в другую сторону, оставив в покое ручку чашки и ощупывая теперь подушечками пальцев рельеф фарфора на ее внешней стороне, как будто считывала шрифт Брайля), что надо было уделить ему внимание? Наш уважаемый молодой человек (обратился к Хансу профессор Миттер, который до этого момента доминировал в споре и ни на секунду не разжимал сплетенных в замок пальцев), я вижу, вы проявляете интерес к некоторым философам, а можно полюбопытствовать, какое вы получили образование? (Руки Софи отделились от чашки и на секунду замерли, оттопырившись, как уши). Я? философское (ответил Ханс, но не сразу, а после паузы, потерев ладони, и жест этот показался Софи смущенным). Ах, философское! (воскликнул профессор Миттер, на секунду разжав пальцы и выбросив их вверх), занятно, а где вы учились? В Йене (снова после некоторой паузы ответил Ханс, а затем решительно уперся ладонями в колени, как бы говоря: Продолжения не будет).
Из всех идей Фихте, которые мне знакомы (заметил господин Готлиб, не вынимая трубку изо рта), я более всего согласен с его рассуждениями о Германии, хотя, насколько понимаю, он чуть ли не атеист. Отец (воскликнула Софи, почти молитвенно сложив ладони), как интригующе звучит это ваше «чуть ли не»! Согласно Фихте, «Я» (вступил в разговор господин Левин, обычно сидевший неподвижно, почти оцепенело) – категория божественная. Мне кажется, что никакое «я» не может быть божественным (сказал Ханс, разглаживая ладонями брюки, возможно, чтобы этим жестом напускной застенчивости смягчить свой протест), если, конечно, в глубине души это «я» не отождествляет себя в какой-то мере с «Он». (Указательный палец Софи потянулся к внутреннему контуру чашки.) Да! и! (подхватил господин Левин, указывая на какую-то воображаемую точку на столе) более убедительным было бы «Мы», те, кто ходит под Ним. Дорогуша (встрепенулась госпожа Питцин, откладывая в сторону вышивание), не осталось ли еще бисквитов?
В начале вечера Софи объявила, что несколько минут назад получила записку от Руди Вильдерхауса, в которой тот просит гостей извинить его за отсутствие и обещает непременно быть в следующую пятницу. Ханс подумал, что в таком случае это его последний шанс произвести впечатление на Софи, прежде чем на сцене появится ее жених. И тут же ринулся в дискуссию о Фихте. Лично мне, сказал он, вполне симпатична теория Фихте об индивидууме, но ни в коей мере не его взгляды на Германию. Если каждый воплощает в себе свою отчизну, то население всей страны – это страна, состоящая из стран, не так ли? но тогда ни один индивидуум, каким бы достойным его ни считали, не может восприниматься как воплощение всей страны или как иллюстрация ее сущности (скажите, возразил господин Левин, но разве Бах, Бетховен не представляют нас самым достойнейшим образом? Ага! туше! воскликнул профессор Миттер, стараясь выглядеть веселым, но не умея скрыть своего раздражения. Впрочем, Ханс все равно говорил только для Софи), нет-нет, не в этом смысле. Если кому-то удалось выразить духовную восприимчивость своей страны, если музыкант или поэт сумел достичь такого высочайшего уровня отождествления, это всегда случайность, исторический феномен, а не умозрительная предопределенность. Неужели вы действительно верите, что Бах сочинял музыку, исходя из своей немецкости? Такие идеи заставляют меня с недоверием относиться к Фихте: как можно защищать категорическую субъективность и делать выводы о целой нации? Когда он говорит о немце как таковом, кого, черт возьми, он имеет в виду? кого примут за образец? кого отбракуют? В своих лекциях Фихте объясняет, как формировались особенности немецкого народа в эмиграции, пока остальные германские племена не покидали родных мест. И мне удивительно, что, говоря об этом, он берется утверждать, будто смена места жительства не имеет существенного значения, будто над местом доминируют этнические характеристики, и прочую ерундистику. Профессор, вы сами путешествовали и знаете (Ханс говорил, почти не переводя дыхания, и профессор, не находя промежутков в его стремительном монологе, отвел глаза и сделал вид, что ничего не слышит), это знает всякий, кто путешествовал: перемена мест действительно вызывает внутренние изменения. История демонстрирует, что народы изменчивы, как реки. А Фихте превращает их в мрамор, в некую глыбу, которая поддается обработке и перемещению, но уже изначально является тем, чем является. Он недооценивает смешение германской крови с народами-завоевателями и, мало того, намекает, будто наши пороки, наши застарелые пороки, имеют не немецкую, а заимствованную природу, какое бесстыдство! что он хочет этим сказать? от кого нам следует держаться подальше, чтобы не подхватить заразу? (Господин Левин пару раз не удержался от кашля.) Все, что я знаю, я выучил в путешествиях, то есть живя среди иностранцев. Хорошо, предположим, что Фихте наговорил все то, что наговорил, только ради поднятия духа народа после французской оккупации или после чего бы там ни было еще. Большое спасибо, господин Фихте, вы весьма удачно простимулировали наши сугубо немецкие железы, но теперь, когда мы пришли в себя, давайте займемся поиском общих принципов существования, а не следов германских племен. Ханс наконец умолк, остальные тоже молчали. Тишина длилась не более секунды. Софи с трудом скрывала воодушевление, которое вызвали в ней слова Ханса. Особенно трудно ей было определить, связано ли это воодушевление с философией или имеет другую, весьма далекую от Фихте природу. Но тут кто-то звякнул ложечкой о чашку, кто-то попросил передать сахар, кто-то встал и, извинившись, отправился в туалетную комнату, и снова ожили привычные звуки, голоса и жесты.
Потирая ладонью костяшки пальцев, Альваро заметил, что Германия – единственное место в Европе, где просвещение и феодализм всегда были одинаково сильны. И добавил (хотя профессор Миттер счел его идею чересчур республиканской), что, по его мнению, именно природа немецкого правления препятствовала развитию немецкой мысли. Этим противоречием объясняется, полагал Альваро, почему немцы так отважны в мысли и так покорны в иерархических связях. Профессор вновь обратился к Фихте, развивая мысль о том, что по этой самой причине, по причине феодальных корней Германии, единственный прогрессивный путь для нее – выбор стержня, объединяющего всю нацию, и что в настоящий момент таким стержнем может быть только Пруссия. Госпожа Питцин (ко всеобщему удивлению) оторвалась от вышивания и процитировала Фихте. Цитата была не философская, но из Фихте и касалась физического воспитания немецкой молодежи. О да! гимнастические упражнения! попытался сыронизировать Ханс, воистину великое проявление культуры! Профессор Миттер вступился за физическое обучение, назвав его отражением духовной собранности. Не надо далеко ходить (признался он с оттенком кокетства), я сам до сих пор делаю по утрам гимнастические упражнения. Дорогой профессор, воскликнула Софи, вы великолепно выглядите и не обращайте внимания на господина Ханса, поддерживая свое здоровье, вы поступаете очень мудро. Благодарю вас, милая барышня, ответил польщенный профессор Миттер, просто некоторые полагают, что молодость дарована им на века.
Темы мелькали, как карусель, одни – житейские, другие – глубокие. Но каждый раз, когда разговор возвращался к философии, в силу каких-то личных причин ни профессор Миттер, ни Ханс не желали уступать друг другу ни миллиметра. Профессор облокачивался о спинку кресла и закидывал ногу на ногу, словно давая понять, что опыт и спокойствие на его стороне, а нервозность и неуверенность на стороне Ханса. Ханс выпрямлял спину и поднимал подбородок, демонстрируя, что сила и убежденность на его стороне, а цинизм и усталость на стороне профессора Миттера. Во время их споров господин Готлиб прятал усы в табачный дым. Господин Левин принимал сторону то одного, то другого, в зависимости от темы, но после отрекался от своих слов. Госпожа Левин не произносила ни звука, хотя поглядывала на Ханса с определенной неприязнью. Альваро говорил редко и почти всегда поддерживал Ханса, иногда потому, что был с ним согласен, иногда потому, что ему претил апломб профессора Миттера. В какой-то момент Альваро с удивлением заметил, что Эльза, горничная, замедляет шаг и словно вслушивается в разговор. Софи цитировала авторов, названия, концепции и незаметно уходила в тень, стараясь не поддерживать ни одного из спорящих, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и мог раскованно отвечать оппоненту. Однако мнения в ней копились, и несколько раз она чуть было не вмешалась, желая возразить обоим. Бывают дни, думала Софи, разливая чай, когда совсем не хочется быть светской дамой.
Если уж выбирать национальный дискурс, говорил Ханс, я выбрал бы Гердера, без нашей истории мы как народ априори ничто, вам так не кажется? Любая страна должна спрашивать себя не что она из себя представляет, а в какие времена и почему. Профессор Миттер ответил ему сравнением концепций национальности Канта и Фихте, желая доказать, что второй не предал идеи первого, а лишь развил. На это Ханс ответил, что по сравнению с Фихте его отношение к Канту – прямо противоположное: одобряя его идеи о стране, он не одобряет его высказываний об индивидуумах. Каждому обществу, пояснил Ханс, требуется порядок, и Кант предлагает довольно мудрый вариант. Но гражданину необходим и беспорядок, а этого Кант не допускает. Для меня свободная нация – это некое единство достойного уважения беспорядка с порядком, который этот беспорядок в себя вмещает. А мне особенно дороги националистические устремления Фихте, настаивал профессор Миттер, с учетом ситуации, в которой мы живем (а в какой ситуации мы живем? поинтересовался Ханс), вы знаете не хуже меня! Германия не может бесконечно выбирать между иностранной оккупацией и раздробленностью, пора сделать шаг вперед и решить нашу судьбу (но наша судьба зависит и от судеб других стран Европы, невозможно заложить основы нации, не перезаложив основ всего континента), вы имеете в виду своего Наполеона, gnädiger[22] Ханс? (нет, осадил его Ханс, я имею в виду ваш Священный союз!).
Софи испытывала и воодушевление, и беспокойство: она впервые видела, что профессору серьезно возражают, но не решалась корректировать ситуацию, поскольку знала, что некоторые высказывания Ханса она сама не смогла бы себе позволить, отчасти из-за присутствия отца, отчасти из-за нейтралитета, вменяемого ей как хозяйке Салона. Второй аргумент ее не убедил, и чем больше она сомневалась, тем быстрее порхали ее длинные пальцы, тем чаще она предлагала гостям канапе, желе, пирожные, горячий шоколад. Профессор Миттер удивлялся, почему Софи не пресекает дерзостей Ханса, но одновременно сам этого не желал, чтобы не упустить шанс достойно их оспорить, поэтому отвечал спокойно, не раздражаясь.
Дорогой друг, сказал профессор, хочу вам напомнить, что без сильных наций любому международному праву грош цена. А я, уважаемый профессор, возразил Ханс, все равно чувствую себя гораздо больше гражданином Европы Канта, чем гражданином Германии Фихте, уж ничего тут не поделаешь! Чувствуйте себя кем угодно, ответил профессор, но факт остается фактом: федеративное республиканство принесло Европе не мир, а войну за господство. Как раз наоборот, возразил Ханс, мы нажили войну из-за федеративных неудач. Кант предлагал объединение, созданное свободными государствами, но оно несовместимо с империализмом. Проблема в том, что в Европе каждый мирный договор подписывает следующую войну. Европа, юноша, увещевал его профессор Миттер, имеет общую религиозную базу, и это единственная основа для длительного объединения, разве вы не понимаете, что отрицать это контрпродуктивно? Меня удивляет (вмешался Альваро, стараясь отвести взгляд от Эльзиной лодыжки), что эти слова произносит лютеранин. Я лютеранин, но в первую очередь христианин, обиделся профессор Миттер, христианин и немец. Господа, кхм, решился высказаться господин Левин, э-э, с вашего позволения, единственным надежным связующим звеном является не мораль, а коммерция, то есть я хочу сказать, что, если Европа обретет тесные коммерческие связи, она не позволит себе воевать, нет-нет! слишком много бисквита, достаточно, спасибо. Согласен, сказал Ханс, но эти коммерческие связи не могут сформироваться вне общей политической структуры, потому что, если мы будем преувеличивать идентичность каждой нации, последуют войны за контроль над рынками, экономике ведь тоже учатся, не так ли? Да, ответил господин Левин, но не будем забывать, что обучение зависит от экономики. Экономическое обучение, подчеркнул профессор Миттер, является частью национального строительства, здесь Фихте бьет в самую цель. В цель бьет Кант, не уступал Ханс, написав свой «Вечный мир». А вот это действительно хорошо! (воскликнул профессор, заглатывая канапе и не уточняя, касается ли это канапе или Канта), знайте, юноша, что утопию мира сочинил некий Данте более пятисот лет назад. Но Данте, возразил Ханс, верил, что сохранение мира зависит от политической элиты, а это примерно то же, что мы имеем сейчас! Кант предлагал превратить гарантии мира в закон, закон, подписанный равноправными государствами. Доверить сохранение мира горстке лидеров означает легитимировать произвол. Кхм, а я думаю (заметил господин Левин, уклоняясь от ласковых прикосновений, которыми пыталась предостеречь его супруга), что иногда мы поддаемся абстракциям, то есть, при всем моем уважении, не кажется ли вам, что сохранение мира напрямую связано с богатством? Да, но здесь вопрос переходит и в область морали, кивнул Ханс, без раздела богатства никогда не будет мира, бедность потенциально воинственна. Совершенно верно! воскликнул Альваро. Господа, прошу вас, вздохнул профессор Миттер, не будем наивны! Мир стремится к той же цели, что и война, но иными средствами, которые нам нравится называть мирными, а именно стремится установить, кто главный, и точка. Кхм, возможно и так, хотя есть и другой аспект, продолжил свою мысль господин Левин, очень часто война заканчивается не выгодой, а убытками, даже для победителя, так что объективной оценки затрат на войну могло бы хватить для предотвращения самой войны.
Господа, сказал господин Готлиб, поднимаясь с кресла, прошу вас чувствовать себя как дома. Я вынужден вернуться в кабинет, чтобы доделать кое-какие дела. Сегодняшний диспут был, как обычно, чрезвычайно бодрящим.
Хансу показалось, что, произнося слово «бодрящим», господин Готлиб посмотрел на него. Хозяин дома завел настенные часы, на которых было ровно десять. Затем подал знак Бертольду, чтобы тот зажег еще свечей, поцеловал дочь в лоб, свесил в поклоне усы и исчез в коридоре. Оставшись наедине с гостями, Софи вздохнула с облегчением: теперь можно было высказываться с меньшей опаской. Едва она собралась вступить в разговор, как ее отвлекла госпожа Питцин, решившая уйти: она взяла Софи за обе руки и держала, произнося какие-то слова, которых никто больше разобрать не мог. Софи кивала, искоса поглядывая на гостей, состоявших теперь из профессора Миттера, Ханса, Альваро и супругов Левин. Как только Эльза принесла госпоже Питцин ее шерстяную шаль и шляпу с лентами, Софи поспешила занять свое место. К ее разочарованию, говорили уже не о политике, а о Шопенгауэре.
Нет, книга не имела большого успеха, говорил господин Левин, хотя мне она показалась, кхм, занятной, по крайней мере необычной. Что-то хорошее должно же быть в этом Шопенгауэре, пошутил Альваро, раз он перевел Грасиана и говорит по-испански, весьма нешуточное достижение для немца. Ах, оставьте! отрезал профессор Миттер, индуистский плагиат, не знают, чем подменить Бога и копаются в буддизме! А мне Шопенгауэр симпатичен тем, сказал Ханс, что презирает Гегеля. Но сколько в нем пессимизма! возразил господин Левин, вы не находите его слишком надрывным? Возможно, ответил Ханс, но можно читать его и с оптимизмом. Можно принять его принцип воли и не согласиться с тем, что она обречена вести нас к страданию. Таким образом, мы принудительно будем стремиться к счастью, не так ли? Полноте, господа! вернул их к спору профессор.
И дальше, в том же духе, смазанными, словно распаленными в колеблющемся свете канделябров губами участники Салона продолжали свою полемику. Софи слушала их одновременно с интересом и досадой, радуясь, когда они высказывались, и досадуя, когда о чем-то умалчивали. Ее внимание привлекла госпожа Левин, неподвижная, нахохлившаяся, прильнувшая к плечу мужа, счастливого оттого, что она так внимательно его слушает. Софи представила себе, как они возвращаются домой, идут по улице, высматривая свободный экипаж, она держит его под руку, он слегка наклоняется к ней и спрашивает: Ты в порядке, дорогая? тебе не холодно? или замечает: Кхм, интересная была дискуссия, та, что о Шопенгауэре! ожидая услышать в ответ, что да, интереснейшая, и удачнее всех высказался именно он, хотя самой-то ей в этом не разобраться, тогда господин Левин выпрямляет спину, крепче прижимает к себе ее руку и начинает объяснять, кто такой Шопенгауэр, где теперь читает свой курс, какие работы опубликовал, знаешь, дорогая, это не так уж сложно! и не спеша рассказывает ей все, чего не смог высказать в Салоне, снова обретая слушателя, снова слушая себя самого.
Софи сжала пальцы так, словно скомкала бумажку.
А вы, дорогая? спросила она госпожу Левин, ничего нам не скажете? Гостья растерянно улыбнулась. Моя жена, опередил ее супруг, со мной согласна. Какое счастливое совпадение! воскликнула Софи. Это правда, пролепетала госпожа Левин тонким, как нитка, голоском, я действительно согласна. Софи прикусила губу.
А вы, сударыня, что же вы сами? попробовал спровоцировать Софи Ханс, не спуская глаз с этой ее губы.
Я? Софи поднесла согнутую в запястье руку к груди, я, мудрейшие господа, горжусь тем, что имею возможность вас слушать, поскольку ничто не окрыляет нас, женщин, так, верно ведь, дорогая? как возможность присутствовать на подобном пиршестве знаний. Я уверена, любая из нас готова дни напролет восхищаться этой истинно мужской дискуссией. И вдруг вы застаете меня врасплох, в таком восторженном расположении духа, и спрашиваете о Шопенгауэре, меня, еще такую несмышленую! признаться, я краснею, поскольку недостойна даже самого вопроса. Поэтому, уважаемые господа, прошу вас проявить снисхождение и простить мне скудость моих познаний, вы ведь знаете, как поверхностно мы, девушки, пролистываем труды великих мыслителей. А теперь позволю себе наконец углубиться в высокие материи и скажу, что, насколько мне удалось понять, а поняла я, бесспорно, мало, господин Шопенгауэр – один из самых презренных авторов, чьи воззрения мне приходилось искажать своей неумелой интерпретацией. Недавно я решилась прочесть его книгу, в которой он выглядит весьма неубедительным в своем отношении к женщинам и настаивает на том, что женщинам надлежит заниматься исключительно домашними делами и огородом, но ни в коем случае не лезть в литературу, и уж тем более в политику. Однако это, господа, парадоксально, потому что для успешной реализации его замысла, то есть для того, чтобы идеи господина Шопенгауэра не пропали зря, гораздо практичнее было бы рекомендовать всем дамам внимательно изучать философские труды, и его труды в особенности. Из-за слабой теоретической подготовки меня преследует ощущение, что все самые крупные философы нашего времени грешат одной противоречивой особенностью: страстно желая сказать нечто новое в области философской мысли о нас, женщинах, они тем не менее думают все одинаково. Не правда ли, забавно, господа? Я уверена, что у нас еще остались канапе с пальмовым кремом.
Они договорились встретиться в таверне «Центральная». Альваро ждал, локти на барной стойке, нога на выступе стены, поза опытного наездника. Через полчаса в таверну вошел, слегка пошатываясь, Ханс. Мое почтение и добро пожаловать на этот свет, скорее насмешливо, чем сердито, приветствовал его Альваро, заметив темные круги под глазами приятеля. Извини, объяснил Ханс, вечером я был в пещере, а когда вернулся, засел за чтение, который час? Разве ты не носишь часов? удивился Альваро. Сказать по правде, не вижу в них пользы, пожал плечами Ханс, все равно они никогда не показывают нужное мне время. Ну что ж, улыбнулся Альваро, это называется «скрещение культур»: я в этом похож на немца, а ты на испанца.
Мои предки, рассказывал, жевал и рассказывал Альваро, родом из Бискайи[23]. Я родился в Гипускоа, но стал приемным сыном Андалусии и вырос в Гранаде, знаешь этот город? да, он чудесный, в нем я провел все детство, мой отец получил работу в Королевской больнице, там мы и остались. Мне кажется, человек должен хоть однажды увидеть две вещи: весну в Хенералифе[24] и утро на площади Биб-Рамбла[25]. Ах, если бы ты поглядел на этих гранадских сеньор, разряженных в пух и прах для похода в рыбную лавку, и на их мужей, фланирующих с неизменно кислым видом, но симпатяг в душе. Иногда я открываю глаза, и мне кажется, что я проснулся в Гранаде. Ты-то небось даже не знаешь, где ты нынче пробудился, верно? могу себе представить, ну что ж, дай Бог тебе терпения. Никогда в жизни у меня не было таких друзей, как в Гранаде. В то же время Гранада город немного меланхоличный, этим она напоминает Вандернбург, но жители гордятся ее меланхолией. Если не считать первых лет, прожитых здесь с Ульрикой, я никогда, наверно, не был так счастлив, как в те времена. Возможно, все дело в возрасте, но тогда казалось, что самое важное в жизни ждет тебя буквально за порогом. Судьба Испании и впрямь достойна летописца: то нас оккупировали иностранные войска, то к нам вернулся король-предатель, то мы затеяли республику. Кадисские кортесы, это было так впечатляюще, ты знаешь, что такое Кадисские ко…? извини, я забыл, что немцам испанская политика до…, и что ж? ничтожной малости хватило, чтобы страна стала другой! Одним словом, когда король Фердинанд вернулся, чтобы ликвидировать нашу конституцию, восстановить инквизицию и перестрелять уйму народу, я решил уехать. Ты спрашиваешь, вынужденно ли? И да и нет. Конечно, любой человек мог впасть в немилость, потерять работу, угодить в тюрьму, все это происходило каждый день. Но основной причиной было разочарование, понимаешь? у нас отняли страну, которую мы защищали, мы победили для того, чтобы проиграть. Поэтому еще до отъезда у многих из нас возникло ощущение, что мы живем не в своей стране.
Да, спасибо, еще две, твое здоровье! Когда пришли люди Наполеона, я, признаться, почувствовал себя странно. Они нас захватили, да, но они принесли с собой культуру, которой мы восхищались, и законы, о которых мы мечтали. Зачем же было в них стрелять, защищая гнилое, средневековое государство? Разве не всю свою жизнь мы прожили при независимости, но без свободы? В конце концов я все же записался в ополчение и участвовал в боях в Андалусии и Эстремадуре. Потом меня перевели в гарнизоны Мадрида и Гвадалахары вместе с ополченцами со всей страны. И там, клянусь тебе, Ханс, слушая все эти споры и доводы соотечественников, я не раз подумывал о дезертирстве. Но, coño! это ведь была моя страна! Я разработал для себя такой план: принять врага, научиться у него всему, что можно, изгнать его и самим, своими силами совершить революцию. Я был в партизанских отрядах и внимательно присматривался к хунтам[26] и конституционным судам – они особенно меня интересовали. И не мог не спрашивать себя: где же, черт возьми, эта самая родина, что именно мы защищаем? Удалось ли мне это понять? а! в этом-то вся и штука. Ты удивишься, но, разговаривая с другими ополченцами, я понял, что защищаем мы свои воспоминания детства.
Во время оккупации, что меня больше всего…, хочешь еще по одной? это уж перебор! но, если ты платишь, шучу, больше всего меня бесило, как рьяно нас поддержала церковная братия, все эти мерзавцы, дрожавшие от страха, что дело закончится для них тем же, чем во Франции! До сих пор помню их тошнотворный катехизис, который они распространяли по приходам. «Кто ты, дитя? Испанец, благодаренье Богу. Кто такие французы? В прошлом христиане, ныне превратившиеся в еретиков. Откуда возник Наполеон? Из греха. Грешно ли убить француза? Нет, отец мой, убив презренного еретика, ты делаешь доброе дело». В них взыграл не патриотизм, а инстинкт самосохранения (это и есть патриотизм, заметил Ханс), не будь циничным. По ночам я не мог спать, меня снова мучили сомнения: а что, если мы перепутали врага? и сражаться за Испанию означает что-то совсем другое: то, что делают франкоманы, которых мы так ненавидим? какое предательство хуже? Короче, не буду тебя утомлять. Суть в том, что сразу после реставрации я покинул страну. Объездил пол-Европы, оказался в Сомерс-Тауне. В первый же день в Лондоне я обшарил свои карманы и нашел там суммарно один ёиго[27], знаешь, сколько это? один-единственный дуро для обмена на фунты, точнее, на шиллинги. Тогда я пошел к Темзе, полюбовался ею немного и выбросил монеты в воду (выбросил? удивился Ханс, но почему?), друг мой, такой кабальеро, как я, не может приехать в великую столицу с такими жалкими деньгами! Я предпочел начать с нуля, но не крохоборствовать. Я наладил контакты с испанской общиной, пожил некоторое время в долг, брался за любую работу из тех, которые грустно выполнять, но интересно описывать. Был ночным сторожем, официантом, чистильщиком рыбы, конюхом при скаковых лошадях, помощником переплетчика, подменным учителем фехтования (ты такой виртуозный фехтовальщик?), нет, поэтому был подменным! В конце концов, отчасти волею случая, я занялся текстильной промышленностью. Мне повезло: вложенные мной сбережения удвоились. Я снова их инвестировал, уже вместе с приятелем, дело пошло, и тогда я решил рискнуть и заняться только этим. И посмотри, куда меня привел удачный шаг! Кое-кто из моих родственников вошел со мной в долю, и несколько лет назад мы учредили компанию, наладившую торговлю между Англией и Германией. Мы обосновались в Лондоне, Ливерпуле, Бремене, Гамбурге, в Саксонии и ее приграничных областях – за этот регион как раз отвечаю я. Нельзя сказать, что работа меня сильно увлекает, но она приносит неплохие барыши, к тому же, как ты знаешь, в определенном возрасте, назовем его печальным, барыши прельщают больше, чем увлечения. И конечно, еще была Ульрика.
(Передашь мне фрикадельки? попросил Ханс, и ты больше не возвращался в Испанию?) Нет, то есть да, один раз съездил после амнистии восемнадцатого года. Хотел посмотреть, что там творится, сам не знаю зачем. Но обстановка показалась мне тревожной, и я сразу вернулся в Лондон. Приехав в Германию по делам, я познакомился с Ульрикой. Она была такая, такая! В ней было что-то, в ней было все. История очень… уникальная история. (На, выпей.) Она была здешняя и мечтала сюда вернуться, поэтому мы переехали в Вандернбург. Особенно мне больно, что она так и не смогла увидеть Испанию, понимаешь, я так и не показал ей родные места. Мы думали об этом, много раз обсуждали и всегда откладывали: «как-нибудь», «в это лето не получится» и так без конца. А потом заварилась эта мерзость с сыновьями Людовика Святого[28] и их Священным союзом, вогнавшим в краску самого дьявола, и ехать стало нельзя, какая тут, к черту, политика, какая конституция, какая родня. Тогда оставшаяся часть моей семьи переехала в Англию. Знаешь, Ханс, мы оба, ты и я, из стран с трагической судьбой. Обе были покорены Наполеоном, в обеих правили его братья, обе сражались за независимость, и обе, ее обретя, скатились в прошлое. Моя родина – Испания, однако не та, что есть, а та, о которой я мечтаю. Республиканская, космополитичная. Чем больше Испания старается быть испанской, тем хуже ей это удается. Да что говорить, такова родина, верно? что-то неопределимое, что определяет наш путь (не знаю, ответил Ханс, не думаю, что родина определяет наш путь, на действия нас подвигают любимые люди, а они могут быть откуда угодно), да, но многих любимых мы находим в своей стране, а не в чужой (не забывай еще про иностранные языки, которые можно выучить, продолжал Ханс, и упомянутые тобой воспоминания. А вот как быть, когда сами воспоминания подвижны? когда они меняют время и место? какие из них тогда в большей мере принадлежат тебе? именно так со мной и происходит, именно так), эй, послушай, ты в порядке?
Постепенно их плечи никли, как сложенные зонты. Таверну «Центральная» мало-помалу заполняла публика, компании собирались по углам, пар и запахи жаркого плыли к потолку, чужие рты жевали, смеялись, поглощали пищу. Лишившись даже условного уединения у барной стойки, Альваро и Ханс почувствовали себя немного странно: чужой смех отражался в их печальных душах, как в кривом зеркале. Что их так веселит? изумился Альваро. Ничего особенного, ответил Ханс, народ везде одинаков: смеется, потому что ест. Но ведь нам с тобой грустно? возразил Альваро. Возможно, это просто другой способ выразить то же самое, предположил Ханс. Оба рассмеялись, и к ним вернулась их разговорчивость. Приятели обсудили странные манеры вандернбуржцев, их неприветливое поведение в сочетании с фанатичной приверженностью нормам городской жизни. Попав в Вандернбург, рассказывал Ханс, я сначала не знал, как себя вести. Никто тебе не улыбнется, не поможет, но у всех наготове полдюжины вариантов поклонов и бесконечный репертуар приветствий. Конечно, при условии, что тебя разглядят в этом проклятом тумане. Интересно, как им удается заводить интрижки, если они даже не видят друг друга? как они размножаются? Наверно, подыскивают пару только летом, предположил Альваро. Здесь мужчины часами сидят, продолжал Ханс, не снимая шляпы, если хозяин дома не предложит им ее снять. А дамы ни за что не расстанутся с головным убором, поскольку не могут попросить разрешения пойти в туалетную комнату, чтобы поправить прическу. Здесь никогда не знаешь, нужно ли вести разговор сидя или лучше встать, потупить взор, ссутулить спину и поджать под себя зад. Одним словом, заключил Альваро, из-за нехватки воспитания им приходится строго соблюдать этикет.
Ханс заметил, что в зал вошли пятеро господ, чрезмерно нарядных, или чрезмерно расфуфыренных. К его удивлению, хотя в таверне негде было яблоку упасть, официант, работая локтями, пробрался через весь зал и согнал с места двоих молодых людей. Как только стол освободился и был тщательно протерт тряпкой, пятеро господ сели за него с таким царственным видом, словно дело происходило не в пропахшей колбасой таверне, а в зале парламентских заседаний. Трое из них раскурили огромные сигары, картинно зажав их в зубах. Официант принес им пять кружек черного пива и блюдо с клубникой. Альваро объяснил Хансу, что это господин Гелдинг и его компаньоны, хозяева текстильной фабрики Вандернбурга. На этой фабрике работает Ламберг, сказал Ханс. Кто? переспросил Альваро, а! тот парень, с которым меня познакомил на днях твой шарманщик? не позавидуешь ему с начальством. Но избавиться от них невозможно: в этом городе все дельцы, промышленники, подрядчики, акционеры и банкиры друг другу родня. Нюхом чуют друг друга. Женятся только на своих. Живут по соседству. Дружно плодятся. Держат круговую оборону. И ни на минуту не прекращают пить пиво. Все это великое семейство пользуется услугами других знатных семейств: семейств адвокатов, врачей, нотариусов, архитекторов и муниципальных советников. Если ты сложишь их вместе, то в сумме получишь все деньги местной буржуазии за исключением кое-какой мелочи. Возможно, часть этой мелочи принадлежит господину Готлибу. Другая кому-то еще. Словом, можно смело утверждать, что город держится на экономике организованного инцеста. Я вижу, рассмеялся Ханс, ты хорошо их знаешь. Я их очень хорошо знаю, кивнул Альваро, но это не самое худшее. А хуже всего то, что, когда они меня заметят, нам придется их поприветствовать. Поскольку среди прочего я существую за счет продажи их продукции.
Через пять минут Альваро и Ханс уже сидели за столом господина Гелдинга и его компаньонов. Ханса изумила деловитая сухость, которую сразу напустил на себя Альваро: придав властности своим интонациям, он гонял желваки по скулам и подпускал в свою речь воинственные нотки, столь непохожие на напевную испанскую просодию их приятельских бесед. Господин Гелдинг почти сразу заговорил о сроках взаиморасчетов, и Альваро, защищая свои интересы, сыпал на память цифрами, экономическими показателями и датами.
Что меня удручает, сетовал господин Гелдинг, посасывая сигару перепачканными клубникой губами, так это их привычка вечно ныть, ныть, несмотря на то что условия для тех, кто столько ноет, постоянно улучшаются. Хотя, конечно, улучшаются они лишь потому, что эти прохвосты ноют! Одним словом, я ведь не говорю, не утверждаю, что не существует тем для обсуждения, и даже могу понять, когда поденщики хотят получить, скажем, среднесрочный контракт. Я только хотел бы обратить ваше внимание, господа, что здесь, где вы меня сейчас видите, я работаю ежедневно гораздо больше часов, чем они на производстве. И, естественно, требую такой же отдачи от них. Они жалуются на контракты с изменяющимися условиями, те самые контракты, которые позволили населению этого чертова города ежегодно расти на семь процентов в течение двадцати последних лет, прекрасно, браво, господа, но только знаете ли вы, что происходит потом? вы даже не догадываетесь, что происходит, когда им уступаешь и переводишь их на постоянный контракт! вообразите, какая случайность! они начинают приносить меньше дохода! Но ведь работа требует отдачи! Чего им еще не хватает? остановить станки, чтобы маленько вздремнуть? Клянусь, господа, я не знаю, что делать, не знаю, просто не знаю. Посмотрите, к примеру, на ткачей. Ткачи приходят на фабрику на полчаса позже остальных, потому что должны разогреться котлы. Отлично, я молчу, котлы так котлы, пусть тогда кто-то придет раньше, чтобы их разогреть, тогда и ткачи придут раньше. Так ведь нет же! они тоже, тоже ноют! Неужели им и этого мало? Эти чертовы ткачи встают на полчаса позже меня и отрабатывают всего-то двенадцатичасовой рабочий день, а что это значит? это значит, господа, если я не забыл арифметику, что они работают только половину суток, половину! а вторую отдыхают. Разве это так уж изнурительно? Разве это причина для того, чтобы болтать бог весть что и болтать беспрерывно? или они желают бездельничать дольше, чем работать? В мои времена, господа, в мои времена! Поглядели бы эти ткачи на моего благочестивого батюшку, царство ему небесное, который отроду не жаловался на жизнь и один-одинешенек поставил на ноги всю эту фабрику! Ну вот! клубники больше не осталось, какая жалость. Мой отец действительно… да о чем тут говорить? Так мы не восстановим страну, так мы вообще ничего не восстановим!
Подстрекаемый гримасами Ханса, Альваро откашлялся и сказал: Дорогой господин Гелдинг, а не случалось ли вам обращать внимание на тот факт, что ваши рабочие основную часть свободного времени тратят на сон? Господин Гелдинг уставился на него, скривив губы с отвисшей вниз сигарой. Он казался не обиженным, а растерянным, словно Альваро неправильно понял его слова. А! но ведь мы, господин Уркио, не можем выполнять роль инспекторов, воскликнул господин Гелдинг, нет уж, увольте, в это я не лезу, каждый рабочий делает со своим свободным временем все, что ему заблагорассудится, этого еще не хватало! Не знаю, как такие дела решаются в вашей стране, но, да будет вам известно, одно из правил моего предприятия – полная свобода работника вне его рабочей смены. Надеюсь, что уж с этим точно никто не станет спорить!
Стук в дверь разбудил его и наконец выгнал из постели. Нити света пробивались сквозь закрытые ставни и ползли к замерзшим ступням Ханса. Он быстро нацепил на себя то, что нащупал на стуле, и открыл дверь, силясь разлепить веки: улыбающаяся Лиза протянула ему лиловую записку. Ханс хотел сказать спасибо, но в зевке промямлил нечто вроде «спасява!». Затем забрал из ободранных пальцев Лизы лиловую бумажку и снова закрыл дверь.
При том убогом освещении, которое пробивалось сквозь ставни, Ханс разглядел приложенную к письму визитную карточку и на ней имя: Софи Готлиб.
Подскочив на месте, он бросился умываться, распахнул ставни и сел у окна. Карточка была изготовлена на качественной, мелованной бумаге с тонким, похожим на рамку ободком. Цвет шрифта был необычный: серый с оранжеватым отливом, словно строгость сочеталась в нем с легким кокетством. Несмотря на снедавшее его нетерпение, Ханс не спешил разворачивать записку, наслаждаясь неизвестностью и смакуя мгновения надежды – на тот случай, если впереди ждало разочарование. Он заметил почерк Софи, торопливый, решительный, слишком размашистый, больше подходящий человеку с умом расчетливым, как у кошки, чем благовоспитанной юной барышне. В записке не было ни обращения, ни приветствия.
Отчасти случайно так вышло, что мне пришлось обдумать аргументы, высказанные Вами на нашей последней пятничной встрече. Не скрою, хотя некоторые из них мне не совсем понравились, когда Вы их произнесли, или, возможно, не понравился тот тон, которым Вы их произнесли (откуда в Вас эта привычка все здравое превращать в вызывающее, а все обоснованное – в надменное?), я все же обязана признаться, что в целом они показались мне интересными и даже до некоторой степени оригинальными.
Интересными! До некоторой степени! Ханс секунду смотрел в окно на солнце, восторженно упиваясь гордыней Софи. Независимо от того, что последует дальше, он уже знал: письмо ему нравится.
По этой причине, дорогой господин Ханс, и, конечно, при условии, что Вам это удобно и у Вас нет других, более достойных планов, я была бы чрезвычайно рада поговорить с Вами не в часы Салона, требующие от меня разнонаправленного внимания, даже некоторой изворотливости, необходимой хозяйке дома и, безусловно, замеченной Вами.
От заговорщического тона этой вскользь брошенной фразы, «и, безусловно, замеченной вами», у него перехватило дыхание. Стало быть, она признает, что заметила, что он заметил! Кто и что именно заметил, станет ясно потом. Но если Софи рассчитывала, что этот небольшой промах сойдет ей с рук, она ошибалась: Ханс собирался уцепиться за ее слова, как падающий с откоса цепляется за тонкую ветку.
Если у Вас найдется время, мой отец и я будем рады видеть Вас в нашем доме завтра, в половине пятого. Надеюсь, что это новое приглашение Вас не обременит, поскольку Вы, похоже, одержимы чтением, а никто из тех, кто любит читать взапой, не стремится к встречам и общению. Прошу Вас ответить мне в любое удобное для Вас время в течение сегодняшнего дня. С искреннейшей преданностью,
Софи Г.
Ханс почувствовал, что в этом отстраненном и несколько поспешном прощании чего-то не хватает, едва заметного слова, в обычном обиходе привычного, но в данном случае, подумал он, чрезвычайно значимого: слова «ваша». Если Софи не простилась строгой формулировкой «искренне ваша», то в этом смущенном пренебрежении притяжательным местоимением чувствовался подсознательный страх, что оно не будет выглядеть невинным. Или нет? Или да? Или он бредит? Предает излишнее значение ее словам? Ведет себя смешно, опираясь на догадки? Строит из себя умника? Или, сам того не желая, в который раз путает разумный подход с домыслами гордыни?
От этих тревожных мыслей его отвлекла приписка, сделанная явно позже, другими чернилами и отражавшая мучительные колебания автора:
Р. S. Я также беру на себя смелость настоятельно просить Вас, чтобы Вы не появлялись перед моим отцом в берете и в рубашке с широким воротником, то есть в том наряде, в котором я иногда вижу Вас в городе. Не отрицаю своей симпатии к политическим коннотациям этого костюма, но прошу Вас осознать его неуместность в таком преданном традициям доме, как мой. Полное соблюдение всех формальностей было бы предпочтительно. Благодарю Вас за понимание в вопросах досадно нелепого протокола. Я же, со своей стороны, постараюсь компенсировать Вашу снисходительность всевозможными закусками и сладостями. С. Г.
Слово «сладостями» было последним, самым последним словом Софи.
Ханс не находил себе места от восторга и нервного возбуждения. Что ему ответить? Сколько помедлить с ответом? Какой выбрать костюм? Он встал, снова сел, снова встал. Его захлестнула волна радости, сексуального возбуждения, а затем ужасающей нервозности. Он понимал: прежде всего нужно спокойно перечитать письмо Софи. Для этого ему пришлось заставить себя подождать несколько минут, выглянуть в окно и некоторое время разглядывать головы, шляпы и башмаки прохожих на улице Старого Котелка, оставив письмо Софи остывать. Затем он несколько раз перечитал упреки первых строк. Улыбнулся мягкой критике, которая в той же мере относилась к нему, в какой характеризовала саму авторшу. Он еще раз обратил внимание на осторожную недосказанность приглашения, на его правдоподобную небрежность, на соблазнительную приправу заговорщических интонаций. Задержался на последних словах, стараясь оценить, какую долю в них составляет холодность, а какую – благоразумие. И под конец насладился замечательным пассажем в приписке, фактически признающим, что на улице она его тоже замечает. Ханс взял перо и обмакнул его в чернила.
Закончив писать ответ, он не стал его перечитывать, чтобы не пожалеть о нескольких вольностях, которые позволил себе под действием эйфории. Глубоко вздохнув, он подписал письмо и сложил его для отправки. Затем закончил одеваться. Спустился вниз, чтобы отдать послание Лизе, а заодно спросить, кто принес записку и что при этом сказал. По описаниям Лизы он понял, что посыльным была Эльза. Ничего особенного она не сказала, но, как добавила Лиза, вела себя угрюмо и даже неодобрительно заглянула внутрь дома. А поэтому она, Лиза, и ее мать решили (таких слов она не произнесла, но догадка позабавила Ханса), что сама Эльза и есть автор лиловой записки. Лиза смотрела на письмо, которое ей протягивал Ханс, со смесью жадности и печали. В первый момент ему показалось, что она ведет себя слишком нескромно. Но он тут же устыдился: было очевидно, что Лиза не читает имен отправителя и адресата, а лишь мечтает прочесть. Она подняла глаза и внимательно посмотрела на Ханса, словно давая понять, что уж мысли-то его читать она умеет. Еще совсем детская красота Лизы вдруг стала не по-детски строгой. Ханс не знал, что сказать, как извиниться. Но, судя по всему, девочка удовлетворилась его мимолетным испугом, ее лицо смягчилось, она стала прежней и пообещала: Я немедленно его отнесу, сударь. Ханса неприятно кольнуло это слово: «сударь».
Он ел в гостиной овощной суп, когда в дверь просунулся край Эльзиной шляпки. Он пригласил ее войти и сесть, и, к его удивлению, приглашение было принято. После недолгого растерянного молчания он с улыбкой спросил: И? Эльза непрерывно качала ногой, словно давила на какую-то педаль. Ты ко мне с поручением? спросил Ханс, не замечая, что смотрит не на ее лицо, а на покачивающуюся ногу. Нога мгновенно замерла. Эльза протянула ему записку. Это от госпожи Готлиб, сказала она. Хансу показалось, что в силу своей очевидности эти слова должны означать что-то другое. Вижу, сказал Ханс, продолжая теряться в догадках. Госпожа Готлиб дала мне это письмо час назад, сказала Эльза, и просила отнести его вам на постоялый двор. Так! кивнул он с нарастающим любопытством. Но я не могла принести его раньше, продолжала Эльза. Ничего страшного, ответил он, спасибо, что принесла сейчас. Вам не за что меня благодарить, возразила она, это моя обязанность. (Что она хочет этим сказать? подумал Ханс, что принесла мне записку с удовольствием, хотя в любом случае должна была это сделать? или, наоборот, что ни за что не стала бы ее передавать, будь на то ее воля? Ханс перебрал все возможные варианты. А может, она не имела в виду ни того ни другого. Может, что-то занимало ее мысли и она просто решила посидеть на диване. Но почему она не уходит?) Госпожа Готлиб предупредила, сказала Эльза, что ответа не нужно, разве что вы сами изъявите желание. (А это как перевести? Нужно ли настаивать на ответе, сообщала ли Софи в этой новой записке, что встреча отменяется? Или же, как в истории с веером, ее слова служили приглашением продолжить переписку? Нелегко было думать после сытного обеда.)
Эльза ушла, оставив ощущение, что так и не сказала того, что хотела сказать, или что не захотела сказать того, что сказать ей было должно. Непроницаемая, вышколенная, она ловко увернулась от всех его вопросов, в то же время не отказавшись на них отвечать. Ханс жадно прочитал записку, но все сомнения так при нем и остались: обтекаемо, безупречными фразами Софи приветствовала его согласие прийти к ним завтра во второй половине дня, уточняла мелкие детали визита, но особенно было заметно (почти только на это он и обратил внимание), насколько охладел ее тон по сравнению с предыдущим письмом и с какой неумолимой иронией она отвергла все комплименты. Он смирился, поняв, что может биться над этой загадкой хоть целый день, но никакая сила не смогла бы заставить его отбросить надежду и сладкие сомнения, которые, он так этого боялся! отныне будут терзать его вечно.
Ханс, шарманщик и Франц шли через город в густеющих вечерних сумерках. Оранжево-зеленая тележка подскакивала на булыжной мостовой, на земляных ухабах. Ханса восхищала невозмутимость, с которой старик ежедневно, добрых четыре километра, отделявших площадь от пещеры, катил перед собой свой инструмент. Еще его не переставало удивлять, что шарманщик никогда не мешкал ни на одном повороте, ни на одном перекрестке, ни на одной развилке. Ханс провел здесь не меньше полутора месяцев, но все еще не мог несколько раз подряд пройти по одному и тому же маршруту: дело всегда заканчивалось тем, что он возвращался туда, откуда стартовал, и по дороге непременно замечал какие-то изменения. Теперь он интуитивно понял, что Вандернбург не столько неприметно меняет свой облик, сколько вращается на месте, словно следующий за капризами солнца подсолнух.
Вчерашняя грязь начала подсыхать. Пятна изморози оттаивали и слегка дымились, с земли поднимался плотный запах развороченной глины и мочи. На серых городских стенах отблескивали пятна сырости и последние остатки дневного света. Ханс смотрел на застаревшую коросту грязи, на мешковатую неопрятность Вандернбурга, к которой никак не мог привыкнуть. Шарманщик вздохнул и коснулся худыми пальцами плеча Ханса: Как все-таки красив Вандернбург! Ханс изумленно к нему обернулся. Красив? переспросил он, а не кажется вам город грязным, убогим, тесным? Конечно! ответил шарманщик, но и очень красивым. А тебе он не нравится? Жаль. Нет, пожалуйста, не извиняйся, к чему эти церемонии! я тебя понимаю, все логично. Может быть, он нравится больше, когда его узнаёшь поближе. Лично мне, улыбнулся Ханс, Вандернбург нравится тем, что в нем есть вы. Вы, Альваро, Софи. Разве не люди создают красоту места? Ты прав, согласился шарманщик, но меня, кроме того, не знаю, как тебе это объяснить, меня продолжают удивлять его улочки, я не устаю на них смотреть, потому что… Франц! оставь в покое лошадей, разбойник! иди сюда! этот пес, когда голодный, становится чересчур общительным, бедняга полагает, что каждый готов угостить его котлеткой, а не пинком, о чем бишь я? а! эти улицы мне кажутся новыми благодаря своей старости, ох! какие глупости я говорю! Просто для меня в них есть отрада. Но объясните, воскликнул Ханс, что именно вас так воодушевляет? что конкретно вам в нем нравится? Все и ничего, объяснил шарманщик, площадь, например, с каждым днем она кажется мне все интересней, хотя я играю на ней уже много лет. Раньше, знаешь? я боялся заскучать, боялся, что площадь для меня иссякнет, но теперь, чем дольше я на нее смотрю, тем более незнакомой она мне кажется, если бы ты видел, какой разной бывает башня в снег и летом! кажется, что она сделана… сделана из чего-то нового. А рынок, фрукты, краски? никогда не знаешь, что привезут сюда после сбора урожая, хоть в эту зиму, например, Франц, осторожно! иди рядом! даже сам не пойму, мне нравится, когда зажигают фонари, ты видел? Мне нравится смотреть, как люди, сами того не замечая, становятся другими, хотя все так же продолжают идти мимо: мужчины лысеют, женщины толстеют, дети растут, появляются другие, новые. Мне грустно, когда я слышу, что молодым не нравится их город; конечно, хорошо, что они любознательны и мечтают о чужих краях, но именно поэтому не мешало бы им проявить свою любознательность и здесь, в родном городе: возможно, они недостаточно пристально в него вгляделись. Они молодые. Им пока кажется, что все на свете либо красивое, либо уродливое, без оттенков. Знаешь, я так люблю разговаривать с тобой, Ханс! Я ни с кем так раньше не разговаривал.
Вдали, за огороженными пастбищами, овцы заканчивали кормить ягнят, тянущихся к их соскам, как к лучам света. Ночь стремительно сплетала свое полотно.
Рейхардт и Ламберг явились чуть пораньше и теперь по-братски делили бутылку вина и буханку клейкого хлеба. За ними приехал Альваро, по просьбе Ханса он иногда заезжал в пещеру и привозил по его же просьбе щедрый рацион еды, приготовленный его кухаркой. После смерти жены Альваро одиноко жил в своем загородном доме, недалеко от текстильной фабрики. До города он обычно ехал верхом. А там оставлял седло на конюшне и дальше добирался своим ходом или в экипаже. На лошади он сидел безупречно, плотно прижимая пятки и расслабив руки, чуть ли не уронив их вдоль тела. Казалось, его норовистая лошадь не столько подчиняется поводьям, сколько просто не имеет разногласий с хозяином. В пещере Альваро не засиживался. В определенный момент он бросал взгляд на нагрудные часы, раскланивался и вскакивал в седло.
В тот вечер он приехал в пещеру довольно небрежно одетым, что случалось с ним крайне редко. Волосы его были растрепаны, щеки горели, как у человека, долго отмывавшего лицо после физического труда. Прошу простить за опоздание, пробормотал он, присаживаясь у костра, но я умудрился сесть в ужасный экипаж. Сначала мы чуть не перевернулись, а потом у нас увязло колесо, и мне пришлось толкать эту колымагу, пока кучер нахлестывал лошадь. Этот изверг так избил несчастное животное, что оно не в состоянии было двигаться дальше! Хансу показалось, что для неформальной встречи в пещере его приятель оправдывается слишком подробно. Он вспомнил, как шел сюда с шарманщиком, как выглядели мостовые, и, не раздумывая, брякнул: Как странно, что твой кабриолет увяз, ведь земля совсем почти сухая. Ну, что тебе на это ответить! огрызнулся Альваро, там, где ехали мы, было грязно!
Набитый желудок и общий костер подогревают дружеские чувства. Вскоре Альваро вновь обрел свое обычное уравновешенное состояние, стал дружелюбным, всех смешил и то хватал Ханса за локоть, то хлопал его по плечу. Беседа понемногу входила в свое русло. Выпитое вино, прежде чем повергнуть их в опьянение, даровало им пару часов просветленного глубокомыслия. Альваро спросил Ханса о том, о чем прежде не решался. Ты часто говоришь, что собираешься в Дессау, сказал он, а что ты будешь там делать? Там меня ждет господин Лиотард, очень серьезно ответил Ханс. А кто он такой? поинтересовался Альваро. Это я расскажу тебе в другой раз, подмигнул ему Ханс. Послушай, продолжил расспросы Альваро, а тебе никогда не хотелось вернуться в Берлин? Нет, ответил Ханс, в этом нет смысла. Даже если я оставил там свои воспоминания, разве можно за ними вернуться? Можно отступить назад, но не вернуться. Вернуться невозможно. Поэтому я предпочитаю новые места. А где ты был до Берлина? спросил шарманщик. В других местах, еще дальше, ответил Ханс. Мальчик мой, вздохнул старик, складывая ухо Франца наподобие носового платка, но почему ты так много путешествуешь? Считайте, что по-другому я не умею, ответил Ханс. Мне кажется, что если точно знаешь, куда направляешься и что будешь там делать, то рано или поздно просто перестанешь понимать, кто ты такой. Я зарабатываю на жизнь переводами, а этим можно заниматься где угодно. И я стараюсь не строить планов: пусть за меня решает судьба. К примеру, несколько недель назад я выехал из Берлина. Хотел добраться до Дессау, но решил заночевать здесь, и вот, пожалуйста: я все еще здесь и с удовольствием разговариваю с вами. Случайностей не бывает, сказал шарманщик, мы сами приходим им на помощь. Мы им подсобляем. А если все идет не так, виним в этом случайность. Уверен, что тебе известно, почему ты никуда не уезжаешь, и я этому рад! и почему уехал из Берлина тоже знаешь! Эй! профессора! взмолился Рейнхардт, если вы и дальше будете философствовать, я усну!
Нет-нет, встрепенулся вдруг Ламберг, щуря глаза, Ханс верно говорит. Я никогда не знал, почему я здесь, зачем торчу на этой фабрике и куда бы мог уехать. Со мной происходит то же самое, что и с ним, но только тут, на одном месте.
Пламя переговаривалось с глазами Ламберга, перекидывалось с ними искрами.
Я без этого не могу, продолжал Ханс, когда я надолго застреваю на одном месте, то как будто перестаю видеть, как будто слепну. Все становится каким-то одинаковым, расплывается, перестает меня удивлять. И наоборот, во время путешествия все видится мне загадочным еще задолго до того, как я добираюсь до места. Мне нравится путешествовать в дилижансах и смотреть на незнакомых попутчиков, придумывать их жизнь, пытаться угадать, почему они откуда-то уехали или куда теперь едут. Я спрашиваю себя, сведет ли нас когда-нибудь еще судьба, или мы – что вероятнее всего – никогда больше не пересечемся. А раз мы никогда не пересечемся, думаю я, значит, эта встреча неповторима, и мы можем продолжать молчать, а можем признаться друг другу в чем угодно, например, я смотрю на какую-нибудь даму и думаю: сейчас я могу сказать ей «я вас люблю», могу сказать «сударыня, знайте, что вы мне не безразличны!», и есть один шанс из тысячи, что она не посмотрит на меня как на сумасшедшего, а улыбнется и скажет «спасибо» (хрена лысого! заверил его Рейхардт, в ответ на твой пыл сударыня отвесит тебе пару пощечин!), да, наверно, но ведь может она спросить «вы это серьезно?» и неожиданно признаться: «уже двадцать лет мне никто такого не говорил», понимаешь? То есть меня волнует мысль, что это единственный раз, когда я вижу этих людей. И когда я вижу их такими безмолвствующими, серьезными, то не могу не гадать, о чем они думают, глядя на меня, что чувствуют, какие хранят секреты, что пережили, кого любят, и все такое прочее. Получается, как с книгами: ты видишь стопки книг в магазине, и тебе хочется заглянуть в каждую из них, узнать хотя бы их звучание. Ты чувствуешь, что упускаешь нечто важное, ты видишь их, и они тебя интригуют, искушают, напоминают тебе, как ничтожно мала твоя жизнь и какой безбрежной она могла бы быть. Каждая жизнь! воскликнул, ерничая, Альваро, ничтожно мала и безбрежна! Ты еще очень молод, Ханс, сказал шарманщик. Совсем не так, как вам кажется, улыбнулся Ханс. И так кокетлив! добавил Альваро. Ханс огрел его веткой по голове. В ответ Альваро натянул ему на нос берет и повалил на землю. Они катались по пещере, умирая от смеха, и к ним в восторге присоединился Франц, выискивая какую-нибудь щель между ними, чтобы поучаствовать в драке.
Я тоже повсюду вижу тайну, задумчиво сказал шарманщик, но вижу, как уже сегодня говорил, не двигаясь с места, не покидая площадь. Я сравниваю то, что вижу, с тем, что видел вчера, и, поверь мне, повторений не бывает. Ты смотришь и замечаешь, что сегодня не хватает одного фруктового лотка, что кто-то опоздал в церковь, что какая-то парочка выясняет отношения, что у кого-то заболел ребенок, и многое другое. Думаешь, я увидел бы все это, не простояв на площади такое количество раз? Если бы я так часто переезжал с места на место, как ты, у меня голова пошла бы кругом, я не успевал бы сосредоточиться. Эти охи-ахи у тебя пройдут, ехидно заметил Рейхардт, ты перестанешь млеть от пейзажей. Мне, почти такому же старому, как ты (а кто из вас старше? поинтересовался Ханс), что за вопрос, малолетка! ты разве сам не видишь? конечно он! смотри, какие у меня мускулы, пощупай! так вот: мне все стало скучно. Нет уже того любопытства, что прежде, как будто все знакомые места постарели вместе со мной. То есть как будто бы вокруг все то же, но помельче.
Ханс пристально посмотрел на Рейхардта, осушил свой стакан и сказал: Это ты гениально подметил. «Вокруг все то же, но помельче». Черт, просто гениально, не знаю, понял ли ты это сам. Если ты передашь мне бутылку, ответил Рейхардт, то я пойму все, что твоей душеньке угодно. Одним словом, подытожил Альваро, выходит, что есть два типа людей, да? те, кто всегда уезжает, и те, кто навсегда остается. Еще есть такие, как я, кто сначала уезжает, а потом остается. Э-э, я думаю, лучше сказать так: те, кто хочет остаться, и те, кто хочет уехать, возразил шарманщик. Согласен, кивнул Альваро, но хотеть передвигаться – это одно, а передвигаться – совсем другое. Я, например, с каких же это пор? неважно, одним словом, давно думаю, что мне пора уехать из Вандернбурга, и, как видите, все еще здесь. Дорогой мой, улыбнулся шарманщик, а я разве не двигаюсь, когда каждый день везу с собой шарманку, когда вращаю ее рукоятку? Можно оставаться на месте и все время двигаться. Вы другое дело, сказал Ханс (нет-нет, запротестовал шарманщик, облизывая пальцы, ведь правда, Франц? мы такие же, как все), вы определились со своим местом, вы его нашли, но, если не считать таких, как вы (не забывай еще про Франца, напомнил шарманщик), я серьезно! человеку, чтобы понять, где он хочет находиться, нужно объездить много мест, узнать много вещей, людей, новых слов (а что это: путешествие или побег? спросил шарманщик), хороший вопрос, дайте подумать, наверно, и то и другое: иные путешествуют, в том числе убегая, в этом нет ничего плохого. Однако убегать и смотреть в будущее – тоже разные вещи.
А я всегда мечтал сбежать в Америку, снова заговорил Ламберг. В Америку или в любое другое место, где можно все начать сначала. Лично мне очень хотелось бы все начать сначала.
Ламберг замолчал и продолжил вглядываться в огонь, как человек, пытающийся прочесть объятую пламенем карту.
Костлявые пальцы шарманщика поглаживали спину Франца, который теперь дремал. Я очень мало путешествовал, сказал он, и, честно говоря, Ханс, меня восхищает, столько ты всего видел. В молодости я боялся путешествий, думал, что они меня обманут. Обманут? удивился Ханс. Да, пояснил шарманщик, думал, что путешествия могут создать ощущение, что моя жизнь изменилась, но иллюзия продлится ровно столько же, сколько само путешествие. Не знаю, задумчиво сказал Альваро, уехать? остаться? наверно, это наивно. На самом деле невозможно быть целиком и полностью только в одном месте или уехать от всего навсегда. А ведь и те, кто остался, могли бы уехать или могут сделать это в любой момент, а те, кто уехал, могли бы, наверно, остаться или вернуться обратно. Почти все люди так и живут, разве нет? живут между уехать и остаться, словно на границе. В таком случае, сказал Ханс, ты бы чувствовал себя как дома в каком-нибудь портовом городе вроде Гамбурга. У меня был однажды дом, вздохнул Альваро, и я его потерял. Мне вспомнилась одна арабская поговорка, сказал Ханс, кладя руку ему на плечо, в ней говорится, что идущий сам превращается в дорогу. И что эта хрень означает? поинтересовался Рейхардт. Не знаю, улыбнулся Ханс, поговорки все такие, загадочные. Лучшая дорога – та, что имеет изгибы, провозгласил Альваро. Это тоже поговорка? спросил Рейхардт и рыгнул. Нет, ответил Альваро, просто в голову пришло. Лучшая дорога – та, что ведет к морю, сказал Рейхардт, я уже тридцать лет не видел моря! Лучшая дорога – та, что ведет тебя к исходной точке, определил шарманщик.
А для меня, снова заговорил Ламберг, лучшая дорога – та, которая позволит мне забыть исходную точку.
Шарманщик задумался. Он хотел что-то сказать, но Ламберг рывком вскочил на ноги и отряхнул суконную куртку и шерстяные штаны. Мне пора, сказал он, не отрывая глаз от угасающего костра, завтра на работу. Уже поздно. Спасибо за ужин. Шарманщик, кряхтя, встал и предложил гостю глоток вина на дорогу. Остальные четверо попрощались с ним сидя. Перед тем как выйти из пещеры, Ламберг обернулся к Хансу: Я обдумаю твои слова. И растворился в темноте.
А почему бы тебе не завести другой дом? спросил шарманщик. Теперь уже поздно, невнятно пробормотал Альваро, перемешивая печаль с вином. Тебе здесь неуютно живется, сказал шарманщик. Я не хотел сюда приезжать, сокрушенно вздохнул Альваро. А почему не уезжаешь? спросил Рейхардт. Потому что разучился уезжать, ответил Альваро. Хорошо быть чужестранцем, заметил Ханс. Чужестранцем из каких стран? спросил шарманщик. Чужестранцем, пожал плечами Ханс, просто. Я знаю многих чужестранцев, сказал старик, некоторые, как ни стараются, не могут прижиться на новом месте, потому что их не принимают. Другие сами не хотят прирастать к чужой земле. А третьи похожи на Альваро, они могут быть откуда угодно. Вы говорите в точности так же, как Кретьен де Труа, удивился Ханс. Кто-кто? переспросил шарманщик. Один средневековый француз, который высказал замечательную мысль: те, кто верит, что их родина там, где они родились, страдают. Те, кто верит, что их родиной может быть любое место, страдают меньше. Зато те, кто знает, что ни одно место на земле не будет им родиной, – неуязвимы. Слушай, запротестовал Рейхардт, опять ты все усложняешь, при чем здесь этот допотопный француз! вот я, например, родился в Вандернбурге, я здешний и не смог бы жить в другом месте, точка. Да, Рейхардт, согласился Ханс, но скажи, почему ты так уверен, что это твое место? откуда ты можешь знать, что именно оно и никакое другое? Да знаю, черт меня возьми, и все тут! воскликнул Рейхардт, как я могу не знать? Я чувствую себя здешним, я саксонец и немец. Но сейчас Вандернбург прусский город, возразил Ханс, почему же ты чувствуешь себя саксонцем, а не пруссаком? и почему немцем, а не, скажем, германцем? Эта земля бывала в разные времена саксонской, прусской, наполовину французской, чуть ли не австрийской, и кто знает, какой еще будет завтра. Разве это не чистая случайность? границы бродят с места на место, как стада, страны мельчают, дробятся и растут, империи зарождаются и гибнут. Единственная надежная вещь, которая у нас есть, это наша жизнь, и она может протекать в любом месте. Любишь ты все усложнять, повторил Рейхардт. Я думаю, вы оба правы, сказал шарманщик. Единственная надежная вещь, которая у нас есть, это наша жизнь, ты прав, Ханс. Но именно поэтому я уверен, что принадлежу этой земле: пещере, реке, своей шарманке. Здесь мое место, мое имущество, все, что у меня есть. Это так, сказал Ханс, но вы могли бы играть на своей шарманке и в любом другом месте. В другом месте, улыбнулся старик, мы с тобой не были бы даже знакомы.
Теперь они остались втроем. Рейхардт ушел отсыпаться. Вина почти не осталось, и речь Альваро заполнилась межзубными «с» и незнакомыми «х». Хансу казалось, что чем хуже Альваро произносит звуки, тем лучше изъясняется по-немецки, как будто опьянение нарочно демонстрировало, что он иностранец, но та же неспособность полностью приноровиться к чужому языку делала его более чутким и отважным в формулировках. Непослушными губами и заплетающимся языком Альваро расходовал последние минуты ясного сознания. Теперь он цеплялся за любые слова собеседников и с удивлением их повторял, смакуя, словно вновь изобретенные. Gemütlichkeit[29]? произносил он, как… какая прелесть, а? и как трудно: Gemütlichkeit… Сначала складываешь губы, как будто хочешь свистнуть, Gemü…, но вдруг, э-э, приходится резко улыбнуться, отлично! tlich…, но ни шиша! радость длится недолго, теперь нужно щелкнуть языком по небу, keit, на! получай! keit! и у тебя просто вылетает челюсть… Ханс слушал его с интересом и вместе с ним шевелил губами, а потом спросил, как это слово переводится на испанский. Не знаю, засомневался Альваро, все зависит от, подожди, дай подумать, дело в том, что, конечно, можно использовать Gemütlichkeit как… просто как comodidad[30], э-э, placidez[31], верно? но это чушь, потому что есть другой смысл, который вложил в него ты, Gemütlichkeit, то есть, эх, не умею я говорить! м-м, удовольствие от пребывания, верно? от нахождения там, где ты есть, радость, что ты остался в этом месте, что у тебя… у тебя есть родной очаг. Одним словом, в том смысле, в котором ты хотел сказать, что у меня этого нет. Этого нет ни у одного немца, сказал Ханс. А! знаете что? продолжал Альваро, не обращая на него внимания, мне пришло в голову слово с совсем обратным смыслом, оно к тому же не кастильское, а галисийское, но все испанцы его знают, очень красивое, послушай, как оно звучит, какое оно изящное: morriña. Услышав музыку этого слова, шарманщик зааплодировал, засмеялся и попросил Альваро повторить его раз шесть подряд, и каждый раз снова смеялся. В приступе эйфории Альваро объяснил, что «morriña» – это нечто вроде ностальгии по родной земле, чувство едва уловимое, печальное, но и сладостное тоже. И добавил, что быть республиканцем и одновременно испанцем тоже своего рода «morriña», тоскливо-сладостное чувство, высокая честь и горькие слезы. Накатывающая печаль, как у моряков, но мы ведь все немного моряки.
Вдруг Ханс ни к селу ни к городу рассказал, то и дело икая, что жители Тибета называют человеческое существо «тот, который мигрирует» из-за людской потребности всегда рвать устоявшиеся узы. Шарманщик, явно еще трезвый, кивнул на сосновую рощу: У меня уз нет, зато много корней. Да, конечно, это верно, затараторил Ханс, верно, конечно, да, но тибетцы имеют в виду, что и связи, и корни, и прочие подобные штуки не позволяют нам перемещаться, поэтому путешествовать означает преодолеть все эти ограничения и удерживающие меня путы, понимаете? Альваро, голубчик, ты меня понимаешь? Конечно, дружище! встрепенулся Альваро, мы преодолеем и «morriña», и ностальгию, и Gemütl… Gemütlichkeit! Ребята, улыбнулся старик, я уже не в том возрасте, чтобы преодолевать удерживающие меня путы, я, скорее, озабочен тем, чтобы их сохранить. А что касается ностальгии, кто сказал, что нельзя путешествовать с ней? Ханс подавил икоту, взглянул шарманщику в лицо и воскликнул: Альваро, слушай! если мы довезем этого человека до Йены, многим придется отказаться от кафедр! Ты слышишь меня, Альварито? М-м-м, нет, промычал Альваро, не слышу, уже ни тебя, ни себя.
Альваро дремал, открыв рот и вытянувшись на соломенном тюфяке. Пару раз из него доносились какие-то тягучие слоги на непонятном языке. Ханс сидел с туповатой улыбкой, слегка прикрыв глаза. Шарманщик плотнее укутал его и себя в старое одеяло. А все-таки вы правы, вдруг прошептал Ханс. Нет, ответил шарманщик, прав ты. Значит, мы достигли консенсуса, сонно констатировал Ханс. Они долго молчали, глядя, как разгорается влажный луч зари. Уже можно было различить сосны, позади пещеры просматривалась река.
Свет дня здесь стар, пояснил шарманщик, ему трудно разгораться, как ты видишь.
Какая изолированность, прошептал Ханс, какое обветшание!
И какой покой, вздохнул старик, какое отдохновение.
В ту пятницу – да, наконец-то! – в ту пятницу, когда все уже были в сборе, шрам на верхней губе Бертольда торжественно подтянулся, объявляя о прибытии в Салон Софи Готлиб господина Руди Вильдерхауса. Господин Вильдерхаус-младший, пропел Бертольд. Стараясь подавить волну ревности, Ханс вынужден был признаться себе, что привык, слыша о женихе Софи, делать вид, что его нет, словно таким способом можно было отменить сам факт его существования. Все присутствующие встали. Господин Готлиб сделал несколько шагов вперед, чтобы встретить гостя еще в коридоре. Софи поправила декольте и повернулась к Хансу в зеркале спиной.
Сдвоенные шаги приближались с другого конца коридора: легкие, нервозные – Эльзы и неспешные, скрипучие – Руди Вильдерхауса. Этот пронзительный скрип издавали туфли гостя: они звучали все ближе, эхом отдаваясь в гостиной, звучали слишком долго, и, наконец, сверкнули и замерли напротив ботинок господина Готлиба. Руди Вильдерхаус оказался выше ростом, чем того хотелось бы Хансу. На нем был бархатный плащ, который Бертольд принял с нежным трепетом, раззолоченный на плечах камзол, жилет с двумя рядами ювелирных пуговиц, обтягивающие белые панталоны с вертикальной боковой каймой и тонкие чулки до колен. Конической формы рукава плотно облегали запястья. Жесткий воротничок рубашки оставлял такое впечатление, будто массивную голову Руди Вильдерхауса, украшенную на макушке безупречно уложенным коком, на блюде подносят гостям. Милостивейший государь! воскликнул господин Готлиб, кланяясь и пожимая гостю обе руки выше локтя. Дамы слегка присели в реверансе, кавалеры (Ханс, ощущая себя полным идиотом, в том числе) слегка надломили прямые спины. Руди Вильдерхаус подошел к Софи, взял ее белые, длинные пальцы, коснулся их губами: Meine Dame…
Когда их формально представили друг другу, Ханс заметил три вещи. Во-первых, Руди Вильдерхаус пудрил и румянил лицо. Во-вторых, его чрезмерно надушенное тело издавало весьма расхожий цитрусовый аромат. В-третьих, в разговоре он имел привычку приподнимать плечи, как будто старался подкрепить свои слова, до сих пор вполне предсказуемые, мускульной силой. К большому удивлению Ханса, с ним Руди поздоровался если не сердечно, то, во всяком случае, с определенной учтивостью, не выказанной до этого ни чете Левин, ни госпоже Питцин. Мне говорили, что Салон обрел нового участника. Рад, что вы к нам присоединились. Скоро вы убедитесь, что бывать в этом доме большое удовольствие. Наш уважаемый господин Готлиб и моя дорогая Fräulein Софи, без сомнения, восхитительные хозяева.
Наш уважаемый и моя дорогая, Ханс попытался распробовать эти слова на вкус, наш уважаемый и моя дорогая.
Господин Вильдерхаус, объясняла Хансу Софи, пока все снова рассаживались по местам, к сожалению, не всегда имеет возможность оказать нам честь своим визитом, поскольку бесчисленные дела требуют его неусыпного внимания. Даже сегодня он не останется с нами до конца и пробудет только до восьми. Как? Ничего, кроме чая? Умоляю вас, не будьте таким аскетичным, дорогой господин Вильдерхаус, попробуйте хотя бы ложечку желе, вы же не станете меня огорчать! Эльза, пожалуйста, вот так-то лучше, как сложно вас уговорить, чтобы вы хоть что-нибудь съели! Перед вашим приходом, дорогой господин Вильдерхаус, мы обсуждали интересные различия между Германией, Францией и Испанией, последнюю мы затронули благодаря осведомленности господина Уркио, нет, извините, Уркикхо? одним словом, вот о чем мы говорили. О, воскликнул Руди, старательно изображая энтузиазм, отлично! превосходно!
Почему она все время называет его «дорогой господин Вильдерхаус»? подумал Ханс, не слишком ли искусственно звучит такое обращение? не слишком ли мало в нем близости? обычной для людей, которые? может быть, это знак? почему я такой идиот? зачем строю иллюзии? почему не могу взять себя в руки? почему? почему? почему?
Проще говоря, витийствовал профессор Миттер, можно сказать, что французы воспринимают внешние объекты как движитель своих идей, в то время как мы, немцы, считаем их движителем наших впечатлений. Никто не спорит, что в Германии люди имеют склонность включать в разговоры темы, более уместные для книг, зато во Франции ошибочно включают в книги темы, уместные лишь для разговора, что гораздо хуже. Я бы сказал так: французы пишут в основном, чтобы понравиться, немцы пишут, чтобы подтолкнуть читателя к размышлениям, англичане, чтобы разобраться в себе. Вы так считаете, профессор? усомнилась госпожа Питцин, но французы так бесконечно элегантны, ils sont si conscients du charme![32] Сударыня, повернулся к ней профессор Миттер, честно говоря, выбирая между одной ценностью и другой… Кхм, а мне кажется, набрался смелости господин Левин, что и выбирать не нужно! верно? Любая эстетика, отчеканил профессор, основана на выборе. Да, конечно, сразу сдался господин Левин, но все-таки, не знаю. Наш дорогой господин профессор, вмешалась Софи, я, с вашего позволения, хочу заметить, что и Германии не повредила бы небольшая толика бездумности. Нет сомнений, что эстетика – как вы здесь правы! – дело выбора. Но ведь мы можем выбрать определенное смешение, эстетика включает в себя все: концепции, абстракции, предметы, забавные истории, вы не согласны? Пф-ф, ушел от спора профессор Миттер. (Ханс, воспользовавшись тем, что Руди на него не смотрит, разглядывал микроскопические поры на предплечье Софи, испытывая острое желание их облизнуть.) А вы, Руди? спросила Софи, какого мнения о французах? (Руди!, чертыхнулся Ханс, теперь она назвала его Руди!, хотя «дорогой» не добавила, господи, ну почему я такой дурак?) Я? вздрогнул Руди, поднимая плечи, я, моя дорогая, в этом вопросе не имею мнения, сколько-нибудь отличного от вашего («вашего», насторожился Ханс, он сказал «вашего», общаются ли они на «ты», когда остаются вдвоем?), я хочу сказать, что различий в моих и ваших взглядах нет. Абсолютно никаких? настаивала Софи, я призываю вас возразить, не будьте столь застенчивы. Дело не в этом, улыбнулся Руди, просто вы изложили все так ясно, как истинный ангел. Стало быть, в истинности слов ангелов вы не сомневаетесь? пошутила Софи. Признаться, дорогая, когда вас вижу, нисколько, ответил Руди.
(Ах! Ханс прикусил губу.)
Но что же плохого в сдержанности? вопрошал профессор Миттер, ужель она не столь же благородна, как украшательство? Дорогой профессор, возразила Софи, возможно, уместней было бы говорить о социализации. Ведь мы всегда всё держим при себе, всё скрываем. Во Франции же всё напоказ. Мы замкнуты по природе или, по крайней мере, считаем, что такова наша природа, поэтому и выглядим такими недотепами. Этого никак нельзя отрицать, согласилась госпожа Питцин. Много лет назад я была в Париже, и… да что там говорить, это совершенно другой мир. Эти великолепные наряды. Рестораны. Праздники. Ах. Клянусь тебе, дорогая, любой французский покойник развлекается веселей, чем любой живой немец! Германия, загадочно произнес господин Левин, это кухня Европы, а Франция – ее желудок. Но, оставляя в стороне развлечения, продолжил профессор Миттер, давайте согласимся, что во Франции читают гораздо меньше. Профессор, возразила Софи, вы так прекрасно осведомлены, что я боюсь вам возражать, но что, если читают не меньше, а просто по-другому? Скорее всего, французы читают, чтобы иметь возможность с кем-то эти книги обсудить, в то время как для нас, немцев, компанию составляют сами книги, они и есть наше прибежище. Разница в другом, сударыня, возразил профессор Миттер, к сожалению, во Франции не только читают для других, но и пишут для других, на публику. А немецкий автор сам создает свою публику, он ее формирует и строго с нее взыскивает. Французский писатель готов потакать читательским запросам, предоставлять им то, что они от него ждут. Вот она, социальная открытость французов, et je ne vous en dis pas plus![33] Профессор, а не в том ли дело, раздраженно вмешался Ханс, что во Франции читателей намного больше, чем у нас? В Париже больше театров и книжных магазинов, чем в Берлине. У нас здесь художник с трудом находит того, кого бы мог восхитить или разочаровать. Скорее всего, именно поэтому мы утешаем себя мыслью, что наши писатели самые взыскательные, самые независимые и все прочее. В Париже, сударь мой, возразил профессор Миттер, царит легкий успех и обывательский вкус. В Берлине же ценятся индивидуальность и возвышенность, вы разве не видите разницы? Вы сами сказали, заметил Ханс, что в обоих случаях тон задает предписанный образец. В Париже ценится стиль, в Берлине ценится другое. В обоих случаях авторы ищут аплодисментов. Одни ищут одобрения просвещенных людей, которых во Франции предостаточно, другие же ищут одобрения критиков и профессоров, тех немногих, кто в Германии читает. Ни один из двух вариантов не свидетельствует ни о меньшей социальной открытости, ни о меньшей заинтересованности. И разницы в благородстве целей я тоже не вижу. А если это так, господин Ханс (объявила Софи заговорщическим тоном, наклоняясь к Хансу, но одновременно очаровательно улыбаясь профессору Миттеру), что вы могли бы предложить для сближения позиций тех и других? Ханс и сам частенько над этим задумывался и уже готов был ответить, но тут ему пришла в голову злокозненная идея. Он поставил чашку на стол и, сделав вид, что Руди просил его об этом взглядом, громко провозгласил: Конечно! извольте, дорогой господин Вильдерхаус!
Руди, весь последний час нюхавший табак и отвечавший «безусловно, безусловно» на любые вопросы Софи, выпрямил спину и приподнял одну бровь. Хансу удалось уклониться от его испепеляющего взгляда, вовремя переключив все внимание на поднос со сладким. Руди видел, с каким интересом повернулась к нему невеста, и понимал, что должен дать достойный ответ. Не ради остальных гостей, которых он ни в грош не ставил, не ради даже собственной чести, построенной на куда более серьезных ценностях, чем эти литературные посиделки. Нет, ответить надо было ради Софи. Ради нее, и еще, пожалуй, чтобы проучить этого наглого чужака, ввалившегося в дом даже без перчаток. Руди стряхнул с жилета несколько табачных крошек, прочистил горло, расправил плечи и сказал: Возможно, Париж превосходит нас количеством печатных дворов и театров, но не может и никогда не сможет сравниться с Берлином в благородстве и добродетели.
Дебаты продолжались, как будто ничего не произошло. Но на губах Ханса играла улыбка, а Руди то и дело ронял на себя табак.
Это правда, друзья мои, говорила госпожа Питцин, что для меня нет лучшего времяпрепровождения, чем книги. Разве может еще что-то нас так развлечь, увлечь, как литературный роман? (я заметил, сударыня, пошутил профессор Миттер, что чтение вас изрядно развлекает), вы даже не представляете себе, профессор, до какой степени, даже не представляете! Для меня культура всегда служила, как бы это сказать? огромным утешением. Я постоянно твержу своим детям, как твердила и покойному супругу, царствие ему небесное: ничто не может сравниться с книгой, ничто так многому нас не учит, поэтому читайте! неважно что, но читайте! Но вы сами знаете, какова теперь молодежь, они не интересуются ничем, кроме своего приятельского круга, своих развлечений и балов (однако верно ли, кхм, усомнился господин Левин, верно ли, что не имеет значения, что именно читать?), но ведь не существует вредного чтения, не так ли? (при всем моем уважении, сударыня, вмешался Альваро, боюсь, что это слишком простодушный взгляд: конечно, вредные книги существуют, и бесполезные, и даже контрпродуктивные, точно так же как существуют плачевные комедии и ни гроша не стоящие картины), ну, не знаю, если так смотреть… Я согласен, сказал профессор Миттер, с господином Уркио: литературное образование должно предполагать отказ от вредных книг. И ничего ужасного в этом нет. Мне хотелось бы понять, отчего мы так благоговеем перед любым печатным словом, даже если оно не содержит в себе ничего, кроме вздора? (но кому же решать, возразил Ханс, кому решать, какие книги – вздор? критике? прессе? университетам?), о! прошу вас, только не надо рассказывать нам про относительность мнений, ради бога, наберемся смелости, кто-то же должен отважиться (я не говорю, перебил его Ханс, что все мнения имеют одинаковый вес, например, ваше, профессор, гораздо весомее моего, однако меня интересует, как должна распределяться ответственность за создание литературных иерархий, само существование которых я не отрицаю), прекрасно, тогда, если вы не возражаете, господин Ханс, если не сочтете за дерзость с моей стороны, предлагаю вам довольно простой подход: филолог несет больше ответственности, чем зеленщик, а литературный критик – больше, чем козий дояр, для начала вас устроит? или нам следует обсудить эту идею с гильдией ремесленников? (господин профессор, сказала Софи, не остыл ли у вас чай?), спасибо, дорогая, сейчас (обсудить – нет, ответил Ханс, но, уверяю вас, если бы филолог хоть полчаса понаблюдал за жизнью ремесленников, он сменил бы свои литературные предпочтения), да, чуть-чуть, дорогая, он действительно остыл.
Один современный романист, продолжал профессор Миттер, провозгласил, что роман, спасибо, с сахаром, что современный роман является зеркалом нашего уклада жизни, и не существует никаких сюжетов, а есть лишь наблюдения, и все происходящее в них уже заключено. Эта мысль весьма занятна, хотя и оправдывает господствующий дурной вкус: выходит, любая дикость или глупость заслуживает своего повествования, потому что такие вещи происходят, верно? Сейчас часто твердят, вмешалась Софи, что современные романы похожи на зеркало, но что, если это зеркало – мы сами? я хочу сказать, что, если мы, читатели, сами отражаем уклад жизни и события, изложенные в романах? Это соображение кажется мне более занятным, поддержал ее Ханс, при таком подходе каждый читатель в определенном смысле превращается в книгу. Дорогая моя, поспешил согласиться Руди, беря Софи за руку, блестящая мысль! ты совершенно права. В свое время подобное открытие сделал Сервантес, заметил Альваро.
Когда гости перешли к разговору об Испании, Руди посмотрел на настенные часы, встал и произнес: Прошу меня покорнейше простить… Господин Готлиб тут же вскочил, все гости немедленно последовали его примеру. Эльза поспешила было в коридор, но Софи подала ей знак и сама пошла за шляпой и плащом своего жениха.
Воспользовавшись паузой, Руди пояснил: этот злополучный ужин, на котором я обещал присутствовать, образовался так некстати! Поверьте, наши споры меня полностью поглотили. Я получил огромное удовольствие, дамы и господа, истинное удовольствие. Впрочем, мы скоро увидимся, возможно, в ближайшую пятницу. А теперь, с вашего позволения…
Ханс вынужден был признать, что Руди, перекочевав из мира мыслей в мир жестов, хороших манер и куртуазности, сразу же обрел несокрушимую уверенность в себе. Замерев в ожидании, массивный, блистательный, скульптурный Руди Вильдерхаус производил впечатление человека, способного без малейших затруднений простоять неподвижно хоть час. Когда Софи принесла ему шляпу и плащ, господин Готлиб подошел к ним и тихо сказал несколько слов, от которых усы его мягко обвисли, а затем все трое исчезли в глубине коридора. Ханс смотрел им вслед, пока от них не остался лишь табачный дым, скрип лаковых туфель и шорох женских юбок. Гости в неожиданном смущении поглядывали друг на друга, в воздухе летали фразы вроде: «Так и есть», «Одним словом», «Сами видите», «Какой приятный вечер». Затем все умолкли и принялись уделять усиленное внимание каждому принесенному Эльзой подносу. Профессор Миттер листал книгу, придвинувшись поближе к канделябру. Альваро подмигнул Хансу, словно говоря «потом обсудим». В это время Ханс удивлялся тому, какая говорливость вдруг напала на неизменно молчаливую госпожу Левин, и именно сейчас! в полнейшей тишине, она что-то быстро и без умолку, энергично жестикулируя, тараторила на ухо мужу, а тот кивал, упорно глядя в пол. Ханс попробовал прислушаться, но уловил только отдельные слова. Одно из них его насторожило и немного встревожило: ему показалось, что он услышал свое имя.
Когда Софи снова появилась в гостиной, все оживились, пространство вновь заполнилось смехом и разговорами. Софи попросила Бертольда зажечь еще свечей, а Эльзу – передать Петре, кухарке, что пора подавать куриный бульон. Затем она села, и гости придвинулись к столу. Ханс про себя отметил, что Софи обладала особым двигательным даром: ничто не оставалось рядом с ней статичным или индифферентным. Вскоре вернулся господин Готлиб, сел в кресло и погрузил свой мясистый палец в усы. Беседа пошла своим чередом, но Ханс заметил, что Софи избегает его взгляда в круглом зеркале. Ничуть не встревоженный Ханс увидел в этой неожиданной застенчивости добрый знак: Софи впервые оказалась одновременно в компании Ханса и своего жениха.
Значит, вы и с Испанией знакомы, господин Ханс? восторженно воскликнула госпожа Питцин, интересно, где вы находите время, чтобы посещать столько стран! Уважаемая сударыня, ответил Ханс, для этого ничего особенного не надо, достаточно сесть в экипаж или на корабль. Судя по количеству описанных вами путешествий, иронично заметил профессор Миттер, вы должны были истратить на них целую жизнь. В некотором смысле так и есть, ответил Ханс, но не встал в оборону и уткнулся носом в чашку с чаем. Дорогой друг, Софи повернулась к Альваро, пытаясь рассеять возникшую неловкость, не могли бы вы рассказать нам о современной литературе вашей страны? Честно говоря, боюсь, что рассказывать-то особо нечего, улыбнулся Альваро. Современной литературы у нас почти нет. Достаточно потрудились наши бедные просветители. Возьмем, к примеру, Моратина, вы о нем слыхали? я не удивлен, он пересек Альпы и половину Германии, так и не узнав, представьте, о существовании Sturm und Drang[34]. Однако быть à la page[35], воскликнула госпожа Питцин, это не самое важное, верно? вы ведь не станете отрицать прелести испанских городков, обаяния вашего непритязательного народа, его жизнерадостный дух, его. Сударыня, перебил ее Альваро, не напоминайте мне об этом. Насколько мне известно, вступил в разговор господин Готлиб, вынув изо рта трубку, религиозный пыл в Испании гораздо чище, гораздо искренней, чем наш (отец! вздохнула Софи с досадой). А музыка, заметил профессор Миттер, музыка берет свое начало совсем из другого источника, из творчества народа, из сути традиций и…
Альваро слушал собеседников-германцев с печальной улыбкой на губах.
Друзья, друзья мои, сказал он с глубоким вздохом, уверяю вас, что за всю свою жизнь я не видел столько цыган, гитар и красоток, как на картинах английских живописцев и в дневниках немецких искателей приключений. Видите ли, моя страна несколько необычна: пока половина поэтической, или, как теперь говорят, романтической, Европы пишет об Испании, мы, испанцы, образовываем себя тем, что все это читаем. Пишем мы мало. Предпочитаем быть темой. И сколько же среди этих тем кошмара! молодые мадридцы, покоряющие брюнеток серенадами! юнцы, убивающие других и себя из чисто средиземноморского пыла! праздные работяги, преимущественно андалусийцы, прохлаждающиеся на своих балконах! профессиональные святоши, танцовщицы из Лавапьес[36], похожие на амазонок, трактиры с нечистой силой, допотопные экипажи! впрочем, последнее правда. Я понимаю, что весь этот фольклор может показаться очень привлекательным, но при условии, что речь идет о чужой стране.
В гостиной наступила тишина, как будто все только что увидели лопнувший мыльный пузырь.
Ровно в десять господин Готлиб отлепил спину от кресла. Подтянув пружину настенных часов, он распрощался с гостями.
Учитывая слегка меланхоличное настроение присутствующих, Софи предложила уделить остаток вечера музыке и чтению вслух, ее идею встретили с энтузиазмом все, но особенно профессор Миттер, который иногда исполнял с ней на пару дуэты Моцарта и Гайдна и даже иную из сонат Боккерини (выражение «и даже иную» принадлежало профессору). Софи подошла к фортепьяно, Эльза принесла футляр с виолончелью. Прежде чем зазвучала музыка, Эльза впервые за весь вечер присела и теперь, тоже впервые, казалась внимательной. Кончиком туфли она вдавила в ковер несколько крошек обжаренного хлеба: крошки хрустнули одновременно с первым ударом смычка профессора Миттера. Ханс смотрел лишь на гибкие, беглые пальцы Софи.
Дуэт отзвучал без эксцессов, нарушаемый лишь энергичными взмахами головы профессора Миттера, на которые Софи отвечала брошенными искоса взглядами и сдержанной улыбкой. Когда дуэт достиг своего финала и отзвучали аплодисменты, Софи уговорила сесть за пианино госпожу Питцин. Наслаждаясь настойчивостью хозяйки, госпожа Питцин сопротивлялась ровно столько, сколько нужно, и с манерной застенчивостью уступила как раз в тот момент, когда Софи слегка ослабила напор. Все снова зааплодировали; ожерелье госпожи Питцин отклеилось от ее декольте и на секунду повисло, сверкая, в воздухе. Затем гостья повернулась к клавиатуре и, гремя кольцами и браслетами, с неумолимой решимостью запела.
Ну как? спросила госпожа Питцин, заливаясь краской. С завидной изворотливостью Софи нашлась с ответом: вы так превосходно музицировали! Чтобы вывести из летаргии госпожу Левин, Софи предложила ей исполнить что-нибудь в четыре руки с госпожой Питцин. Остальные поддержали ее идею восклицаниями, уговорами, удвоенными уговорами и, наконец, аплодисментами, когда госпожа Левин, страдая, встала и огляделась вокруг с таким видом, словно удивлена, что стоит на ногах. Она робко подошла к инструменту. Колоколообразные бедра госпожи Питцин переехали к краю банкетки. Спины дам распрямились, плечи напряглись, и они атаковали Бетховена с дружным рвением, несколько превышавшим пределы благоразумного. Вопреки ожиданиям Ханса, госпожа Левин оказалась прекрасной пианисткой и умело маскировала ошибки и пропущенные ноты своей напарницы. Все это время господин Левин не отрываясь смотрел на банкетку, но вовсе не на юбку жены.
Ближе к полуночи вечер завершился чтением классиков. Госпожа Питцин просила почитать Мольера, Альваро вспомнил о Кальдероне, а профессор Миттер выбрал Шекспира. Господину Левину пришел на ум Конфуций, но в доме Конфуция не оказалось. Ханс промолчал, он предпочел разглядывать пушок на руках Софи, менявший свой вид, цвет и вкус (как он предположил) в зависимости от попадавшего на него света. Несмотря на протесты хозяйки, она единогласно была избрана чтицей подобранных гостями отрывков. Хансу интересно было услышать ее чтение, и не только потому, что в это время он мог безнаказанно ее разглядывать, но и потому, что в голосе любого чтеца всегда старался уловить эротические модуляции. Он не знал, что примерно тем же самым любит заниматься и Софи. Поэтому его взгляд, то блуждавший вокруг, то рассеянный, то пристальный, беспокоил ее и волновал, второе, пожалуй, даже больше, чем первое.
