Антидетектив, или Невыдуманные истории из досье адвоката
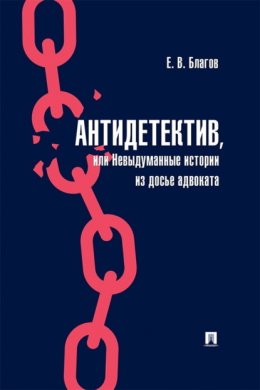
Автор:
Благов Е. В., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова.
© Благов Е. В., 2024
© ООО «Проспект», 2024
- Я в девяностые года
- Стал адвокатом навсегда.
- Не все, конечно, удалось —
- Тяжел защиты нынче воз…
- Раз есть статья, то для нее
- Судьба закланного найдет.
- И если в сети кто попал,
- Тот для свободы уж пропал.
- У нас и следствие, и суд,
- Сцепившись, под руку идут.
- И им на помощь придана
- Оперативников чреда.
- Эксперты в деле тоже есть,
- Кому, как пыль, науки честь.
- И обвинение легко
- Любого сплавит далеко…
- Лишь адвокат всегда один —
- Защиты падших господин.
- На нем сошелся клином дар,
- Что отразит судьбы удар.
- И в бой ему затем идти,
- Сыскать что б истину в пути.
- Он осудить не должен дать
- Того, кто не умел солгать.
- Кто невиновен, тот клиент.
- Ну а виновный разве нет?
- И наказание смягчить
- Защите можно поручить.
- Без адвоката кто решит
- Себя от рока отрешить,
- Рискует тот попасть впросак
- И загреметь прям в автозак…
- И я защитником побыл,
- Пока на то хватало сил.
- Года минули чередой,
- Пора мне стало на покой.
- Хоть я уже не состою
- В родном защитников строю,
- Ни для кого то не секрет,
- Что адвокатов бывших нет.
Предисловие
В средствах массовой информации зачастую обсуждается голландское правосудие по делу о сбитом над территорией Украины малайзийском «Боинге». Мы очень любим судить о том, что происходит за бугром, но зачастую у себя не видим даже бревна в глазу.
Адвокатской деятельностью я занимался около двадцати пяти лет. Причем на эту стезю я вступил в начале девяностых годов прошлого века, когда в нашей стране начались глубокие социальные перемены, больно ударившие по сложившемуся экономическому укладу. Я был тогда уже достаточно зрелым юристом, кандидатом юридических наук, доцентом, около десяти лет преподававшим криминальные дисциплины в вузе.
Началось все не без трудностей, но они были преодолены, как я понял, что от практики не следует ожидать глубокого погружения в юриспруденцию. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. И я, как мне кажется, вполне вписался в русло новой для меня деятельности.
Время летит. Все в жизни меняется. К сегодняшнему дню уже прошло несколько лет со дня прекращения моего адвокатского статуса. Захотелось поделиться некоторыми наблюдениями о проблемах защиты по уголовным делам.
Написать о своей адвокатской деятельности мне советовали давно. Первые советы были даны, наверное, не менее десяти лет назад. Однако я долгое время думал, что это не мое. Я – не писатель, а прежде всего ученый, считающий, что «смешивать два эти ремесла есть тьма искусников, я не из их числа». Кроме того, возникал вопрос о форме повествования. Ясности с ней не было, а она важна, ибо является подсветкой сюжета.
Как обычно, каждому овощу свое время. И вот недавно форма адвокатских сюжетов нашлась. Она отражена в заголовке книги, в которой мне хотелось, по-есенински повенчать «розу белую с черною жабой».
Что-то в защите прав и свобод клиентов мне удалось. Правда, меньше, чем хотелось. Внешним свидетельством удач можно, наверное, считать награждение меня двумя адвокатскими медалями. Что-то – не удалось. И немало. Жалко, конечно, но в нашей парадигме уголовного правосудия достичь лучшего результата практически невозможно.
По большому счету проблемы начинаются с конституционного регулирования судебной деятельности. Согласно части 1 статьи 120 Конституции РФ «судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону». Фраза красивая, но для складывания современной судебной практики трудно было придумать что-либо лучшее.
В русском языке слово «независимость» означает самостоятельность, отсутствие подчиненности, свободу, а подчиняться – стать в зависимость, повиноваться[1]. Тем самым очевидно, что нельзя быть независимым и подчиняться одновременно, но повод для судебного усмотрения налицо.
Одно дело – независимость от иных ветвей власти. И другое дело – полная независимость: от логики, здравого смысла, наконец, от нормативных правовых актов, не являющихся Конституцией РФ и федеральными законами. При этом в Уголовном кодексе много ссылок на такие акты. Так, в статье 264 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в пункте 2 примечаний к статье 228 прямо сказано, что размеры наркотических средств и психотропных веществ, а также для растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, утверждаются Правительством Российской Федерации.
Конституционное регулирование подхватывает уголовно-процессуальное законодательство. Примечательны предписания статьи 17 УПК РФ о свободе оценки доказательств. В соответствии с названной статьей:
«1. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.
2. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы».
Нельзя не заметить отсутствия указания на адвоката. Ему, вероятно, не нужно оценивать доказательства. Только как тогда он может защищать клиента от необоснованного обвинения? То еще цветочки – ягодки впереди.
В части 1 статьи 17 УПК РФ вряд ли речь идет именно о свободе оценки доказательств, но это и хорошо, ибо предписания закона, на первый взгляд, нейтрализуют возможности судебного усмотрения. Вместе с тем получается, что само по себе каждое доказательство не нужно оценивать. Главное – как оно выглядит в контексте всех доказательств. Если оно не попадает в струю, то ничего не подтверждает и не опровергает.
Очень удобная позиция. Что-то из советского времени, когда коллектив обычно был прав, а индивидуализм считался эгоизмом и, мягко говоря, не поощрялся. Каждый лишь тогда шагает правильно, когда в ногу со всеми. Один в поле, оказывается, не воин, а Чацким, как и раньше, нет места в обществе.
В то же время противоречащее всему остальному доказательство как раз и способно быть тем самым звеном цепи, уцепившись за которое можно вытянуть всю цепь доказательств. Сколько уже раз это подтверждалось в судебной практике, причем нередко после приведения в исполнение смертной казни или многих лет отбывания лишения свободы, но воз и ныне там. Как говорится, история учит лишь тому, что ничему не учит. И опять – жаль.
Кстати, а если доказательство одно, его разве не нужно оценивать? Или в таком случае нужно отказывать в правосудии?
В статье 17 УПК РФ, кроме того, сказано про внутреннее убеждение и совесть при оценке доказательств. Надежны ли они в употреблении?
Убеждение – твердый взгляд на что-нибудь, основанный на какой-нибудь идее, мировоззрении[2]. А если идея или мировоззрение ошибочны? К слову, разве убеждение может быть не только внутренним?
Совесть – чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, обществом[3]. А разве она всегда есть или бывает исключительно чистой?
Налицо сплошной субъективизм, не препятствующий любому усмотрению. О каком правосудии в собственном смысле тут можно говорить?
Доказательства действительно не имеют заранее установленной силы? Только почему-то складывается впечатление о приоритете для суда доказательств стороны обвинения.
В статье 15 УПК РФ предусмотрено, что «уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон»; «суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты»; он «создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав»; «стороны обвинения и защиты равноправны перед судом». Вроде бы формально все правильно, а при ближайшем рассмотрении выглядит как издевательство.
О состязательности. Следователь находится на стороне обвинения, защитник – на стороне защиты (пункты 46 и 47 статьи 5 УПК РФ). При этом защитник в ходе предварительного расследования ничего не может приобщить к уголовному делу, то есть ввести в него, помимо решения следователя (статья 119 УПК РФ). Это все равно что одному из боксеров предоставить на ринге право свободного нанесения ударов противнику, а тому – право нанесения ударов лишь с разрешения соперника.
О равноправии. На основании пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ суд «по собственной инициативе» возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, если «обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления».
Еще в студенческие времена я слышал на лекциях по уголовному процессу о том, что на самом деле приговор можно постановить всегда. Не всегда можно вынести лишь обвинительный приговор, но тогда должен постановляться оправдательный. Ясно, что последний, как правило, в пользу защиты. Отсюда за общим понятием «приговор» в пункте 1 части 1 статьи 237 УПК РФ в действительности маячит в отдалении обвинительный приговор, а возвращение дела прокурору способствует уголовному преследованию.
Не менее отражает обвинительную линию суда пункт 6 части 1 статьи 237 УПК РФ. На основании данного пункта суд «по собственной инициативе» возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, если «фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном акте, обвинительном постановлении, постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния либо в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния».
Если указанное делается по ходатайству стороны обвинения, все еще более или менее понятно, хотя ей ничего не мешало приведенное сделать вовремя и добросовестно. Когда же в таких случаях суд по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, это явно делается в интересах стороны обвинения и потому ставит суд на данную сторону.
Более того, суд не связан видом и размером наказания, предлагаемого прокурором в судебных прениях, и может даже назначить более строгую меру. В таком случае защищаться от ее назначения невозможно, ибо она будет известна только в ходе провозглашения приговора. Чем не возрождение функции обвинения после ее прекращения в прениях? Причем суд становится большим обвинителем, чем сам прокурор.
Видимо, прокурор, в отличие от адвоката, является социально близким суду участником уголовного судопроизводства. «Ну как не порадеть родному человечку!..» Не исключено, что именно поэтому в судах для работы такого «человечка» создаются более благоприятные условия, чем для адвоката.
Напротив, обществу навязывается мнение, что адвокат – непорядочная личность, стяжатель, взяткодатель, играющий на недоработках предварительного и (или) судебного следствия. С ним в отличие от прокурора судьям порой не рекомендуется даже знаться. Судьей не стать, если близкий родственник – адвокат.
А к кому и почему, несмотря ни на что, обращаются все, в том числе и судьи, когда возникают правовые проблемы? Как говорится, в семье не без урода; разные люди есть во всех слоях общества (в том числе и среди судей, обвинительные приговоры в отношении которых хотя и редкость, но выносятся). Нельзя и всех адвокатов малевать одной, причем черной, краской.
Вообще-то должно быть стыдно недоработки следователя, прокурора и суда, которые использует адвокат в своей профессиональной деятельности, ставить ему в упрек. У него одна функция – защита прав и свободы клиента, и ее добросовестное выполнение – залог правосудности приговора.
Зачем нужен адвокат, если он станет, как бывало подчас ранее, поддерживать обвинение? На стороне последнего и так весь правоохранительный механизм государства. К услугам прокурора многочисленные оперативные работники, эксперты, полицейские и т. д. А адвокат как перст один и всегда должен быть Чацким – в принципе, ноша далеко не для каждого.
У некоторых людей возникают сомнения в нравственности защиты. Особенно это относится к злостным убийствам, изнасилованию малолетних, государственной измене.
Начну с закона. В статье 48 Конституции РФ предусмотрено:
«1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственного задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения».
Мало нашему обществу хотя бы репрессий прошлого века? Сколько было потом реабилитировано невинно осужденных и даже лишенных жизни! А может быть, безнравственно и лечение врачами вплоть до спасения жизни взятого в плен или сдавшегося противника? Задумайтесь над ответами на поставленные и подобные вопросы, и тогда, смею надеяться, к вам придет осознание истинной роли адвоката для правосудия по уголовным делам.
Казалось бы, в идеале при отправлении правосудия все должно быть достаточно хорошо, но пружина к чистому усмотрению суда все-таки имеется. И, хотя механизм ее действия в законе прямо не прописан, к обвинительному уклону есть все предпосылки. А тогда при чем здесь правосудие?
Конечно, ранее приведенное – не причины судебного усмотрения. Тем самым оно необязательно должно происходить, но происходит. Почему? Судьи же независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону.
Да и практика проверки правосудности приговоров оставляет желать лучшего. Известно, что их отмена или изменение – дело весьма редкое. Самое же прискорбное то, что, давая поблажки судам первой инстанции, проверочные инстанции вольно или невольно способствуют росту числа и серьезности допускаемых нижестоящими судами нарушений. Психологическая подоплека достаточно очевидна. Если в ответ на справедливые указания адвоката о допущенных нарушениях апелляционная, кассационная или надзорная инстанция делает вывод, что таковых по делу не наблюдается, то суд первой инстанции вполне может не соблюдать закон и в следующий раз, резонно считая его пустой формальностью. А дальше – снежный ком, включающий все более и более существенные нарушения закона. Все это – процессуальный и материальный нигилизм. Народ же на него реагирует известно – закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло.
Конечно, едва ли не труднее всего в судебной деятельности дается решение вопроса о доказанности обвинения. В приватных беседах мне порой приходилось слышать от судей в ответ на соображение о недоказанности обвинения по рассматриваемому делу, что, хотя так оно, скорее всего, и есть, все явно происходило таким образом, как излагал обвинитель. Может быть, но что тем самым меняется?
Особенно тяжело обстоит дело с оценкой судами показаний подсудимых и свидетелей защиты. К ним повышенно критическое отношение. При этом чуть ли не вне критики показания потерпевших и свидетелей обвинения. Что, первые обычно лгут, а последние – говорят правду? А где такие же массовые обвинительные приговоры в отношении свидетелей защиты в связи с дачей ими заведомо ложных показаний, являющейся преступлением (статья 307 УК РФ), как и чрезмерно критическое к ним отношение?
В жизни редко бывает что-то лишь черным или белым. Чаще всего она черно-белая, полосатая, как зебра.
Потерпевший находится на стороне обвинения. Более того, у него может иметься материальный интерес, который нельзя сбрасывать со счетов при оценке его показаний. Порой потерпевший способен быть мнимым или имеющим личную неприязнь к обвиняемому и т. п.
Ошибаться может любой свидетель. Юристу, начиная с вузовской скамьи, должны быть известны психологические особенности восприятия, запоминания, сохранения и передачи информации человеком. По различным причинам не исключено ее искажение на любом из названных этапов. Нечто подобное происходит в ходе раньше любимой детьми игры в испорченный телефон.
Доверие к показаниям потерпевших и свидетелей обвинения судами часто обосновывается тем, что у них нет оснований для оговора подсудимых. На словах – это так. Вот только не забывается ли тем самым народная мудрость, согласно которой чужая душа – потемки? Разве не бывает, что вражду вызывает самый малозначительный повод, который гипертрофируется сознанием до непереносимости, а для другого человека совсем не заметен, заметный же подсудимому повод к его оговору суду нередко представляется незначительным?
Отсюда некритическое отношение к показаниям потерпевших и свидетелей обвинения чревато немалыми негативными последствиями. Причем они для отправления правосудия ничем не лучше чрезмерно критического отношения к показаниям подсудимых и свидетелей защиты.
Законодатель специально сформулировал правила оценки доказательств в сложных случаях и заключил их в оболочку презумпции невиновности, согласно которой:
«1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях» (статья 14 УПК РФ). И все это следует из статьи 49 Конституции РФ.
Правилами презумпции невиновности и нужно руководствоваться судам, а не пытаться быть святее государственного обвинителя. В остальных случаях при доказывании достаточно использовать здравый смысл, а вот его-то, создается впечатление, подчас у судей и не наблюдается.
Нет ли у судей профессиональной деформации правосознания? Предъявление человеку обвинения еще не означает его виновности. Забвение этой истины сильно бьет по престижу правосудия. Оно подчас называется «басманным». Сколько ломается из-за него судеб!
Не затуманивает ли судьям глаза значимость собственного статуса возможность отделить в каждом конкретном случае зерна от плевел? Сидящие на скамье подсудимых – тоже люди. Иногда ими бывают и сами судьи. И тогда они пытаются защититься теми же способами, что защищались ими осужденные. Парадокс в том, что это может ничего не дать, ибо судят судей так же, как судили они.
Обвинить довольно легко. Был бы человек, а статья найдется.
Защитить сложнее. Непросто доказать, что ты не верблюд.
Наиболее же трудно решить, кто прав – кто виноват. Суд не на осуд, а на рассуд.
Разумеется, судьи – не роботы, а люди. Шапка Мономаха судебного статуса довольно тяжела. Только взялся за гуж – не говори, что не дюж. В противном случае не суди других и сам не судим будешь.
Для устранения возможных ошибок судов первой инстанции, рассматривающих уголовные дела по существу, созданы суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, проверяющие правосудность приговоров. Предполагалось, что при помощи таких судов правосудие станет еще больше правосудным. А что на деле? Кажется, их главная забота – пресловутая стабильность приговора.
Приведу лишь одну иллюстрацию. Я узнал, что как-то при корпоративном праздновании судьями Нового года был произнесен тост «за устояемость приговоров». И он был воодушевленно принят звоном бокалов. Заметьте, речь идет не о правосудности приговора, а о том, чтобы он в проверочной инстанции остался в таком же виде, в каком был вынесен. А дальше – хоть трава не расти. Важна не судьба человека, а внешний лоск судебной деятельности. В ней же все в ажуре только в выступлениях с высоких трибун, а на самом деле ситуация не слишком благополучная.
Во всяком случае, часто складывается впечатление, что для проверяющих инстанций первоочередную роль играет подтверждение законности, обоснованности и справедливости вынесенного приговора едва ли не любой ценой. Если адвокат аргументирует несогласие с приговором, то апелляционная, кассационная и надзорная инстанции себя не слишком утверждают контраргументами. И получается, что приговоры, а также определения и постановления судов зачастую неубедительны. Результатом становятся все новые и новые жалобы, поток жалоб.
Правда, по общему правилу, чем выше судебная инстанция, тем меньше аргументов в ее решении, ибо дела, видимо, скрупулезно не изучаются, а ответы даются, исходя из предыдущих. В таком случае возникает крамольный вопрос: нужны ли проверяющие инстанции, если они перед собой, по существу, ставят задачу сохранения приговора в изначальном виде? Ведь это ведет к попранию положений части 3 статьи 50 Конституции РФ, предусматривающих, что каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом. На пересмотр, а не на формальную проверку!
При сложившемся положении просто необходимо и вполне по силам существенно удешевить правосудие. Для этого в соответствующем суде достаточно оставить два-три дорогостоящих проверяющих судьи, а им придать нижеоплачиваемых помощников, для которых разработать алгоритм подготовки решений для их судей. Судя по тому, как отвечают на жалобы нынешние проверочные инстанции, в него допустимо включить следующие указания: 1) на обжалуемый акт; 2) на его итоговое решение; 3) на содержание основных параметров жалобы; 5) на вывод о том, что обжалуемый акт законный, обоснованный и мотивированный; 6) на мотивирование вывода, включающее то, что а) совершение преступления установлено и доказано рассмотренными в суде доказательствами (показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами), которые согласуются друг с другом; б) нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение акта, не допущено; в) преступление квалифицировано в соответствии с установленными обстоятельствами и правильно, а также мотивировано судом; г) назначено справедливое наказание в пределах и порядке, предусмотренных уголовным законом, с учетом установленных характера и степени общественной опасности преступления и личности виновного, в том числе обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. На гонорар за разработку анонсируемого алгоритма я не претендую.
Не потому ли судейской работы становится все больше и больше и, как следствие, расширяются штаты, что во многом судьи ее сами себе и создают? Ведь объем работы и численность вышестоящих судов напрямую зависят от качества работы нижестоящих, особенно суда первой инстанции.
Напротив, сами судьи вышестоящих судов вслед за постановившими приговор нередко стараются выглядеть святее прокурора. Имеются в виду случаи, когда обвинители приносят представления на завышенную тяжесть обвинения, по которому осуждается подсудимый, или строгость назначенного наказания. Оставляя в таких ситуациях приговоры без изменения, что по закону вовсе не исключается, проверочные инстанции становятся большими обвинителями, чем сами прокуроры, которые удовлетворяются меньшей репрессией.
Приходится констатировать, что между народной мудростью «суд не на осуд, а на рассуд» и «басманным правосудием» пока дистанция огромного размера. Преодолеем ли мы ее когда-нибудь? Хотелось бы верить. Может быть, надо начать с того, что снять повязку с глаз богини правосудия. Пусть она видит, что делает и как ее дела сказываются на людских судьбах.
Вот до чего я договорился. Наверное, довлеет груз прожитых лет, дум и поступков. Между тем сказанное немаловажно для понимания истинной ситуации в современном правосудии.
Писать адвокатские заметки труднее, чем детективы. Ведь для последних важна интрига, а для этого от читателя обычно скрывается то, зная что он может догадаться, кто совершил преступление, и потерять интерес к сюжету. Разумеется, в таком случае необходимы и завлекательный сценарий совершения и раскрытия преступления, и мастерство рассказчика, и многое другое. При этом едва ли не вся детективная литература в своей основе заточена на убийства, коих, наверное, в книгах больше, чем в жизни, и убийства притом более изощренные. Что поделаешь, если такова специфика жанра?
Мало того, детектив обычно заканчивается своеобразным happy ending в виде раскрытия преступления и изобличения преступника. Как в детективе без того, чтобы:
- «…где-то близко вдруг шаги раздались,
- Вошел Анискин, детектив “Мистер Икс”.
- Порок наказан, торжествует добро,
- Волк крепко связан…» И это итог?
За детективом занавес, конечно, закрывается, но сразу открывается для антидетектива. Сцена предоставляется новому действующему лицу – адвокату.
Для сюжета адвокатских историй раскрытие преступлений не может быть характерно. Это не является задачей защиты, а адвокатское расследование по российскому законодательству не производится. Более того, защищать адвокату приходится не столько убийц, сколько, если так можно сказать, обыденных преступников.
Адвокат, разумеется, подчас скрывает и даже должен кое-что скрывать как от следствия, так и от суда. Это вынужденная мера, которая осуществляется в тактических целях, чтобы исключить возможность закрыть прорехи предварительного или судебного следствия и не оказать помощь прокурору в доказывании вины клиента. Однако такое допустимо не беспредельно, а лишь до окончания судебных прений. Потом, как правило, уже ничего не сделать в его пользу.
Чем же завлечь читателя, рассказывая адвокатские истории? Кажется, ничем, если он не понимает, что и следователь, и прокурор, и судья в своих решениях излагают вовсе не истину в последней инстанции, но только собственные версии случившегося. А если что-то является версией, то не исключена и другая версия, и, как следствие, допустима критика версий следователя, прокурора и суда. Причем, если возможна еще хотя бы одна версия случившегося, нельзя считать доказанной версию, даже установленную приговором (в том числе вступившим в законную силу). Вот где должна быть интрига адвокатского повествования!
Адвокатский сюжет по природе антидетективен, ибо защитник – критик детектива. Обыкновенно детектив заканчивается раскрытием преступления и установлением преступника. Адвокат же обычно выходит на сцену, когда возникает вопрос – а действительно ли преступление раскрыто и установлен именно преступник? Преступление ли то, что названо данным словом? И даже если детектив прав, разве это все?
Раскрытие преступления и установление преступника – не самоцель для правосудия. Возникает вопрос о наказании. Достаточно вспомнить повествующее о преступлении и наказании известное произведение Ф. М. Достоевского. И роль адвоката при назначении наказания не менее важна.
Наказание должно быть справедливым (статьи 6 и 60 УК РФ). При его назначении обвинитель представляет свое видение позиции государства, а защитник оценивает ее со стороны подсудимого. При этом отношение к справедливости в зависимости от позиции человека может разниться. Адвокат в соответствующем случае должен довести до суда несправедливость наказания, предлагаемого прокурором, и доказать справедливость своего видения справедливого наказания для подсудимого.
Завершая вступление в повествование, нужно отметить, что защитнику надлежит быть более грамотным (и не только юридически), чем следователь, прокурор и суд. И это не парадокс, а объективная потребность. Адвокат с ними во имя клиента, его прав и свобод не может не вести юридическую войну. Она же, как и любая другая война, способна быть выиграна, как правило, лишь той из воюющих сторон, которая превосходит другую в знаниях, умениях, мастерстве и т. д., и для клиента лучше, если данными качествами будет обладать его защитник, а не обвинитель.
А был ли мальчик?
Начну свои истории со времени, когда уже прекратил статус адвоката. Однако недавно пришлось немного тряхнуть стариной.
Несмотря ни на что, адвокатский период жизни от себя не отпускает. Время от времени ко мне обращаются за юридической поддержкой. Правда, страждущих я обычно направляю к действующим адвокатам, которых сам знаю и на которых могу надеяться, что они добросовестно возьмутся за дело. Вместе с тем нет правил без исключения…
Около года назад мне позвонил один хороший знакомый, которого я знаю с конца девяностых годов прошлого века. О том, с чем было связано наше знакомство, я, может быть, как-нибудь расскажу. Трудность связана с тем, что память не слишком надежна, а многие мои адвокатские материалы (в том числе по делу, о котором я намекнул) погибли при прорыве трубы горячего отопления над моим рабочим кабинетом (пришли в негодность и архивы, и компьютер).
В то же время я отвлекся. Итак, ко мне обратился с просьбой о помощи Семен Чистов. В отличие от старого случая содействие было нужно лично ему. Я пригласил его к себе домой. Он приехал.
Поскольку мы не виделись довольно давно, ибо живем хотя и в одной области, но на значительном отдалении друг от друга, в начале не обошлось без чаепития, тем более что Семен был любителем попить чайку, и воспоминаний о прошлом, а также разговора о том, чем занимается каждый в последнее время, как живут наши дети, кстати, юристы. И лишь потом мы перешли к цели нашей встречи. И вот что он мне поведал.
Семена привлекли к уголовной ответственности за то, что он совместно с Ворониным избил Саева и причинил вред его здоровью средней тяжести. По версии следствия, это было сделано группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, использованных в качестве оружия, из личных неприязненных отношений (да простит меня читатель, не сведущий в юридических материях, но таков язык уголовно-процессуальных документов, а из песни слов не выкинешь).
Между тем, по словам Семена, никакого сговора против Саева у них не было. Более того, хотя они Саева в день, когда был причинен вред его здоровью, видели, но только проехавшим недалеко от них на квадроцикле. Обстоятельства встречи рассказаны так.
В лесу была обнаружена шкура убитого лося. Руководитель охотничьего хозяйства сказал, что с этим нужно разобраться. Семен вместе с Ворониным, его супругой и ребенком отправились на место разделки животного на своих машинах. Поскольку они ничего не нашли, связались с руководителем. Тот отправил на помощь Саева, как раз и обнаружившего шкуру. Тот почему-то проехал мимо. Семен и Воронин потом искали Саева по следам, но не нашли.
На третий день Семену позвонили из полиции и сообщили, что от Саева поступило заявление об избиении его Чистовым и Ворониным. Особенно возмущало Семена избиение ими Саева до такой степени, что у того была сломана правая рука, но он, по его словам, все-таки сумел вскочить на квадроцикл и скрыться от избивавших, хотя там, где все якобы происходило, дороги в обычном понимании вовсе нет, а есть направление движения по лесу с ямами, кочками и другими препятствиями, по которым на квадроцикле, управляя и двумя руками, передвигаться довольно сложно, в чем Семен сам убедился во время поездки на машине.
Конечно, разбираться с перипетиями уголовного дела по словам неспециалиста затруднительно. Мало того, хотя я уже не был адвокатом, посчитал для себя возможным исходить из достоверности того, что сообщил о ситуации в лесу Семен. И пара соображений у меня появилась сразу.
У Семена был адвокат. Поэтому я посоветовал им заявить ходатайство об установлении механизма причинения вреда здоровью потерпевшего (от избиения ли был причинен вред здоровью или, например, при падении с того же квадроцикла) и о проведении следственного эксперимента для выяснения вопроса, мог ли Саев при указанных им обстоятельствах управлять квадроциклом.
Прошло несколько недель. Семен снова позвонил мне. Оказалось, что суд состоялся и признал его виновным в совершении преступления. Он снова нуждался в помощи. Я сказал, что мне необходим приговор.
Приговор я получил. Времени на апелляционное обжалование оставалось к тому моменту уже мало (кажется, дня два). Поэтому, изучив на скорую руку приговор, я выделил в нем две основные погрешности, по идее, неспособные не повлиять на отношение апелляционной инстанции к принятому судом первой инстанции решению, и предложил их изложить в жалобе. Одна из натяжек суда относилась к проведенному следственному эксперименту, а другая – к показаниям потерпевшего. Предложенный текст жалобы, подготовленной мной от лица Семена, воспроизвожу почти дословно (естественно, за исключением идентифицирующих данных):
«Суд включил в число доказательств моей вины протокол следственного эксперимента с участием потерпевшего Саева. При этом в приговоре указано, что проведение следственного эксперимента без воспроизведения обстановки не свидетельствует о том, что его протокол не имеет доказательственного значения, и не подтверждает показаний Саева в части того, что он может управлять квадроциклом с использованием одной руки.
Все как раз наоборот. Следственный эксперимент вовсе не подтвердил то, что Саев мог управлять квадроциклом лишь левой рукой в условиях лесного бездорожья и только что причиненных ему травм, в том числе перелома правой руки и черепно-мозговой.
Во-первых, между установленным судом событием и следственным экспериментом прошло около 8 месяцев, и Саев после причиненных ему травм был в болезненном состоянии. Во-вторых, эксперимент проводился совсем в других условиях, нежели те, в которых якобы происходили события, описанные в приговоре.
Причем в приговоре отражены показания Саева о том, что он “рулил то одной рукой, то двумя руками”. Судя по установленному судом времени окончания преступления (17:00), Саев добирался до места оказания помощи около 30 минут, ибо, по показаниям свидетеля Рыгина, он появился в здании пожарной части, в котором тот находился, около 17:30. При этом у Саева “лицо было в крови, правая рука висела, он стонал от боли”. В таком случае он явно не мог ехать на квадроцикле в течение получаса по бездорожью, а тем более управлять квадроциклом и правой рукой.
И еще один настораживающий момент. В приговоре воспроизведены слова Саева о том, что, где находился Жилов (свидетель, наблюдавший происшествие), “он знал, потому, когда выехал на грунтовую дорогу”, которая ведет к селу, “он все-таки набрался сил, позвонил… и сказал: “…Ты где? Меня тут убивали. Ты где?” Он говорит: “Я здесь, я еду”. И он ему уже попался навстречу на автомобиле”. Саев “не понимал, откуда” Жилов “едет, что произошло”.
Возникает несколько серьезных недоумений. С одной стороны, если согласно приговору Жилов был свидетелем произошедшего, то он все сам видел и ему об этом сообщать не было необходимости. С другой стороны, куда Жилов пропал после встречи с Саевым, ибо, по показаниям Рыгина, тот появился в здании пожарной части один. С третьей стороны, если Саев был в том состоянии, которое описал Рыгин, почему встретившийся с потерпевшим Жилов, приехавший на машине, не оказал ему помощь или хотя бы не помог добраться до места, где ее могут оказать. С четвертой стороны, с чего вдруг после встречи с Жиловым Саев стал не понимать, не только откуда едет, но и “что произошло”. Возникает серьезное подозрение, что именно после встречи с Жиловым произошло нечто, повлиявшее на состояние Саева и зафиксированное Рыгиным, а до этого Саев спокойно ехал на квадроцикле. Это означает, что я совершенно не причастен к травмам, причиненным Саеву».
То, что изложенное в жалобе не насторожило, хотя с точки зрения здравого смысла должно бы насторожить апелляционную инстанцию, совсем не удивительно. Суды очень часто почти безоговорочно поддерживают версии следователя или прокурора, что указывает на пресловутый обвинительный уклон, бытующий в судах. Он, как в капле воды, получил преломление в деле Семена Чистова.
В приговоре отражено, что преступление совершено при следующих обстоятельствах:
«В период времени с 07.10.2021 по 11.10.2021 Воронин и Чистов, находясь в неустановленном месте (от таких неопределенных данных практически невозможно защищаться), вступили между собой в предварительный сговор на нападение и причинение Саеву не менее чем средней тяжести вреда здоровью из личных неприязненных к нему отношений.
С этой целью в период времени с 07.10.2021 по 11.10.2021 (к слову, так имело смысл указывать, лишь если предшествующий и данный периоды характеризовало разное время) Воронин и Чистов, действуя совместно и согласованно, выбрали безлюдное место, где намеревались совершить задуманное ими преступление (вообще-то, выбирать можно только при наличии вариантов, а в данном случае все предопределялось местом обнаружения шкуры лося, которое они, по материалам дела, точно не знали).
Далее 11.10.2021 в период времени с 11 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. Воронин и Чистов, продолжая реализовать совместный преступный умысел на нападение и причинение Саеву не менее чем средней тяжести вреда здоровью, прибыли на выбранный участок местности, где приискали предметы, которые намеревались использовать в качестве оружия, а именно: две деревянные палки, а также, действуя совместно и под надуманным предлогом, пригласили на данное место Саева.
Затем 11.10.2021 в период времени с 11 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. Саев, введенный в заблуждение Ворониным и Чистовым относительно происходящих событий и их реальных намерений, прибыл на указанный участок местности.
После этого 11.10.2021 в период времени с 11 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. (понятно, что все три события одновременно происходить не могли) Воронин и Чистов, продолжая реализовать совместный преступный умысел на нападение и причинение Саеву не менее чем средней тяжести вреда здоровью, действуя совместно, одномоментно (в течение 6 часов?) и согласованно, поддерживая друг друга, напали на Саева и умышленно, из личных неприязненных к нему отношений, совместно нанесли (действуя совместно, совместно нанесли – что-то новое в стилистике русского языка) не менее одиннадцати ударов руками, ногами, обутыми в твердую обувь, а также двумя деревянными палками, используемыми в качестве оружия, в область головы, туловища и конечностей потерпевшего Саева.
В результате совместных преступных умышленных действий Воронина и Чистова потерпевшему Саеву была причинена физическая боль, а также телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести, легкий вред и не повлекшие расстройства здоровья (вреда здоровью) или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности».
Семен вину в изложенном преступлении никогда не признавал, но в приговоре сказано, что она доказана исследованными в суде доказательствами, а именно: показаниями потерпевшего, свидетелей, а также письменными материалами дела. При этом, судя по приговору, все далеко не так радужно.
Из приговора нетрудно заметить, что обвинение Чистова во многом основано на показаниях потерпевшего, а также свидетеля Жилова, которые якобы присутствовали на месте происшествия. Суд данным ими показаниям в судебном заседании и в ходе предварительного следствия доверяет, поскольку они, по мнению суда, объективны, согласуются между собой, подтверждаются письменными материалами дела, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела.
Последнее интересно. Оказывается, не факты должны устанавливаться на основе, в частности, показаний, а показания должны соответствовать каким-то образом установленным фактам.
Более того, в приговоре отмечено, что суд, доверяя показаниям указанных лиц как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, учитывает, что Жилов и Рыгин в судебном заседании дали более подробные показания, они были последовательные и логичные как на предварительном следствии, так и в суде. Насколько надежными доказательствами являются показания потерпевшего Саева, уже упоминалось. Однако приведено было далеко не все.
По безупречным, с точки зрения суда, показаниям потерпевшего, данным на предварительном следствии и оглашенным в суде:
– в свободном изложении Саев сообщил, что около 15 часов проследовал к Воронину и обнаружил его не более чем через час;
– в ответ на вопросы следователя Саев показал, что событие, о котором он желает сообщить, произошло около 15 часов;
– в свободном изложении Саев сообщил, что выкрикнул, что он здесь не один и сейчас приедет Уров;
– в ответ на вопросы следователя Саев показал, что крикнул, что он здесь не один и здесь рядом находятся Уров и Жилов.
Ясно, что в том и другом случае ситуация описывается существенно по-разному, но это никого не интересует и не интерпретируется в приговоре, и, более того, суд, по существу, соглашается и с тем и с другим. При этом первое влияет на время совершения вмененного преступления, а последнее – на то, находился ли Жилов рядом с местом происшествия (с Уровым проблемы нет, ибо из обстоятельств дела ясно, что его на месте происшествия точно не было).
И на предварительном следствии, и в суде Саев утверждал, что ему угрожали убийством и хотели убить. Таким утверждениям ни следствие, ни суд не поверили. Получается, что сложилась ситуация, похожая на отраженную в комедии «Джентльмены удачи». Действительно, чем особо отличаются слова героя киноленты «здесь помню, здесь не помню» с указанием на определенные части головы от судебной версии «здесь верю, здесь не верю»?
