Граф Лев Толстой. Как шутил, кого любил, чем восхищался и что осуждал
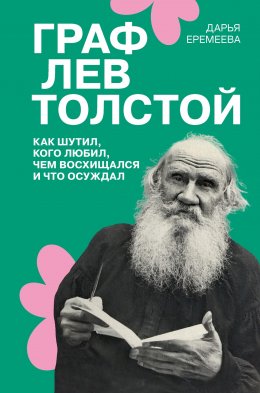
Издательство благодарит Государственный музей Л. Н. Толстого за предоставленные из архива фотографии и фотокопии рукописей писателя.
В оформлении книги использованы изображения личных вещей писателя и его семьи из коллекции Государственного музея Л. Н. Толстого.
© Еремеева Д. Н., состав, текст. 2017
© Еремеева Д. Н., состав, текст. 2024, с изменениями
© Государственный музей Л. Н. Толстого, фотографии. 2024
© Оформление. ООО «Бослен», 2024
Предисловие
Это был первый день моей работы в музее Л. Н. Толстого, а точнее – декабрьское утро 2009 года. Я вошла в усыпанный снегом дворик особняка на Пречистенке и повернула было во флигель, как вдруг меня окликнула женщина в длинной юбке и с мешочком в руках. Быстрым шагом она направилась ко мне и, глядя прямо в глаза, спросила: «Вам Толстой не нужен?» Вопрос звучал забавно для того, кто только что пришел работать в музей Толстого. Женщина между тем вынула из мешочка небольшой бюстик Льва Николаевича: «Ручная работа, авторская, я художник. Один остался! Берите, я тут редко бываю…» Я взяла его в руки – оказался увесистым. Женщина торопливо смахивала снежинки с бюстика, не отводя от него глаз. Она любовалась своей работой, а я представляла себе картину: в музей входит новая сотрудница с бюстиком Толстого в руках, ставит его перед собой и со словами «а вот и мы» погружается в работу.
С тех пор прошло несколько лет, и я все же решилась произнести это «а вот и мы» и, подобно той художнице, предъявить миру своего собственного Льва Толстого, слепленного из всего, что узнала о нем: из документов, мемуаров, бесконечных споров и разговоров с коллегами и собственных размышлений об этом странном и великом человеке. Но зачем нужна еще одна книга о писателе, о котором их написано сотни? Однажды я натолкнулась на поразившую меня фразу критика и философа П. П. Перцова: «У Толстого ни в чем нет улыбки – ни в жизни, ни в творчестве. Мир его – весь бессолнечный. Ср. с Пушкиным, который всегда озарен солнцем и всегда улыбается». Моя книга – это попытка возразить Перцову и тем, кто создал себе устойчивый, статичный образ хмурого бородатого и «бессолнечного» старика-моралиста. Я начала эту работу как статью о юморе и иронии Толстого, но скоро поняла, что они неотделимы от мироощущения и моральной проповеди Толстого, который редко шутил «просто так», а уж иронизировал – тем более. То, что порой длинно и дотошно растолковывал в статьях и трактатах Толстой-философ, Толстой-художник иной раз объяснял одним ироническим замечанием в романе. А какой-нибудь неожиданный поступок Толстого подчас больше говорит о его личности, чем целая статья с разбором его учения.
За годы работы в музее я встречалась с самыми различными мнениями о Толстом и поняла, что в целом они делятся на несколько устойчивых категорий (уподоблюсь Льву Николаевичу, любившему делить все и вся на типы и категории). Одним хочется, чтобы гений был прозрачен как стекло, безупречен и определен, что он должен быть сверхчеловеком – иначе как же ему доверять? Эти люди творят из писателя кумира, пророка, считают его своей путеводной звездой, а весь остальной мир – враждебным возвещаемой им «Истине». Есть другой тип интересующихся – они желают обнаружить в великом человеке как можно больше недостатков и слабостей и известным «он мал и мерзок, как мы» потешить свое самолюбие. Им кажется, что если Толстой не ел в старости мяса, но при этом носил шубу из енота и шил сапоги из кожи; если он не хотел жить в роскоши, а ушел из дома только под старость лет (ведь мог бы и раньше!); если он принялся критиковать супружество, а сам в 60 лет родил сына, – то вся его жизнь исполнена противоречий и лицемерия («тоже мне борец с лицемерием!»), и считают своим долгом уличать его на каждом шагу. Можно понять и православных верующих, обиженных на антицерковную проповедь позднего Толстого, равно как и государственников, считающих, что он расшатывал и без того непрочное устройство России конца XIX века и хотя никогда не призывал к насилию и революции, но сочувствовал сектантам, анархистам, призывал не жить по правилам государства, а пассивно противостоять ему. Есть среди читателей Толстого эстеты, любящие его лишь как художника и считающие позднейшие толстовские идеи чуть ли не курьезом; есть и те, кто – ровно наоборот – интересуется Толстым как мыслителем и искателем правды, бесконечно цитируют его поздние записи в дневниках, а художественные тексты его помнят смутно. Все эти точки зрения были и будут, а между тем Толстой остается загадкой. Почему отпал от церкви человек, который о Боге думал и писал постоянно, с первых же страниц юношеского дневника? Почему в конце жизни начал отрицать чистое искусство тот, кто в молодости вместе с кружком журнала «Современник» мечтал изменить мир поэзией и красотой?
Почему бывший артиллерист, написавший великую книгу «Война и мир», стал призывать к отказу от службы в армии? По каким причинам когда-то заядлый охотник стал вегетарианцем? Почему человек, годами приумножавший свое состояние, скупавший земли, торговавшийся с издателями о гонорарах, стал отрицать собственность, отказался от авторских прав на свои произведения? На все эти вопросы ответить подробно в такой небольшой книге невозможно, но и обойти их не удастся. Путей изучения классика, жизнь которого подробно задокументирована, много: есть путь философа, биографа, филолога, психолога, есть скользкий путь разоблачителя. Я же попытаюсь немного приблизиться к сокровенному Толстому через внешнего Толстого – который смеется, дурачится, высмеивает, совершает нелепые поступки, говорит странные вещи, противоречит самому себе, едко иронизирует над людскими пороками.
Смею надеяться, что книга также даст ответы на некоторые вопросы, часто задаваемые посетителями музея экскурсоводам, а именно: какой он был семьянин? как он воспитывал своих детей? правда ли, что он был очень сильный физически? любил ли он животных? почему он перестал ходить в церковь, начал критиковать искусство и прогресс? И наконец: было ли у него чувство юмора?
Хочу выразить благодарность моим коллегам из Государственного музея Л. Н. Толстого – всей нашей профессиональной семье, без которой я бы никогда не решилась на это рискованное и ответственное дело – писать о Льве Толстом. Спасибо генеральному директору нашего музея С. А. Архангелову и ведущему научному сотруднику музея Н. А. Калининой за моральную поддержку. Отдельно хочу поблагодарить заместителя директора по науке Л. В. Гладкову и заведующего экскурсионно-методической службой Ю. В. Прокопчука, которые взяли на себя труд прочесть рукопись этой книги и высказали свои замечания. Спасибо другу музея Кириллу Гнатюку, который, работая над другой толстоведческой темой, нашел для меня несколько интересных цитат. Отдельное спасибо заместителю директора по учету и хранению Н. М. Петровой и заведующей сектором электронного учета фондов С. Ю. Тарасовой за предоставленные изображения из фонда музея.
Все цитаты произведений и ранних редакций произведений, дневников, писем, записных книжек Льва Толстого даются по полному «Юбилейному» собранию сочинений в 90 томах с обязательным упоминанием названия произведения в тексте.
Все мемуары, письма, статьи и другие источники даются с обязательным упоминанием источника и его автора.
В конце книги дается полная библиография всех процитированных источников.
Л. Н. Толстой на коньках в саду московского дома.
1898 г. Хамовники. Фотография С. А. Толстой.
Рядом с Толстым дети артельщика М. Н. Румянцева – Илья и Николай
В прошлой жизни вы, вероятно, были лошадью
Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого.
Л. Толстой. Анна Каренина
Литературные опыты ребенка Лёвочки начинались с описания птиц в рукописном журнале «Детские забавы» – братья Толстые придумали его и составляли сами. «Сокол есть очень полезная птица она ловит газелей. Газель есть животное, которое бегает очень скоро, что собаки не могут его поймать, то сокол спускается и убивает». Пресловутые «описания живой природы», которые нашим детям кажутся скучной повинностью в школе, для современников Лёвочки были любимым развлечением и обучением: мальчики Толстые снабжали свои тексты рисунками и выпускали в виде рукописных журналов тиражом в один экземпляр. Уже в детстве Толстой отличался способностью пристально вглядываться в мир и запоминать все его «мелочи». Он наблюдал муравьев и бабочек, об одной из которых написал, что «солнышко ее пригрело, или она брала сок из этой травки, только видно было, что ей очень хорошо»; любил смотреть, как «молодые борзые разрезвились по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, летали кругом с загнутыми на бок хвостами». Всю свою жизнь Толстой обожал лошадей, любил даже их запах: «Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут потом так, как никогда уже после не пахли лошади».
Обложка рукописного журнала братьев
Толстых «Детские забавы». 1835
У молодого Толстого был «проект заселения России лесами», о чем писал П. В. Анненков Тургеневу и получил от него такой ответ: «Удивили вы меня известием о лесных затеях Толстого! Вот человек! С отличными ногами непременно хочет ходить на голове. Он недавно писал Боткину письмо, в котором говорит: “Я очень рад, что не послушался Тургенева, не сделался только литератором”. В ответ на это я у него спрашивал – что же он такое: офицер, помещик и т. д. Оказывается, что он лесовод. Боюсь я только, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту». Толстой тогда и впрямь вернулся в литературу, но от «экологических» идей не отказался, и позже они стали важной частью его учения. Кстати, идея посадки лесов не оставляла литераторов и позднее, когда лес вырубался уже катастрофическими темпами. Продолжение этой темы мы наблюдаем, например, и у Чехова в «Дяде Ване», где доктор Астров «воплощал» идею молодого Толстого – сажал леса.
Многие отмечали, что в лице и во всей фигуре Толстого чувствовалась (как ни банально это звучит) та самая «близость к природе». Толстовец Евгений Иванович Попов, например, утверждал, что писатель «обладал очень тонким обонянием».
«Один раз, вернувшись с прогулки, он рассказал, что, проходя мимо орехового куста, он почувствовал, что пахнет земляникой.
– Я стал, как собака, принюхиваться, где сильнее пахнет, и нашел-таки ягоду, – сказал он…»
Толстой, как легко догадаться, любил собак и не только описывал их в романах (вспомним чудесную охотничью Ласку в «Анне Карениной»), но и пытался дрессировать их. Попов вспоминал: «В московском доме у Толстых был черный пудель, который часто приходил к Льву Николаевичу в кабинет, а потом сам выходил в дверь и оставлял ее открытой, чем прерывал занятия Льва Николаевича. Лев Николаевич так приучил его, что пудель стал сам затворять за собою дверь». Одной из любимых охотничьих собак Толстого была сеттер Дора, с которой он охотился на вальдшнепов. Однажды она ощенилась прямо на платье свояченицы Толстого Татьяны Берс, когда та, спеша на охоту и переодеваясь в амазонку, бросила платье на диване. Любимицей была и черно-пегая борзая Милка, попавшая в повесть «Детство». Николенька Иртеньев прощается с ней перед отъездом в Москву: «У дверей на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца – Милка. ”Милочка, – говорил я, лаская ее и целуя в морду, – мы нынче едем, прощай!“»
Тот же Е. И. Попов приводит примечательный разговор с Толстым во время их путешествия пешком из московского дома в Хамовниках в Ясную Поляну. «Когда мы шли по шоссе (шоссе несколько раз пересекает железную дорогу) и спускались под гору, Лев Николаевич, указывая на лежавшую внизу деревню, сказал:
– Когда мы шли здесь с Колечкой и Дунаевым, вон из того двора выбежала визжа свинья, вся окровавленная. Ее резали, но не дорезали, и она вырвалась. Страшно было смотреть на нее, вероятно, больше всего потому, что ее голое розовое тело было очень похоже на человеческое.
В другом месте, когда спускались уже вечерние сумерки, на нас вылетел вальдшнеп. Он летел прямо на нас, но, увидавши нас, испугался и круто свернул и скрылся в лесу. Лев Николаевич сказал мне:
– А ведь по-настоящему ему бы надо подлететь к нам и сесть на плечо. Да так и будет».
Л. Н. Толстой на прогулке.
Фотография В. Г. Черткова. 1908. Ясная Поляна
Эти мечтания могут звучать странно в устах человека, который большую часть жизни был заядлым охотником. Кто читал сцены охоты в «Войне и мире» и «Анне Карениной», понимает, что так живо и естественно описать ее мог только тот, кто сам умел идти по следу зайца, стрелять вальдшнепов, травить волков и даже добивать раненых птиц самым что ни на есть охотничьим способом – воткнув им в глаз перо. Толстой таким и был большую часть своей жизни. Вообще, побывавшему на войне охота кажется детской забавой.
В 1865 году, в период работы над «Войной и миром» Толстой излагает в дневнике одно из важнейших своих наблюдений, которое во многом объясняет его мировоззрение. Приведем его: «17 марта. <…> Вчера увидел в снегу на непродавленном следе человека продавленный след собаки. Зачем у ней точка опоры мала? Чтоб она съела зайцев не всех, а ровно сколько нужно. Это премудрость Бога; но это не премудрость, не ум. Это инстинкт божества. Этот инстинкт есть в нас. А ум наш есть способность отклоняться от инстинкта и соображать эти отклонения. С страшной ясностью, силой и наслаждением пришли мне эти мысли». Вспомним знаменитую позднейшую проповедь «опрощения». Брать у природы ровно столько, сколько нужно для поддержания жизни. А любая роскошь – это ненужное, лишнее, противоречащее «инстинкту божества».
После «духовного перелома» Толстой не только перестал охотиться, но сделался вегетарианцем, дойдя в своей жалости ко всему живому до того, что порой, заметив в кабинете мышку в мышеловке, отрывался от работы, спускался со второго этажа, выходил в сад и выпускал ее на волю. В тот период случился забавный случай. Однажды на веранде Толстой убил комара, а Чертков попенял ему за противление злу силой. «Не живите так подробно», – ответил Толстой.
Толстой любил показывать внукам шрам от зубов медведицы у себя на лбу и рассказывать о случае на охоте, когда медведица едва не загрызла его. Эту историю он превратил в рассказ. Внукам же неизменно внушал, что «все живое хочет жить».
Софья Андреевна не разделяла увлечения Толстого вегетарианством. Из письма сестре Татьяне после очередной ссоры с мужем: «Все эти нервные взрывы и мрачность и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. Авось, он там образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и проч. он замучил себя до худобы и до нервного состояния». Во время тяжелой болезни Льва Николаевича в 1901 году в Крыму жена его даже шла на хитрость и подливала больному мужу мясной бульон в его вегетарианский суп. Как дочь врача, она была убеждена в пользе животного белка, и ее особенно расстраивало увлечение вегетарианством и без того слабой здоровьем дочери Маши, впоследствии умершей от воспаления легких в возрасте 35 лет.
Одно время Толстой жил в Ясной с несколькими родственниками и друзьями, которые согласились перейти с ним на диету без мяса. Связанный с этим забавный случай описала его младшая дочь Александра со слов ее тетки: «Т. А. Кузминская рассказывала, как один раз она ездила в Ясную Поляну проведать “отшельников”, как она говорила. Тетенька любила покушать и когда ей давали только вегетарьянскую пищу, она возмущалась и говорила, что не может есть всякую гадость, и требовала мяса, кур. В следующий раз, когда тетенька пришла обедать, к удивлению своему, она увидела, что за ножку стула была привязана курица и рядом лежал большой нож.
– Что это? – спросила тетенька.
– Ты хотела курицу, – отвечал Толстой, едва сдерживая смех, – у нас резать курицу никто не хочет. Вот мы тебе все и приготовили, чтобы ты сама могла это сделать».
И раз уж речь зашла о курах, уже упомянутый толстовец Е. И. Попов вспоминал: «В Ясной Поляне был молодой, очень азартный петух. Мальчики забавлялись тем, что кричали петухом, и тогда этот петух, где бы он ни был, сейчас же являлся с намерением подраться, но, не встречая соперника, мало-помалу стал нападать на проходивших людей, даже и без вызова. Кончилось тем, что у некоторых ничего не знавших посетителей оказались спины пальто распоротыми шпорами этого азартного петуха. Это возмутило Софью Андреевну, и она как-то за обедом сказала, что этого петуха надо зарезать. Лев Николаевич заметил:
– Но мы ведь теперь знаем характер этого петуха. Он для нас уже личность, а не провизия. Как же его резать?
Повар Семен петуха все-таки зарезал».
«Куриная» тема получит интересный поворот в судьбе младшей дочери Толстого, Саши, которая через много лет, будучи уже взрослой женщиной, окажется в эмиграции в США, где на какое-то время станет фермером и будет зарабатывать на жизнь разведением кур. С яснополянского детства она обожала животных. Вот как она об этом вспоминает: «Я очень любила животных. У меня был большой черный пудель Маркиз с человеческим разумом и серый попугай с розовым хвостом и человеческим разговором. Обоих я обожала. <…> Все любили моего пуделя Маркиза, даже моя мать, вообще не любившая собак. Одна из любимых моих игр с Маркизом – это игра в прятки. Я прятала футляр от очков на шкапы, в диван, в карман отца. Пудель бегал по комнате, нюхая воздух, вскакивая на столы, стулья и, к всеобщему восторгу, залезал отцу в карман и бережно вытаскивал оттуда футляр… Вероятно, толстовцы презирали меня, сожалели, что у Толстого такая легкомысленная дочь. А отец любил Маркиза и поражался его уму. Но откуда же у меня была эта любовь к спорту, к лошадям, к собакам, жизнерадостность, даже задор? Усматривали ли “темные” эти черты в своем учителе? Чувствовали ли они всю силу его любви и понимания жизни во всей ее безграничной широте? Отец прощал мне мою молодость. Он сам радовался уму, горячности, чуткости своего верного коня Дэлира. Бережно нес Дэлир своего хозяина зимой, ступая верной ногой по снежной или скользкой дороге, летом – осторожно ступая по вязким болотам, через лесные заросли. Отец любил сокращать дороги и пускал коня целиной, по снегу, и когда Дэлир утопал в сугробах по брюхо, отец слезал, закидывал уздечку за стремена и пускал лошадь вперед протаптывать путь, и Дэлир, выбравшись на дорогу, останавливался и, повернув свою породистую арабскую голову, кося умным, выпуклым глазом, ожидал своего хозяина».
В 1908 году последователь Толстого В. Г. Чертков сфотографировал писателя на Дэлире в высокой траве. Эту фотографию вместе с той, где писатель снят верхом на утопающей в снегу лошади, Толстой подарил Черткову для его сына, который жил за границей и не знал, какая в России природа. Толстой любил природу, когда она «со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но, когда я нахожусь в ней».
Л. Н. Толстой верхом во дворе московского дома.
Фотография С. А. Толстой. 1898. Москва. Хамовники
Лошади были, наверное, главной страстью Толстого в «мире животных». Вспомним хотя бы Фру-Фру на скачках, где ее гибель описана, кажется, с не меньшим чувством, чем гибель Анны Карениной: «Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого. Вронскому по крайней мере показалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал. Как только Вронский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый глаз так, что белок налился кровью, с противоположной стороны глядела на вошедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу. <…> Оставалась одна последняя канавка в два аршина с водой, Вронский и не смотрел на нее, а желая прийти далеко первым, стал работать поводьями кругообразно, в такт скока поднимая и опуская голову лошади. Он чувствовал, что лошадь шла из последнего запаса; не только шея и плечи ее были мокры, но на загривке, на голове, на острых ушах каплями выступал пот, и она дышала резко и коротко. Но он знал, что запаса этого с лишком достанет на остающиеся двести сажен. Только потому, что он чувствовал себя ближе к земле, и по особенной мягкости движенья Вронский знал, как много прибавила быстроты его лошадь. Канавку она перелетела, как бы не замечая. Она перелетела ее, как птица; но в это самое время Вронский, к ужасу своему, почувствовал, что, не поспев за движением лошади, он, сам не понимая как, сделал скверное, непростительное движение, опустившись на седло. Вдруг положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное».
Однажды Иван Тургенев после разговора с Толстым о лошадях так прямо и сказал ему: «В прошлой жизни вы, вероятно, были лошадью». История, рассказанная Толстым Тургеневу, позднее воплотилась в его знаменитую повесть «Холстомер», где Толстой, окруженный в доме молодыми детьми и их друзьями, описал старого, больного, усталого мерина, окруженного молодыми, беззаботными, эгоистичными жеребцами и кобылками. Софья Стахович вспоминала, что, когда писался «Холстомер», молодежь, приходящая в дом к детям Толстым, звалась «табунком». Читая некоторые фрагменты «Холстомера», невозможно не развить эту параллель: «Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?
Л. Н. Толстой верхом на лошади.
Фотография И. Л. Толстого. 1903. Ясная Поляна
Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.. Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряженья дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбленья, грусти и негодованья, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни».
Интересно, что Толстой, который никогда за своих детей не писал гимназических сочинений, однажды сделал исключение для сына Льва – просто не смог удержаться от высказывания на любимую тему: «Один раз только он помог мне написать русское сочинение на тему “Лошадь”. Я был в затруднении и решительно не знал тогда, что сказать про лошадь больше того, что она лошадь. Но отец выручил меня, написав за меня полстраницы моего русского сочинения. Он писал, приблизительно, так: “А как прекрасна она, когда, дожидаясь хозяина, нетерпеливо бьет копытом о землю и, повернув крутую шею, косится черным глазом назад и ржет звонким, дрожащим голосом”. Конечно, отец написал несравнимо лучше этого, и мой учитель Л. И. Поливанов сейчас же узнал слог отца и поставил мне за это сочинение 4».
Л. Н. Толстой на прогулке. Фотография В. Г. Черткова. 1908. Ясная Поляна
Реалист Толстой вообще мыслил символами. В его книгах – лошадь всегда символ всего живого и природного, она часто прямо противопоставляется поезду, который символизирует механическое, неживое начало. Во времена Толстого поезд был знаком начала технического прогресса, новой «железной», ускоренной жизни, уже в конце девятнадцатого века теснившей жизнь патриархальную, усадебную, – ту жизнь, певцом которой и был Лев Толстой.
Поезд как зловещий знак памятнее всего по «Анне Карениной», но то же видим и в других произведениях. «Девочка и грибы» – это короткая история о том, как девочка рассыпала грибы на рельсах и, не успев собрать их, легла вдоль рельсов, и поезд проехал, не задев ее. Сочувствуя детям в их страхе перед поездами, Толстой попытался как-то облегчить этот ужас, и с его героиней ничего страшного не происходит. Он как будто и сам боялся поездов, тем более что и поводы к этому имелись. В дневнике его племянницы Вари есть рассказ о том, как Лев Толстой с ней и братом Софьи Андреевны Сашей ездил 15 октября 1871 года на охоту с борзыми. Софья Андреевна переписала его из дневника Вари в свою книгу «Моя жизнь»: «Перед нами только что прошел поезд, и мы съехали на полотно, чтобы вдоль рельсов доехать до будки, которая была в виду, и там переехать рельсы. Нам встретились работники на дороге и закричали: “Тут ездить не полагается, сейчас поезд пройдет, лошадей испугает”. Мы не обратили на них внимания. Но вот в самом деле показался дым нам навстречу и раздался пронзительный сигнальный свисток локомотива. Что было делать? До будки еще оставалось далеко, налево от нас – отвесная стена насыпи, направо – рельсы. Поезд должен был пролететь на расстоянии какого-нибудь аршина от нас. Дело было серьезное, мы начали скакать вдоль полотна, надеясь попасть на переезд раньше поезда; но наконец стало ясно, что поезд настигнет нас раньше, чем мы будку. Лёвочка скакал впереди, остановился и крикнул: “Слезайте с лошадей”. Я перекинула ногу с луки и вдруг почувствовала, что левая нога у меня запуталась в стремя и в амазонку. “Что ты делаешь? Ради Бога, скорей!” – крикнул мне Лёва и подбежал ко мне. Увидав, в чем дело, он схватил меня в охапку, стащил с седла и сильным движением высвободил ногу. Поезд был страшно близко и не переставал, как нарочно, пронзительно свистать. Лошади вздрагивали и навостряли уши. Как только мы очутились на земле, мы вскарабкались на насыпь кое-как на четвереньках и едва успели втащить за собой лошадей, как поезд с оглушительным свистом и стуком пронесся за нами. Лошади захрипели и шарахнулись в сторону, а мы были спасены. Все это долго писать. А сделалось это в одно мгновение…»
В «Первой русской книге для чтения» есть миниатюра «От скорости сила. Быль». В этой истории поезд сбивает застрявшую на рельсах телегу с лошадью. На первый взгляд эта «быль» всего лишь объясняет, отчего поезд не может затормозить на полном ходу, и предупреждает быть осторожнее, когда перевозишь через рельсы телегу. Но при чтении нельзя не почувствовать, сколь беспомощен человек с лошадью перед этой новой механической «скоростью».
Лев Толстой называл нас всех «пассажирами поезда жизни», то входящими в него, то выходящими, но сам предпочитал ездить верхом, любил править лошадью. Современники замечали, что в глубокой старости, взбираясь на лошадь, он распрямлял спину, становился как будто стройнее и моложе.
В 1910 году, осенью, уезжая из дома, Лев Толстой простудился в поезде. Сопровождавший его врач Маковицкий вспоминал, как они часть пути ехали на открытой площадке, потому что в вагонах было слишком душно и накурено. Он сошел с поезда и посетил Оптину пустынь и Шамординский монастырь. Там он обмолвился сестре, что хотел бы остаться жить около монастыря, жить аскетом, как монах, вдали от цивилизации, только чтобы его не заставляли ходить в храм. Еще перед отъездом он признался доктору Д. П. Маковицкому: «Хочется уединения, удалиться от суеты мирской, как буддийские монахи делают. Вам одному говорю». Льву Николаевичу хотелось сойти с утомительного поезда своей судьбы, хотелось остановки, покоя и соединения с природой и Богом. Но остаться, чтобы вести тихую жизнь отшельника, он не смог – люди искали его, чего-то ждали от него. «На свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва» – это были предсмертные, предпоследние слова Толстого, обращенные к тем, кто был рядом с ним, и записанные дочерью Александрой Львовной. А самыми последними словами были: «Истина… я люблю много… как они». Умирая на железнодорожной станции, он слышал гудки и шум поездов – голоса надвигающихся «железных» перемен. А живой мир лошадей, собак, задиристых петухов, бабочек, пеших прогулок, постоялых дворов, конок, колясок, крестьянской и барской жизни, – мир, в котором можно было найти силы для огромного романа-эпопеи, – этот мир умер вместе с Толстым на маленькой станции Астапово.
Храбрый тот, кто ведет себя как следует
Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!
Л. Толстой
В чем только не обвиняли Толстого критики, современники, журналисты – но ни один зоил не осмелился упрекнуть его в трусости, малодушии, чрезмерной осторожности. И в жизни, и в писаниях своих Толстой не боялся говорить, что думает, поступать, как велит совесть, а иной раз, словно из какой-то юношеской неуступчивости, говорил и поступал всем наперекор. Кроме того ему было в высшей степени свойственно то, что называли в то время «молодечеством».
На молодого Толстого часто «находил стих», и он мог, например, приехав со своим приятелем прокурором А. С. Оголиным в гости к мужу своей тетки Пелагеи Ильиничны Владимиру Ивановичу Юшкову и доложив о приезде, тут же поспорить, кто первый залезет на березу. «Когда Владимир Иванович вышел и увидал прокурора, лезущего на дерево, он долго не мог опомниться», – вспоминал об этом сам Толстой впоследствии. Этому же приятелю Оголину Толстой однажды написал забавное шуточное послание, где упомянул Зинаиду Молоствову, в которую в молодости был влюблен:
- Господин
- Оголин,
- Поспешите
- Напишите
- Про всех вас
- На Кавказ
- И здорова ль
- Молоствова.
- Одолжите
- Льва Толстого.
Интересно, что игривость молодого Толстого странным образом сочеталась с робостью. В юности он был застенчив, считал себя некрасивым и даже «преувеличивал свою некрасивость», как утверждала его сестра Мария. Задумав сделать предложение Соне Берс, он долго не решался, носил письмо-признание в кармане, советовал самому себе в дневнике: «Не суйся туда, где молодость, поэзия и любовь». И незадолго до признания, 10 сентября 1862 г., записал: «Господи! помоги мне, научи меня. – Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послужишь». Все же решившись сделать предложение, он настоял на том, чтобы свадьба была через неделю. Может быть, боялся передумать, зная свой противоречивый характер? Нет, скорее боялся, что передумает она.
Л. Н. Толстой. Фотография М. Абади.
Фирма «Шерер, Набгольц и К°». 1854. Москва
Об одной из ребячливых проделок молодого и влюбленного Толстого не без удовольствия вспоминает Софья Андреевна в книге «Моя жизнь»: «Помню раз, мы были очень веселы и в игривом настроении. Я все говорила одну и ту же глупость: “Когда я буду Государыней, я сделаю то-то” <…> Я села в кабриолет и кричу: “Когда я буду Государыней, я буду кататься в таких кабриолетах”. Лев Николаевич схватил оглобли и вместо лошади рысью повез меня, говоря: “Вот я буду катать свою Государыню”. Какой он был сильный и здоровый, доказывает этот эпизод».
Софья Андреевна не преувеличивала, Толстой действительно всю свою жизнь старался, как сказали бы теперь, «быть в форме». Он неплохо катался на коньках (как его Константин Левин), с юности любил верховую езду и турник, причем выполнял на нем сложнейшие упражнения, а на лошади до преклонных лет ездил быстро, перескакивая овраги и не замечая, как ветки хлещут его по лицу, так, что спутники едва поспевали за ним. Толстой был очень азартен, боролся с этим всю свою юность. Неслучайно сцена карточного проигрыша Николая Ростова описана так живо и с таким сочувствием.
Есть воспоминание полковника П. Н. Глебова в его «Записках» о пребывании Толстого в Севастопольском гарнизоне. «…Толстой порывается понюхать пороха, но только налетом, партизаном, устраняя от себя трудности и лишения, сопряженные с войною. Он разъезжает по разным местам туристом, но как только заслышит где выстрел, тотчас же явится на поле брани; кончилось сражение, – он снова уезжает по своему произволу, куда глаза глядят». Глебов как истинный военный критикует некоторую безалаберность Толстого и его своенравие, не представляя, в какие литературные шедевры выльется этот «произвол» писателя. Важно не забывать также, что Толстой сам решил поехать в Севастополь и сам «из патриотизма, который вдруг нашел на меня» подал рапорт о переводе в армию, хотя мог бы это время «пересидеть» на Кавказе, где было безопаснее.
Толстой любил грубоватый солдатский юмор. В черновиках у него немало набросков солдатских разговоров, из которых хочется привести один (с сохранением орфографических особенностей наброска): «Разговор духовно-поэтический – о мертвецах – о 24-м – о политике – этнография и география – шуточный с Васиным. —
Волков молодой розовый солдатик с височками Александр I, – Я нынче сон видал, будто меня мать кашей кормила.
Кузьмин бакенбардист, 1-й №. И что ни приснится! другой раз летаешь.
Волков. И так будто хорошо, выше хат, меня раз за ногу поймал солдат Мельников, а то офицер что-то хотел надо мной сделать, я взял и улетел от него. —
Абросимов. И что это такое значит, братцы мои, что летаешь?
3-й. Душа летает —
4-й. Да, это точно.
Молчание.
Молодой и красивый солдат с немного жидовской физиономией. Куда же она летаит? —
3-й. Известно в кабак. Куда больше».
С таким же сочувствующим юмором описано ухаживание солдат за «прекрасной докторшей» в «Войне и мире». «Ложка была только одна, сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому было решено, что она будет поочередно мешать сахар каждому. Ростов, получив свой стакан и подлив в него рому, попросил Марью Генриховну размешать.
– Да ведь вы без сахара? – сказала она, все улыбаясь, как будто все, что ни говорила она, и все, что ни говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение.
– Да мне не сахар, мне только чтоб вы помешали своею ручкой.
Марья Генриховна согласилась и стала искать ложку, которую уже захватил кто-то.
– Вы пальчиком, Марья Генриховна, – сказал Ростов, – еще приятнее будет.
– Горячо! – сказала Марья Генриховна, краснея от удовольствия.
Ильин взял ведро с водой и, капнув туда рому, пришел к Марье Генриховне, прося помешать пальчиком.
– Это моя чашка, – говорил он. – Только вложите пальчик, все выпью».
Толстой, сам служивший, хорошо знал этот особый солдатский смех, усиливающийся перед лицом опасности, – смех, который может в любую минуту стать последним. Молодой Толстой с приятелями написал целую песню, снискавшую невероятную популярность в офицерской среде. Называется она «Песня про сражение на р. Черной 4 августа 1855 г.» Вот отрывок из нее:
- Собирались на советы
- Все большие эполеты,
- Даже Плац-бек-Кок
- Полицмейстер Плац-бек-Кок
- Никак выдумать не мог,
- Что ему сказать.
- Долго думали, гадали,
- Топографы всё писали
- На большом листу
- Гладко вписано в бумаге,
- Да забыли про овраги,
- А по ним ходить…
Даже через много лет, после «духовного перелома», когда Толстой будет выступать против любой войны и участия в ней кого бы то ни было (см., например, его статью «Одумайтесь!»), он однажды признается в дневнике от 7 марта 1904 года, что во сне «я часто вижу себя военным…». «Сдача Порт-Артура огорчила меня, мне больно, – писал он в дневнике от 31 декабря 1904 года. – Это патриотизм. Я воспитан в нем и не свободен от него так же, как не свободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма». Эту же мысль он повторяет в феврале 1905 года в интервью испанскому журналисту Л. Мороту: «Совершенного человека еще нет. Я, говорящий вам против войны, на которую я смотрю, как на ужасное бедствие, я почти рыдал при известии о сдаче Порт-Артура…»
Л. Н. Толстой. Фотография С. Л. Левицкого.
1856. С.-Петербург
Семейный врач и друг семьи Толстых Д. П. Маковицкий в те же времена русско-японской войны записал интересный «разговор о том, что интеллигенты российские сочувствуют японским победам. Татьяна Львовна рассказывала, как сестры, С.А. и М. А. Стахович, “аж плакали”, что брат их радуется, когда выигрывают японцы и проигрывают русские. Спорили с ним. (Вспомнили, что Татьяна Львовна сама радовалась, когда Порт-Артур был сдан, во-первых, потому, что думала, что будет конец войне; во-вторых, что правительство побеждено.) На это Николай Леонидович теперь ей возразил, что мы с солдатами нашими и с правительством в такой связи, что их отделять нельзя. Мы тогда могли бы отделить себя от правительства, если бы стояли выше его. Об этом завязался общий оживленный разговор. Л.Н. сказал:
– Русские мне ближе: там дети мои, крестьяне; 100 миллионов мужиков заодно с русским войском, не желают поражения. Это непосредственное чувство. А что либералы говорят и ты (к Татьяне Львовне) – это извращение».
Сохранилась также запись Д. П. Маковицкого о реакции Толстого на известие о заключении Портсмутского мирного договора. «Вечером получена из Москвы неподписанная телеграмма: “Слава богу, мир заключен”. Л. Н. сказал: “Какая важная новость! Мне стыдно, но я должен сознаться, что я борюсь с чувством патриотизма. Я все надеялся, что русские победят”».
Не все из близких Толстого разделяли его поздние антивоенные взгляды – его сын Андрей Львович ушел на войну и вернулся в Ясную Поляну из действующей армии в ночь на 10 января 1905 г., получив Георгиевский крест.
Кавказские типы. Рисунки Л. Н. Толстого
из записной книжки 1855–1857
Изучая жизнь и творчество Толстого, становится очевидно, что он при его постоянном призыве к непротивлению злу силой и умеренной жизни любил бесшабашных, отчаянных, храбрых людей. В «Казаках» старый Ерошка – человек с бурным, полным риска и молодечества прошлым так наставляет в своей обаятельной непосредственной манере молодого Оленина, пишущего письмо:
«– Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!
О писании в его голове не умещалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе. Оленин расхохотался. Ерошка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать свое искусство в игре на балалайке и петь татарские песни».
Ф. И. Евнин в статье «Последний шедевр Л. Н. Толстого» пытается ответить на вопрос, почему зрелый уже Толстой, с его сформировавшимся учением о непротивлении злу силой, вдруг берется за повесть «Хаджи-Мурат» и с таким увлечением над ней работает, несколько раз ее перерабатывает. «Толстой сам когда-то служил в той передовой крепости Воздвиженской, куда является Хаджи-Мурат, спасаясь от преследований Шамиля, бывал писатель и в крепости Грозной. <…> Но, думается, все же не в этом, не в возвращении почти через полвека к впечатлениям молодости кроется главная причина сложных переживаний, борьбы притяжений и отталкиваний, которыми сопровождалось писание “Хаджи-Мурата”. Гораздо важнее другое: по своему объективному содержанию, по пронизывающему ее пафосу “кавказская повесть” явно противоречила важнейшим элементам религиозно-философской доктрины толстовства – проповеди аскетических идеалов, теории непротивления злу насилием. <…> Толстой откровенно любуется в своей авторской речи “особенным гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади”».
Началось создание повести со встречи с кустом репейника («татарина»), не покорившегося смерти (колесам телеги) на дороге, продолжилось любованием жизненной силой, смелостью, страстностью лидера горцев, но после десяти (!) редакций повесть постепенно приобрела и свой идейный пафос – стала гимном естественной жизни малых народов, отрицанием любого деспотизма. Хаджи-Мурат симпатичен Толстому как цельная личность, воспитанная «естественно» – местом и временем, в котором он оказался, – его фигура очень гармонична, несмотря на непредсказуемость, хитрость, жажду мести и другие особенности характера горца. Но далеко не все молодцы и удальцы симпатичны Толстому. В «Набеге» дан тип офицера, по всей видимости, распространенный на Кавказе во время службы Толстого: «По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов».
Толстой всегда чувствует «позу», попытку казаться, а не быть, и эти позирующие люди противопоставляются в «Набеге» бывалому солдату Хлопову, который высказывает простую и в то же время оригинальную мысль: «Храбрый тот, кто ведет себя как следует». Позже эта идея вернется и воплотится в образе знаменитого капитана Тушина в «Войне и мире» – с его истинной храбростью, в которой нет ни грамма пафоса, а только желание делать «как следует».
Есть интересная схожесть в описании одежды настоящего джигита Лукашки в «Казаках» и Стивы Облонского, собравшегося на охоту.
Лукашка: «На настоящем джигите все всегда широко, оборванно, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу».
Облонский: «Степан Аркадьич был одет в поршни и подвертки, в оборванные панталоны и короткое пальто. На голове была развалина какой-то шляпы, но ружье новой системы было игрушечка, и ягдташ, и патронташ, хотя истасканные, были наилучшей доброты». Обаятельный Стива умеет «подать себя», и Толстой с улыбкой смотрит на него глазами Левина. Васенька же Весловский «не понимал прежде этого настоящего охотничьего щегольства – быть в отрепках, но иметь охотничью снасть самого лучшего качества. Он понял это теперь, глядя на Степана Аркадьича, в этих отрепках сиявшего своею элегантною, откормленною и веселою барскою фигурой, и решил, что он к следующей охоте непременно так устроится».
Насколько Толстой сочувствует простым солдатам, джигитам, даже щеголям вроде распутного, но все-таки обаятельного и доброго Стивы, настолько же он не любит похожих друг на друга светских молодых франтов – блестящих, ищущих приключений, самовлюбленных и эгоистичных. В «Анне Карениной» отец Кити князь Щербацкий называл их «тютьками», а Набоков в «Лекциях по русской литературе» в примечании пишет об этом слове: «Читатель услышит любопытное эхо этого причудливого слова в фамилии парикмахера (“Тютькин-куафер”): проезжая перед смертью по улицам Москвы, Анна скользит рассеянным взглядом по вывеске с этим именем, ее поражает нелепое несоответствие русской комической фамилии чопорному французскому существительному “куафер”…»
