Альманах гурманов
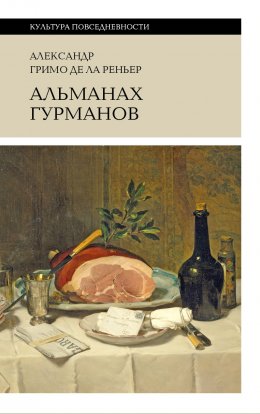
УДК 641.55(091)(44)«18»
ББК 36.997(4Фра)
Г84
Редактор серии Л. Оборин
Перевод с французского, вступительная статья, примечания В. А. Мильчиной
3‑е издание
Александр Гримо де Ла Реньер
Альманах Гурманов / Александр Гримо де Ла Реньер. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Культура повседневности»).
«Альманах Гурманов» – книга о еде. Но это не сборник рецептов, а скорее путешествие во времени. Сочинения французского историка, теоретика и практика вкусной еды Александра Гримо де Ла Реньера (1758–1837) дают возможность узнать от осведомленного и остроумного очевидца, как в Париже начала XIX века покупали провизию, готовили кушанья и подавали их на стол, каково было расписание трапез и из чего состоял обед или ужин; сколько бутылок вина выпивали за едой; отчего сыр назывался бисквитом пьяницы; чем старинные завтраки отличались от новомодных «завтраков с вилкой в руке», обед по-дружески от дружеского обеда, а обед-брюнет – от обеда-блондина; как нужно приглашать в гости и как отвечать на приглашение, и еще множество «аппетитных» деталей повседневной жизни гурмана позапрошлого века, которых не узнаешь из других книг. Русский читатель получает возможность ознакомиться с текстами Гримо де Ла Реньера в практически полном объеме. Книга подготовлена Верой Мильчиной, ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС.
На обложке: «Натюрморт с ветчиной» Ф. Руссо. Ок. 1870 г. Catharine Lorillard Wolfe Collection, Wolfe Fund, 1982. Метрополитен‑музей, Нью‑Йорк / The Metropolitan Museum of Art, New York.
ISBN 978-5-4448-2811-3
© В. А. Мильчина, перевод с франц., вступ. статья, комментарии, 2011; 2014; 2025
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2011; 2014; 2025
Гримо де Ла Реньер и его гастрономическая утопия
В 1810 году в журнале «Вестник Европы», выходившем под редакцией сурового историка Михаила Трофимовича Каченовского, появилась восторженная рецензия на книгу, которая в России вышла в предыдущем году, а во Франции – семью годами раньше. Во Франции этот томик в 18-ю долю листа именовался «Альманах Гурманов, призванный руководствовать любителями вкусно поесть» (Almanach des gourmands, servant de guide dans les moyens de faire excellente chère), а в России, за отсутствием в тогдашнем русском языке слова «гурман», получил название: «Прихотник, указующий легчайшие способы иметь наилучший стол».
Анонимный рецензент писал:
«Наши соотечественники, которым суждено только вздыхать о парижских лакомствах, могут узнать, не выезжая из России, что харчевник Бьене готовит лучшее жаркое в целом Париже; что в лавке славного Руже продаются вкусные пирожки с луком и бесподобные паштеты с зеленью; что в харчевне мадамы Мандолини1 и тесно, и темно; что кофейный дом де Фоа в Пале-Ройяле продан мадам Ленуар, которая сняла также кофейню; что в улице Сейн Маглоара стоят рядом два магазина, из которых в первом содержит лавку Малгерб, знаменитый колбасник, племянник Кора, коего супруга, то есть мадам Кор, сама держала эту лавку более шести месяцев, и проч., и проч. Переводчик сей книги и издатель ее заслуживают истинную благодарность от обжор вообще и в особенности от почитателей всего принадлежащего до французской поварни»2.
Русские читатели 1810 года имели хотя бы теоретическую возможность применить перечисленные сведения на практике, но зачем нужна книга, содержащая все эти мельчайшие подробности парижского быта 1803–1812 годов (именно в этот период вышли из печати восемь томов «Альманаха Гурманов») российскому читателю 2011 года? Зачем ему знать, что ресторан при пекарне Перье на улице Монторгёй закрылся, ресторан Вери скоро переедет из Тюильри в Пале-Руаяль, а черно-белый кот Леблана, колбасника с улицы Арфы, болел, но недавно совершенно поправился? Вроде бы незачем. Дело, однако, в том, что чтение «Альманаха Гурманов» сообщает о парижской жизни 1800-х годов и многое другое – то, чего не узнаешь ни из каких энциклопедий и исторических книг: сколько бутылок вина могли выпить за вечер сотрапезники, не захмелев; когда обедали парижане до Французской революции и когда стали обедать после нее; сколько часов должен длиться «правильный» обед; как нужно поступать со скорлупой, если за обедом тебе подали яйцо; на что намекает гость, сложивший свою салфетку, и для чего нужно новое изобретение – печка для завтрака3…
Мы сказали, что этого не узнаешь из других книг. Это не совсем верно: многие из тех оригинальных деталей, какие содержатся в «Альманахе Гурманов», обнаруживаются в других книгах, да только взяты они именно из «Альманаха», причем если одни авторы (все без исключения современные историки гастрономии) ссылаются на «Альманах» как на непререкаемый исторический источник4, то другие черпают из этой кладовой без всяких ссылок. Откройте знаменитый «Большой кулинарный словарь» (1873) Александра Дюма и, помимо «Гастрономического календаря», заимствованного из «Альманаха» открыто (он приведен с указанием источника, но зато очень сильно сокращен и лишен всей своей стилистической яркости), вы обнаружите там много фрагментов из той же книги, процитированных практически дословно, но без всяких ссылок. Например, когда Дюма именует юного девственного петушка «холостяком наших птичьих дворов, обязанным своему целомудрию вкусом и душком, которые самым решительным образом отличают его от дядюшки каплуна»5, не стоит думать, что это остроумие – его собственное; нет, это необъявленная цитата из соответствующей главы первого тома «Альманаха Гурманов», и таких цитат в толстой книге Дюма обнаруживается немало.
Черпать из «Альманаха Гурманов» стали тотчас же после его появления в свет. Один из таких плагиатов отметил уже сам автор альманаха: Август Коцебу, впоследствии печально прославившийся своей гибелью от руки студента Занда, а в 1804 году просто литератор и мемуарист, в главе, описывающей «нравы и обычаи парижан»6, «переписывает целые страницы из “Альманаха Гурманов”, на который забывает сослаться, но который, очевидно, имел счастье ему понравиться, раз он счел должным черпать из него так обильно» (АГ–4, 214–215). Забывал сослаться не один Коцебу, причем брали из «Альманаха Гурманов» не только информацию, которую можно найти и в других книгах, но и самые оригинальные изобретения. Так, во французском «Кулинарном словаре» 1836 года без малейшей ссылки цитируются почти слово в слово рассуждения о соседстве за столом или о визитах приготовительных, пищеварительных и для возбуждения аппетита и точно так же без всякой ссылки использовано одно из эффектнейших сравнений, увидевших свет на страницах «Альманаха Гурманов»: «сыр – бисквит пьяницы»7. Это последнее определение вообще «ушло в народ», и его можно встретить в самых разных печатных и электронных изданиях – и тоже далеко не всегда со ссылкой на автора8. Если одни литераторы использовали конкретные сведения и фразы, то другие пользовались самой формой книги и ее названием; иначе говоря, выпускали свой собственный «Альманах гурманов» или «Новый альманах гурманов». К этим последним я еще вернусь, а сейчас пора наконец рассказать об авторе того альманаха, который был отрецензирован в «Вестнике Европы».
Я намеренно уже много раз упомянула этого автора, не называя его фамилии. Дело в том, что на титульных листах каждого из восьми томов альманаха было выставлено: «Сочинение старого знатока», а на титульном листе еще одной книги того же автора на сходную тему – вышедшего в 1808 году «Учебника для Амфитрионов» – значилось, в свою очередь, «сочинение автора “Альманаха Гурманов”». Впрочем, эта анонимность была всего лишь данью издательским традициям своего времени и отнюдь не диктовалась желанием скрыть авторство9. В книге был обозначен адрес, по которому ее сочинителю предлагалось слать корреспонденцию как словесную, так и продуктовую. И если за границами Франции могли найтись люди, не ведающие, кто проживает в Париже в доме 8 по улице Елисейских Полей (ныне улица Буасси д'Англа), то для парижан из светских и литературных кругов это секрета не составляло. Они знали, что «Альманах Гурманов» сочинил Александр-Балтазар-Лоран Гримо де Ла Реньер. Прежде чем рассказать о его достижениях в области гастрономической литературы, следует представить читателю его самого. Человек этот, в высшей степени оригинальный, вполне того заслуживает.
Оригинальным Гримо де Ла Реньер, к своему несчастью, был с самого рождения. Вследствие какого-то генетического сбоя он появился на свет (20 ноября 1758 года) с деформированными руками: одна, насколько можно судить по описаниям современников, напоминала птичьи когти, другая – гусиную лапку с перепонками; впрочем, видели эти искалеченные руки очень немногие, так как на людях Гримо носил металлические протезы, обтянутые белой кожей10. Существует версия, что причиной увечья был несчастный случай: якобы руки ребенку откусила свинья; достаточно, однако, прочесть похвальное слово свинье в первом томе «Альманаха Гурманов», чтобы понять, что версия эта далека от действительности и претензий к свиньям Гримо не имел. Родители, во всяком случае мать, воспринимали дефект сына не столько как беду, сколько как позор. Мать Александра, Сюзанна-Элизабет де Жарант (1735–1815), чей дворянский род существовал по меньшей мере с XI века, но за долгие годы существенно обеднел, 1 февраля 1758 года вышла замуж за Лорана Гримо де Ла Реньера (1733–1793), сына богатого генерального откупщика11, который после смерти отца (1754) унаследовал его должность и богатство. Вышла замуж, родила сына – но мужа своего презирала, а сына не любила. Не случайно именно ей молва приписывает фразу: «Стоило ли так сильно мучиться, чтобы произвести на свет простолюдина!»12 Этот простолюдин как раз и был будущий автор «Альманаха Гурманов».
Отца его, Лорана Гримо де Ла Реньера, нельзя назвать неотесанным мужланом; он был хлебосольным хозяином, проявлял интерес к искусству и собрал богатую коллекцию картин (в ней были представлены Рембрандт и Брейгели, Фрагонар и Ватто, Франц Хальс и Ван Лоо), которую разместил в новом особняке, выстроенном им в начале 1780-х годов на Елисейских Полях13. Но отношения к нему жены это не меняло; она жила на своей половине, стараясь как можно реже видеть и мужа, и сына, меняла любовников до тех пор, пока не остановилась почти официально на после Мальтийского ордена в Париже бальи де Бретёе, и не питала никакого уважения к супругу. Так же относились к Лорану Гримо Ла Реньеру и видные представители парижского светского общества, что, впрочем, не мешало им столоваться в его доме14. Юный Александр воспитывался в разных пансионах (и даже в коллеж Людовика Великого каждый день ходил под надзором гувернера не из дома, а из пансиона), потом был отправлен почти на год (1775–1776) в Швейцарию, а когда наконец вернулся под родительский кров, своим там себя не чувствовал.
Он оканчивает факультет права и вступает в ряды парижских адвокатов, увлекается театром и в 19 лет начинает писать рецензии на спектакли для «Театральной газеты» (Journal des théâtres), заводит знакомства и в литературной среде (в частности, завязывает дружбу с таким известным писателем, как Ретиф де Ла Бретон15) и даже становится членом Общества Среды – кружка остроумных любителей вкусной снеди, собиравшегося каждую среду в одном из парижских ресторанов16. Но главное – он бунтует против того уклада жизни, какой воплощают его родители. Ходили слухи, что однажды он собрал во дворе отцовского особняка нищих и, завидев знатных гостей матери, возопил: «Подайте несчастным, разоренным генеральными откупщиками!» Рассказывали, что, когда отец решил уменьшить выдаваемые ему на прожитие суммы, он принялся развозить друзей в своей карете за деньги, словно в наемном фиакре, – впрочем, сумму, заработанную извозом, роздал нищим. Но все это были сущие мелочи по сравнению с тем, что устроил Гримо 1 февраля 1783 года.
А устроил он в родительском особняке ужин на 17 персон17, на который пригласил в качестве зрителей «весь Париж». Сохранились два варианта отпечатанных типографским способом приглашений на эту трапезу, которая в одном случае именовалась просто ужином, а в другом – ужином по случаю похорон (неясно, правда, чьих18). Ужин 1 февраля 1783 года был неоднократно – и с сильными преувеличениями – описан сочинителями рукописных светских хроник19. Например, согласно версии, изложенной по свежим следам в «Секретных записках» Башомона и «Литературной корреспонденции» Гримма (но не «авторизованной» самим Гримо), стражи, встречавшие гостей у входа в дом, требовали у них приглашение в следующих выражениях: «Вы пришли к господину де Ла Реньеру-кровопийце или же к его сыну, защитнику вдов и сирот?». В столовой гости некоторое время находились в полной темноте, а затем внезапно их ослепил свет 339 светильников. В полном соответствии с тем, что было обещано в приглашении, «в оливковом масле и свинине недостатка не наблюдалось», причем Гримо отрекомендовал и то и другое как продукты, купленные в лавках, принадлежащих кузенам его отца20. Шестнадцать гостей (семнадцатым был сам Гримо), в число которых входили, во-первых, литераторы, художники и актеры, во-вторых, коллеги Гримо из адвокатского сословия и, наконец, в-третьих, одетая в мужское платье его тогдашняя пассия актриса Франсуаза Луазон, известная под анаграмматическим псевдонимом Нозойль, ели и пили (ужин состоял из 14 перемен, каждая по 5 блюд), а зрители-аристократы (среди них, говорят, была даже сама госпожа Гримо де Ла Реньер) получили доступ лишь на галерею, окружавшую залу; оттуда они могли бросить взгляд на происходящее, но поскольку наплыв был большой, долго задерживаться на галерее им не позволяли. В углах залы стояли эфебы в античных одеждах с кадильницами; Гримо объяснил гостям их присутствие так: «За столом у моих родителей всегда присутствуют несколько нахлебников, которые кадят им в благодарность за трапезу. Я же хочу избавить моих гостей от докучной обязанности, которую прекрасно выполнят эти молодые люди». Из столовой гостей пригласили перейти в гостиную, где им подали кофе и ликеры; гостиная была освещена 113 свечами (как разъяснял потом сам Гримо, по числу парижских нотариусов), которые потом погасили, чтобы итальянский физик Кастанио мог показать опыты с электричеством. Званы были гости к половине десятого (начало ужина – в десять вечера), а отпустили их только в семь утра. Именно отпустили, потому что когда самые нестойкие, заподозрив, что дело пахнет скандалом, да и просто устав, попытались уйти, любезный хозяин велел запереть двери и ускользнуть сумели только двое.
На следующий день «весь Париж» обсуждал ужин младшего Гримо, добавляя от себя разные детали и придавая экстравагантному пиршеству характер оргии. Например, в приглашениях были обещаны «особые служанки»; Гримо имел в виду поставцы – маленькие столики для посуды, которые ставились около каждого сотрапезника (сейчас бы сказали: сервировочные), но молва превратила их в обнаженных красавиц, которые предоставляли гостям свои длинные волосы в качестве салфеток для вытирания жирных рук21.
Парижское общество восприняло ужин Гримо де Ла Реньера так, как он и планировал,– как издевательскую пародию на времяпрепровождение знати. А один из участников ужина, адвокат мэтр Бонньер, настолько испугался перспективы увидеть описание ужина напечатанным, что прислал коллеге Гримо письмо, в котором заклинал его не позорить почтенных судей и адвокатов, уже и без того скомпрометированных самим фактом приглашения. Гримо успокоил нервного адвоката не без издевки, заверив, что на ужине не происходило ровно ничего неприличного, «а если иные из гостей выказывали радость, граничащую с безумием, то в этом нет ничего удивительного: могло ли быть иначе, если им выпала честь ужинать в обществе господина Бонньера?»22. Гримо, конечно, лукавил, как лукавил и тогда, когда два года спустя в книге «Философическая лорнетка» удивлялся: «Дамис устраивает трапезу из 14 перемен для семнадцати участников и зажигает 400 свечей; мыслимое ли дело, что это пиршество занимало весь Сирап в течение шести месяцев и послужило предметом для двух десяток брошюр?»23 Когда три года спустя, 9 марта 1786 года, Гримо устроил повторение знаменитого обеда, он позвал туда только близких друзей (в том числе знаменитых писателей Ретифа де Ла Бретона и Мерсье) и обошелся без зрителей.
Как бы то ни было, благодаря ужину 1783 года молодой адвокат и литератор привлек к себе всеобщее внимание, и хотя смотрели на него как на безумца (чтобы не сказать: как на шута), тем не менее его первая книга – брошюра «Философические размышления об удовольствии», выпущенная сразу после знаменитого ужина, имела успех и выдержала подряд три издания (существовала версия, что весь ужин и был затеян ради рекламы книги; в таком случае цель была достигнута). Не меньшее любопытство вызывали «полупитательные философические завтраки», которые Гримо стал устраивать в отцовском особняке по средам и субботам, с одиннадцати утра до четырех часов дня. Приглашенные должны были удовлетворять двум критериям: заниматься литературой и быть способными выпить семнадцать (опять это число) чашек кофе, которое наливали им не слуги, а «кофейные автоматы» – бронзовые сатиры; один из них исторгал из себя кофе, а другой – молоко24. Подсчет числа выпитых чашек и раздача гостям сахара были возложены на секретаря хозяина дома, Барта. Бессменным председателем «философических завтраков» был торговец товарами для охоты и рыбной ловли Клаво, который был обязан этой честью своему личному рекорду: он однажды выпил не 17, а целых 29 чашек кофе. Интеллектуальная сторона заключалась в чтении литераторами своих новых произведений (в частности, Мерсье прочел в доме Гримо главы из своей «Картины Парижа», а сам хозяин – отрывки из «Философической лорнетки», где, среди прочего, описаны и «кофейные автоматы»25). Что же касается гастрономической составляющей «завтраков», то она была крайне спартанской: по средам только маленькие кусочки хлеба с маслом и анчоусами, которые гости отправляли друг другу щелчком по гладкой поверхности стола, а по субботам вдобавок к этим тартинкам еще и кусок вареной говядины (впрочем, сам хозяин по средам непосредственно с завтрака отправлялся на еженедельное «обеденное» заседание Общества Среды, поэтому голодным не оставался).
Одним словом, можно согласиться с исследовательницей парижских салонов XVIII века, причислившей собрания у молодого Гримо к «салонам вне нормы»26. Для историка эта «ненормальность» – интересный объект исследования, а вот родителей Гримо она волновала и даже оскорбляла. Последней каплей стала история, в которой Гримо захотел блеснуть своим юридическим красноречием. Если совсем коротко, история эта заключалась вот в чем: один чиновник шутки ради адресовал некоему бездарному поэту стихи, где расхвалил его, уподобив ангелу и божеству, и подписал эти вирши именем своего приятеля адвоката27. Поэт, как ожидалось, по глупости своей принял все за чистую монету и, гордясь похвалами, комплиментарные стихи опубликовал – за подписью адвоката.
Тот возразил, что ничего подобного не писал. Поэт настаивал. Тут объявился истинный автор. На этом дело могло бы кончиться, но вмешался Гримо и – якобы защищая коллегу-адвоката – выпустил брошюру, которая по форме представляла собой адвокатскую «записку» (mémoire), а по сути – язвительный памфлет. Обиделись все: не только оскорбляемый поэт, который даже намеревался подать на Гримо в суд, но и защищаемый адвокат, и все адвокатское сословие28. Назревал очень крупный скандал, и родители решили, что лучше всего будет удалить сына из Парижа. На семейном совете постановили, что отправят его в Лотарингию, в Домеврский монастырь регулярных каноников (разновидность августинцев29). Поскольку любовник матери Гримо приходился кузеном королевскому министру барону де Бретёю, то на сей счет был без труда получен королевский указ (lettre de cachet), и 10 апреля 1786 года Гримо покинул Париж.
Поначалу разлуку со столицей и привычным укладом жизни он воспринимал так тяжело, что даже, по его собственному признанию в письме к Ретифу, от горя забыл орфографию. Но постепенно оказалось, что аббатство, куда он попал, более всего напоминает благословенное Телемское аббатство, описанное Рабле. Об этом можно судить хотя бы по фразе настоятеля, аббата Жозефа де Сентиньона, которую Гримо цитирует в АГ–2 в главе «О вине»: «Вокруг слишком много вина для того, чтобы причащать верующих, и слишком мало для того, чтобы приводить в движение мельничные жернова; что же остается делать с вином? Пить» (наст. изд., с. 358). В монастыре Гримо продолжал заниматься адвокатской деятельностью (изучал дела своих клиентов и консультировал их письменно), сочинял театральные рецензии (настоятель регулярно отпускал его в Нанси на представления тамошнего театра); наконец, если в родительском доме он из чувства противоречия оставался равнодушен к самым роскошным обедам, то в Домеврском монастыре впервые приобщился к гурманским радостям. В общем, легко отделался, особенно если учесть, что были люди (и среди них, как ни печально, великий Бомарше, участвовавший в семейном совете на правах родственника, поскольку в тот момент был любовником сестры госпожи де Ла Реньер), которые полагали, что правильнее было бы поместить молодого Гримо в лечебницу для умалишенных.
Гримо провел в Домеврском аббатстве два с лишним года, а затем родители предложили ему на выбор: сумасшедший дом или путешествие. Гримо выбрал второе и отправился в Швейцарию, а затем в Лион. В Париж он вернулся только в начале 1794 года, после смерти отца, хотя указ о его высылке был отменен еще осенью 1789 года. За это время Гримо успел, не оставляя полностью занятий словесностью, попробовать себя – впрочем, без особого успеха – на новом поприще, а именно в торговле (его лавка, где бакалейные товары продавались вперемешку с галантерейными, а духи вперемешку с женской и мужской одеждой, располагалась в Лионе на улице с характерным названием Галантерейная и, разумеется, в доме 17); завязать (там же, в Лионе) роман с актрисой Аделаидой Фёшер30 и даже стать отцом Аделаиды-Жанны-Жюстины-Лоры, в просторечии мадемуазель Фафа, которая, впрочем, прожила всего два года и умерла в ноябре 1793 года; посетить свою тетку по материнской линии графиню де Боссе в городе Безье (где ему так понравилось, что он провел там с небольшими перерывами три с половиной года, с июля 1790 по январь 1794 года) и благодаря южному гостеприимству окончательно проникнуться почтением к настоящей французской кухне31.
Гримо, по-видимому, не спешил покидать Безье не только из-за тамошних вкусных блюд, но еще и потому, что до него доходили слухи о ходе революции в Париже, и чем больше он узнавал, тем меньше сочувствия, несмотря на всю прежнюю оппозиционность, испытывал к тому, что в 1804 году назвал «чудовищным Террором, который, заметим походя, никогда бы не покорил себе Францию, имей порядочные люди хотя бы десятую часть той дерзости, какой щеголяют подлецы» (наст. изд., с. 400)32; политическим идеалом Гримо была конституционная монархия, и не более. Если учесть, что казни (в том числе и казнь короля Людовика XVI 21 января 1793 года) происходили на площади Согласия (впрочем, в это время она еще именовалась площадью Революции) непосредственно под окнами особняка Ла Реньеров, то не покажется удивительным, что Гримо не торопился в Париж.
Зато родители его оставались дома постоянно, и сердце Лорана Гримо де Ла Реньера (который в мирное время смертельно боялся раскатов грома) не выдержало: он умер 26 декабря 1793 года и тем самым избегнул участи коллег – трех десятков бывших генеральных откупщиков, которые были казнены пять месяцев спустя. Парадоксальным образом эта смерть вкупе с неудачными финансовыми спекуляциями покойного спасли особняк от реквизиции и разграбления: бакалейщик Лавуапьер, владелец «Американского дома» (которому посвящена одна из глав АГ–1), подал иск ко взысканию из наследства тех 40 000 франков, которые Лоран Гримо остался ему должен, и особняк опечатали. Больше того, когда госпожу де Ла Реньер арестовали за то, что она дала приют племяннице, жене аристократа-эмигранта (обеих выпустили из тюрьмы только после падения Робеспьера – которого казнили все на той же площади под окнами особняка Ла Реньеров), «гражданина Гримо, коммерсанта из Безье» назначили официальным стражем опечатанного имущества. Так что можно сказать, что Гримо, вернувшийся в Париж 14 февраля 1794 года, в самый разгар Террора, отделался, как говорится, легким испугом. И при Робеспьере, и в первые годы Директории страдал он преимущественно от холода и голода; единственным источником заработка была для него продажа эстампов и рисунков – мелочей, которые не были опечатаны, и потому нередко он был вынужден довольствоваться тем, что позже назвал «обедами по памяти» (см. одноименную главу в АГ–5). Осложняли его жизнь также многочисленные кредиторы отца, явившиеся за своими деньгами следом за бакалейщиком Лавуапьером. Впрочем, в 1797 году мать Гримо по суду добилась, чтобы ее назначили единственной наследницей, сыну же осталась рента (400 франков в месяц33) и право жить в родительском особняке; на этих условиях Гримо существовал до самой смерти матери, а умерла она в 1815 году!
Среди многих легенд, героем которых становился Гримо де Ла Реньер, есть и та, которая изображает его задающим роскошные пиршества сразу после Термидора. Виктор Гюго в своем панорамном обзоре этой эпохи в романе «Девяносто третий год» (ч. 2, кн. 1) восклицает: «У Парижа появился свой Тримальхион; его звали Гримо де Ла Реньер. У Парижа появился “Альманах Гурманов”». Здесь в двух фразах целых две неточности: во-первых, «Альманах Гурманов» в реальности появился почти десятью годами позже, а во-вторых, на «тримальхионство», то есть на устройство богатых обедов, у Гримо в то время не было никаких средств. Но все-таки жизнь постепенно налаживалась. Верный своей давней любви к театру (а также недавно охватившей его любви к актрисе Жозефине Мезере), Гримо не только посещает спектакли, но и рецензирует их; на деньги, вырученные от продажи части отцовской коллекции, он печатает газету, все материалы для которой (прежде всего рецензии на спектакли с участием мадемуазель Мезере) сочиняет самолично. Называлась она «Драматический цензор, или Обзор главных парижских и провинциальных театров». Газета выходила раз в десять дней с 27 августа 1797 по 28 июня 1798 года и была закрыта по велению Центрального бюро полиции: Гримо был слишком резок и пристрастен в своих оценках, слишком много (и неодобрительно) писал о расколе «Комеди Франсез» на две труппы, происшедшем по инициативе актера Тальма. Но главное его прегрешение заключалось в том, что он перепечатал в последнем, 30-м номере «Элегию о древних и новых» монархиста Жозефа Бершу (того самого, который три года спустя выпустит близкую Гримо по духу поэму «Гастрономия»), где развенчивались революционные «грязный Цицерон и подлый Демосфен» – новые, которые «из древних нам всегда примеры приводили, когда нас убивать и грабить приходили»34.
Лишившись собственной газеты, Гримо продолжал писать рецензии для чужих: «Листка бесплатных объявлений, или Газеты зрелищ», «Парижанина», «Газеты мелких объявлений» (Petites affiches). В 1803 году он собрал эти рецензии в двух томах, которым дал отчасти гастрономическое название «Литературный дистиллятор» (Alambic littéraire). В предисловии он формулирует один из своих рецензентских принципов: не дело рецензента – «создавать новые предметы: все его мастерство заключается в том, чтобы разобрать на части предметы уже существующие»35. Этим искусством разбора Гримо владел мастерски; он, можно сказать, был рецензентом по природе, однако, если бы он продолжал рецензировать книги и спектакли, то из определения, данного ему Бальзаком – «одна из второстепенных знаменитостей»36,– правильным было бы только прилагательное, о знаменитости же говорить бы не приходилось. Знаменитым Гримо стал благодаря тому, что нашел для своего дара новое применение – стал рецензировать не книги, а продукты и кушанья, магазины и рестораны.
В середине ноября 1802 года Гримо де Ла Реньер задумал и стремительно, меньше чем за месяц, сочинил книгу, на титульном листе которой значилось: «Альманах Гурманов, призванный руководствовать любителями вкусно поесть. Сочинение старого знатока. Первый год, содержащий Календарь снеди и Гастрономический путеводитель, или Прогулку Гурмана по кварталам парижским». Этот первый том, продававшийся по цене 1 франк 80 сантимов, появился в продаже уже в середине декабря 1802 года37 и имел большой успех38. За 1803–1804 годы он выдержал три издания, а в предуведомлении к АГ–5 Гримо сообщает о «22 тысячах экземплярах первых четырех томов, рассеянных по поверхности земного шара» (АГ–5, IX) – число для того времени и для книги, не являющейся романом, весьма значительное, если учесть, что в начале XIX века средний тираж книги не превышал тысячи экземпляров39.
В первом томе определилась структура, которая сохранена во всех остальных томах, или «годах» (всего Гримо с 1803 по 1812 год выпустил восемь томов «Альманаха Гурманов»): на фронтисписе изображена некая сцена из жизни гурмана, которая подробнейшим образом описана на обороте титульного листа40. Затем следует посвящение какому-либо гурману, затем предисловие – и дальше автор переходит к сути дела. Эта суть – еда, однако рассказ о ней ведется – и это было главным новшеством Гримо – вовсе не в форме поваренной книги (их во Франции к этому времени вышло уже немало)41.
Через два десятка лет, 5 марта 1823 года, Гримо писал об этом своему корреспонденту и единомышленнику, «профессиональному» гурману маркизу де Кюсси: «Мой “Альманах Гурманов” имел успех потому, что был написан вовсе не в том стиле, в каком пишут эти господа [авторы поваренных книг], и что в нем имелось кое-что помимо формул и рецептов, кончающихся неизбежным “подавать в горячем виде” […] ведь я первым открыл способ писать, который затем нарекли гурманской литературой»42. Эту свою цель – писать так, чтобы его книгу «невозможно было спутать с обычными поваренными книгами» (АГ–4, XIII–XIV),– Гримо подчеркивал в предуведомлениях едва ли не ко всем томам альманаха. Строго говоря, если в первом томе рецептов действительно немного, в последующих томах они появляются, хотя и не занимают центрального места. Но и рецепты у Гримо не такие, как у остальных авторов поваренных книг; они «изложены весьма забавным слогом» (АГ–4, XIV). Об этом Гримо также неоднократно – и не без гордости – упоминал в предуведомлениях: «Мы прекрасно понимаем, что успехом нашего издания мы обязаны той веселости, которая царит в нашем первом томе» (АГ–3, VII–VIII); «Первый том этого издания представлял собой истинный разгул остроумия, неиссякаемый источник веселости» (АГ–4, XIII).
И в самом деле: из первого тома «Альманаха Гурманов» читатель не мог узнать рецепта приготовления «страсбургского пирога» (паштета из гусиной печенки), но зато он мог узнать, что именно чувствует гусь, которого откармливают для этого паштета, подвергая всяческим мучениям: «Пожалуй, эту жизнь можно было бы назвать совершенно невыносимой, когда бы гуся не утешала мысль об ожидающей его участи. Ведь гусь знает, что страждет недаром, что колоссальная печенка его, нашпигованная трюфелями и одетая замысловатою коркою, стараниями господина Корселле разнесет его славу по всей Европе,– и потому покоряется своей участи безропотно, не проронив даже слезинки» (наст. изд., с. 125–126)43. «Гастрономический» текст Гримо нашпигован (когда пишешь о нем, кулинарные сравнения напрашиваются сами собой) политическими «шпильками»: «Уши, язык и ножки свиньи предоставляют отличное поле деятельности и для повара, и для колбасника; право съесть их в рубленом виде ничуть не менее законно, чем все прочие, записанные в чересчур прославленной Декларации прав человека» (наст. изд., с. 90), литературными аллюзиями (юный кабанчик поименован «кухонным Ипполитом» и характеризуется цитатой из Расиновой «Федры» – наст. изд., с. 93) и проч., и проч.
Гримо, конечно же, знал те самые поваренные книги, которым так не хотел подражать44, и пользовался ими при сочинении собственных текстов. Некоторые из своих источников он указывает (см., например, список книг из «библиотеки Гурмана» в описании фронтисписа к АГ–4), о некоторых умалчивает. Например, более чем вероятно, что при сочинении альманаха настольной книгой ему служил анонимный «Карманный словарь повара, буфетчика и дистиллятора» (Dictionnaire portatif de cuisine, d’office et de distillation, 1767; 2-е изд. 1770). В одной из статей, посвященных Гримо, указано, что он заимствовал из этой книги перечень способов приготовления яиц45. Это справедливое наблюдение можно существенно расширить: «Карманный словарь» скорее всего послужил источником не только для главы о яйцах, но и для многих других глав; и способы приготовления продуктов, и медицинские замечания об их полезности или вредности в «Словаре» и в первом томе альманаха Гримо совпадают очень часто. И тем не менее «Альманах Гурманов» радикально отличается от «Карманного словаря». Вот пример того, как Гримо перерабатывает источник: в главе «О дроздах» приводится рецепт некоего блюда под названием «можжевеловые дрозды»; рецепт этот взят практически дословно из «Карманного словаря», но в конце прибавлена фраза, в «Словаре» немыслимая: «Рагу получится именно то, о каком говорят: пальчики оближешь; под таким соусом можно запросто съесть родного отца» (наст. изд., с. 162).
Известная доля литературности присутствовала в книгах о еде и до Гримо; например, прямой предшественник «Альманаха Гурманов» – «Альманах съестного, необходимый всем особам с хорошим вкусом и хорошим аппетитом»46 – не только перечислял съестные припасы по месяцам (аналог «Календаря снеди», каким открывается АГ–1) и приводил список поставщиков этих припасов, но и сопровождал эти полезные сведения забавными историями и стихами на соответствующие темы47. Сопровождал – но не перемешивал эту забавность (стилистическую игру, иронию, всепроникающую литературность) непосредственно с полезными сведениями, не переплетал их так плотно, чтобы они сделались практическими неразделимыми.
Французский исследователь Жан-Клод Бонне точно заметил, что для Гримо сами названия блюд (а также связанные с ними игра слов и анекдоты) важнее, чем конкретные способы их приготовления48. В самом деле, одно из главных орудий Гримо – это раблезианские перечисления49; он с явным удовольствием, чтобы не сказать сладострастием, перечисляет способы приготовления того или иного блюда, деликатесы наилучших парижских лавок, «фирменные» блюда разных городов. Гримо и сам признавался в главе «О соусах» (АГ–5): «Мы лишь перечислили эти соусы и ни слова не сказали о способах их приготовления, хотя могли бы это сделать без труда, ибо названные способы нам превосходно известны и составляют часть нашей гастрономической теории. Но “Альманах Гурманов” – не поваренная книга; наша цель – разжигать аппетит читателей, удовлетворять же его мы предоставим мастерам поварского искусства» (наст. изд., с. 488).
Итак, Гримо выпустил такую книгу о еде, которая была обращена не к ее изготовителю (повару), а к ее потребителю; это была книга для чтения, посвященная исключительно еде: таких до Гримо еще не писали. В то же самое время книга эта могла использоваться как практическое руководство при составлении меню или покупке продуктов (эта двойственность – совершенная литературность и одновременная совершенная приземленность – одна из главных особенностей АГ). Гримо замыслил рассказать не только обо всем богатстве продуктов, какими могут располагать парижане в разные времена года (эту задачу выполняет первая часть первого тома – «Календарь снеди»), но и обо всех «точках» парижской торговли, где можно купить эти продукты в сыром виде (лавки, магазины, рынки) или съесть уже приготовленными (рестораны и кафе). Эту задачу решает вторая часть первого тома – «Гастрономический путеводитель», а именно «точный и полный перечень наилучших изготовителей и продавцов съестного всех родов, а равно некоторых фабрикантов и торговцев, чьи товары имеют касательство до застолья» (АГ–8, 201). Именно этот «Путеводитель» имел в виду Шарль Кольне, автор поэмы «Искусство обедать в гостях» (1810), когда назвал автора «Альманаха Гурманов» «дотошный архивист всех кухонь знаменитых»50.
С «Путеводителем» в альманах входят история и география Парижа: улицы, существующие по сей день, и улицы, исчезнувшие при перестройке города в середине позапрошлого века, рестораны и магазины, ставшие достоянием истории, и те, которые действуют по сей день, а главное – поскольку перо Гримо не утрачивает своей яркости и в этой части,– перед глазами читателей являются такие фрагменты парижской гастрономической повседневности, как «связки разнокалиберных сарделек, иные из которых подозрительно напоминают гигантские фаллосы» (наст. изд., с. 199); рыбные рестораны, где устриц «съедают так много, что в скором времени одни только раковины образуют настоящую скалу, которая поднимется выше самых высоких домов на этой улице» (с. 228), и рыбные ряды Центрального рынка, на прилавках которого «надменный лосось, горделивый осетр и величественная тюрбо соседствуют со скромным мерланом, верткой макрелью и смиренной селедкой; они пребывают здесь не так, как в море, а так, как пребудем мы все однажды в мире ином, то есть на правах совершенного равенства» (наст. изд., с. 235).
Итак, «Альманах Гурманов» – занимательная книга для чтения, но при этом еще и книга историческая, ибо позволяет узнать из первых рук, чем торговали и чем угощали в Париже в 1803 и последующих годах. Книга эта писалась не только для современников (хотя Гримо подчеркивал, что «Путеводитель» его «сделался гурманским компасом для жителей столицы и даже для чужестранцев, приезжающих в наш город лишь на короткое время» – АГ–4, ХV), но и для потомков: Гримо был убежден, что известия о новых открытиях в поваренном искусстве, которые он помещает на страницах своего альманаха, «послужат однажды материалами для писателя, который вознамерится сообщить публике историю французской кухни в начале девятнадцатого столетия» – АГ–2, 272).
Так и произошло. Позднейшие писатели и историки используют эти материалы охотно и обильно, причем даже в тех случаях, когда сам автор им малосимпатичен. Так, историк гастрономии Ж-Ф. Ревель называет Гримо, и притом несправедливо, «первым профессиональным нахлебником»51, но когда ему нужно свидетельство об отличии жарильщика от пирожника или о формах подачи вина – ссылается, естественно, на «Альманах Гурманов» как на самый надежный источник. Более того, потомки используют не только материалы, которые сообщает Гримо, но и заданную им структуру рассказа о еде. Автор книги о «французской гастрономической литературе» Паскаль Ори замечает, что в этой области «все восходит к Гримо», так как за те несколько лет, что он издавал «Альманах Гурманов», он придумал все, на чем основывается эта литература, и в течение последующих двух столетий его преемники только развивали те модели, которые предложил он. «Календарь» породил бесконечную череду гастрономических «хроник», а «путеводитель» – не менее многочисленные «ресторанные гиды». Главное же открытие Гримо, продолжает Паскаль Ори, заключалось в том, что он, верный своему рецензентскому дару, «основал критику еды»52. Ведь Гримо не остановился на той картине и тех оценках, которые содержатся в первом томе. Начиная с третьего тома, он помещал в каждом из альманахов новую «прогулку Гурмана по Парижу», где подробно фиксировал изменения к лучшему и к худшему в тех лавках и магазинах, о которых уже рассказывал прежде53.
В первом томе Гримо исчерпал описания животного и растительного мира, идущего в пищу человеку. В следующих томах ему пришлось искать новые предметы и новые подходы. Сам он в предуведомлении к АГ–4 назвал плодом такого нового подхода «статьи о гурманской морали и философии – предмете богатом и почти не исследованном». К морали и философии мы еще вернемся, а пока надо сказать, что для историка повседневности следующие тома альманаха ничуть не менее ценны, чем первый. Если в первом томе дело происходит в основном «на свежем воздухе», на парижских улицах, то в следующих томах мы попадаем внутрь парижских домов и, можно сказать, внутрь дневного распорядка парижанина. Что такое завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин в понимании парижского жителя 1800-х годов, как устроена трапеза, что такое подачи (или перемены) блюд, чем вводное блюдо (entrée) отличается от преддесертного (entremet)54, как лучше подавать суп, как резать жаркое, как поить вином и как подносить кофе – Гримо рассказывает обо всем этом подробно и обстоятельно, но притом храня верность избранной повествовательной манере и постоянно рассыпая по тексту эффектные определения («обеды-брюнеты и обеды-блондины») и остроумные афоризмы вроде: «Иные люди опасаются опрокинутой солонки и тринадцати гостей за столом. Между тем тринадцать гостей страшны лишь в том случае, если еды хватит только на двенадцать. Что же до солонки, главное не опрокинуть ее в блюдо с превосходным кушаньем» (наст. изд., с. 386) или: «Ничто так не губительно для аппетита, как кусок, который невозможно разжевать; упругие телеса – дело хорошее, но не в собственной тарелке» (с. 336).
Итак, Гримо был замечательный стилист и создатель гастрономической литературы для чтения; Гримо был замечательный наблюдатель повседневности и оставил грядущим историкам множество материалов, которыми они с благодарностью пользуются по сей день. Наконец, Гримо на заре ресторанного дела (первые рестораны в Париже возникли незадолго до Революции 1789–1794 годов, а расцвели сразу после нее, о чем Гримо подробно рассказывает в начале своего «Гастрономического путеводителя») стал «рецензировать» кафе и рестораны и расставлять им оценки (пусть и не выражавшиеся в том или ином числе звездочек).
Казалось бы, всего перечисленного уже достаточно, чтобы признать Гримо автором, достойным внимания, и объяснить, почему его альманах переиздают до сегодняшнего дня55.
Однако сказанное лишь в малой степени отражает своеобразие личности Гримо, его текстов и его «бытового поведения». Дело в том, что он не просто сочинял «Альманах Гурманов», на страницах которого называл конкретные адреса и имена и превозносил одних торговцев, а с другими вел непримиримую войну56; он организовал вокруг своего альманаха целое игровое сообщество (Дегустационный суд присяжных) и наладил «обратную связь» с торговцами съестным, которым настоятельно рекомендовал присылать ему образцы своей продукции (он назвал эти образцы позаимствованным у дипломатов термином «верительные грамоты») – и они на этот зов откликнулись. О Дегустационном суде подробно рассказано в АГ–5 (см. наст. изд., с. 504–508), поэтому здесь поясним совсем коротко: уже в первом томе альманаха Гримо призвал торговцев одарять его образцами своей продукции, причем не только ради успеха альманаха, но и ради их собственного успеха, ибо «самые лучшие вещи нуждаются в том, чтобы о них рассказывали во всеуслышание, молчание же для всякого человека, который зависит от мнения публики, есть вещь самая губительная. Торговцам на заметку» (АГ–7, 208). Но и этого Гримо показалось мало, и он учредил специальное общество, которое раз в неделю, по вторникам, собиралось в его особняке на Елисейских Полях для дегустации и оценки всех этих приношений57. В принципе в таком «питательном» сообществе не было ничего неслыханного. Подобные собрания существовали в Париже еще в предыдущем столетии: таков был «песенно-питательный» «Погребок», превратившийся в 1806 году в «Новый погребок», многие члены которого были дружны с Гримо; таково было уже упоминавшееся Общество Среды, где Гримо также был активным членом и едоком. Разница заключалась в том, что предшествующие сообщества собирались только для удовольствия, а у Дегустационного суда имелась практическая цель: оценивать продукты и кушанья, с тем чтобы Гримо объявлял вердикты суда на страницах альманаха. Хотя некоторые биографы Гримо утверждали, что Дегустационный суд – не более чем художественный вымысел58, сохранившиеся документы (приглашение на очередной вторничный обед, меню этого обеда) убеждают, что «присяжные» в самом деле собирались в доме Гримо.
Вся деятельность Дегустационного суда была строго регламентирована. Гримо, бывший адвокат Парижского парламента, не забыл о своем правоведческом образовании: были строго установлены и правила приема в члены Суда, и правила поведения на заседаниях.
Но самое любопытное заключается в том, что Гримо стремился регламентировать не только деятельность этого небольшого кружка Гурманов, «чьи челюсти уже много лет трудятся без устали и, можно сказать, состарились на жевательной службе» (наст. изд., с. 505), но и жизнь гораздо более широкого круга людей: Амфитрионов (то есть хозяев дома, задающих обеды) и их гостей. Для тех и других он разработал подробнейшие правила поведения, которым, собственно, посвящена добрая половина текстов «Альманаха Гурманов», а также другая книга Гримо, посвященная сходным материям, – выпущенный в 1808 году «Учебник для Амфитрионов». Это в самом деле практическое пособие, состоящее из трех частей. В первой подробно рассказывается, как следует разрезать разные виды мяса, птицы и рыбы. Во второй предложены образцы меню на все случаи жизни. Наконец, в третьей, наиболее интересной для нас, изложена своего рода философия «гурманской учтивости». Гримо в деталях расписывает все: как приглашать гостей и как принимать приглашения, когда приходить в гости («если вас зовут “к пяти часам”, это означает, что вас ждут в шесть. Если вас приглашают “в пять часов” – это значит, что прийти следует в половине шестого. Наконец, если в приглашении написано “ровно в пять”,– приходите в пять, и ни минутой позже» – наст. изд., с. 396), как вести себя за столом, как просить (или не просить) положить себе того или иного кушанья, на какие темы разговаривать за столом и какие темы обходить стороной, как уходить из дома Амфитриона, как благодарить его за обед (нанося ему так называемый «пищеварительный» визит) и как намекать на желание удостоиться приглашения на новый обед (для этого наносят визит, нареченный самим Гримо «визитом для возбуждения аппетита»).
Гримо преподносит эти правила не как плод собственного творчества (можно даже сказать, законотворчества), а как выжимку из неписанных законов светского поведения, которые сам он знал безупречно, на уровне автоматизма (Ретиф де Ла Бретон с разночинским раздражением заметил в 1802 году, в ту пору, когда бывшие друзья уже окончательно рассорились: «Ла Реньер-младший наделен врожденной учтивостью, о которой даже не вспоминает, учтивостью, которая у него в крови и, должно быть, не покидает его даже во сне»59). Однако очень многое здесь – плоды кодификаторской деятельности самого Гримо60. Автор «Альманаха Гурманов» бесспорно родился не только рецензентом, но и законодателем; он, можно сказать, страдал своего рода законодательной манией, обожал упорядочивать и предписывать правила. Дело доходило до смешного: рассказывая в АГ–4 о загородной пирушке, он уточняет, как поступать с корзиной, куда сложены съестные припасы: «каждый возьмет корзину и понесет ее за ручку» (как будто это нужно оговаривать!), причем здесь, как и во многих других случаях, описание вымышленных ситуаций плавно перетекает в разговор о ситуациях вполне реальных, а разговор о еде – в разговор о законах. Вот другой пример: в городе Рьоме живет трактирщик Симон, который готовит удивительно вкусных лягушек, и никто не может понять, в чем его секрет; так вот, чтобы после смерти Симона секрет этот не пропал для гурманов, следует обязать трактирщика записать способ обращения с лягушками и сдать в суд в запечатанном конверте, чтобы затем либо передать наследникам, либо сделать всеобщим достоянием (юридически ход вполне грамотный).
Для Гримо в гурманском мире нет неважных мелочей; здесь важно все, потому что сам этот мир (мир Амфитрионов и гостей), по его убеждению, значит гораздо больше, чем окружающий «большой мир». Смена одного ресторатора на другого важнее смены министра, нотариуса или прокурора: кто бы ни занимал перечисленные должности, дела все равно будут идти примерно так же, как и прежде, но стоит хорошей ресторации перейти в другие, неумелые руки, и публика тотчас покинет это заведение, поскольку глотки неподкупны, а желудки беспристрастны (АГ–7, 31–39). Сходная логика присутствует в главе «О часах, рассмотренных в их отношениях с едой» (наст. изд., с. 524–527): все в мире (свадьбу, похороны, сражение и подписание мирного договора) можно безболезненно, а то, и с пользой для дела, отложить – неотлагаем только обед, ибо тут минутное промедление может все погубить. Что можно сказать о Безансоне? Что это «родина красильной резеды и превосходной сухой горчицы» (АГ–7, 157). Что такое благодарность? «Массьё [педагог 1-й половины XIX в.] утверждал, что благодарность – это память сердца; но когда дело идет о вкусной еде, не будет ли более точным назвать благодарность памятью желудка?» (АГ–8, 176)61. Что может обеспечить человеку бессмертную славу? «Десерт и чай, явившиеся в сопровождении отличного бишопа» (наст. изд., с. 371), а также колбасы, паштеты, пироги и пирожные62.
Гастрономический мир для Гримо важнее окружающего его «большого» мира, а этот большой мир служит «Альманаху Гурманов» не более чем материалом для сравнений. Литература и даже просто язык вообще охотно используют кулинарные метафоры. Это очень точно зафиксировано в упомянутой выше рецензии на русский перевод первого тома альманаха: «надобно вспомнить, что множество метафор, употребляемых нами в разговоре и на письме, когда дело идет о слоге, заимствовано от чувства, господствующего во рту, и от поваренных предметов. Вкус есть верховный судия и в Словесности, и над блюдами; хорошее сочинение доставляет разуму сладкую пищу, и мы говорим, что комедии Княжнина и Фон Визина приправлены солью»63.
Гримо был того же мнения: «Особенно замечательно это гастрономическое искусство тем множеством сравнений с обыденной жизнью, какие может извлечь из него человек созерцательного ума» (наст. изд., с. 554). Кулинарными метафорами Гримо пользовался еще задолго до того, как стал гурманом. Предуведомление к «Философической лорнетке» (1785) гласит: «Острые блюда приятно щекочут нервные окончания чуткого нёба. Однако тот повар, который не знает меры, погубит рагу, обожжет нёбо едока и будет выгнан ко всем чертям. Такова же в точности участь писателя вообще и писателя-моралиста в частности»64. Однако «Альманах Гурманов» существенно переставляет акценты: если раньше сравнения с гастрономией поясняли литературную проблематику, то теперь, наоборот, сравнения с литературой поясняют проблематику гастрономическую. Таковы, например, сравнения образцовых колбасников или пирожников с Расином, а фабрикантов рангом пониже – с второстепенным современником Расина драматургом Кампистроном или систематическое применение к гастрономии цитат из «Поэтического искусства» Буало, порой с заменой «поэзии» на «гурманство». Кухонная утварь сравнивается не с чем иным, как с библиотекой: «Правильно обставить кухню почти так же трудно, как собрать хорошую библиотеку; выбор необходимой утвари и орудий ничуть не менее сложен, нежели выбор книг, которые состоятельный хозяин дома желает выставить на всеобщее обозрение» (АГ–5, 27). Для описания гастрономических реалий и законов в ход идет не только литература, но вообще любые предметы «большого мира». Например, о поджаривании в масле на сковородке говорится: «Сковородка – другая лавка старьевщика, где всякий может обменять старое платье на более новое, а обычный свой наряд на маскарадное домино. Немногие замечают эти метаморфозы, но истинного Гурмана не проведешь» (АГ–5, 116). Впрочем, все это еще параллели довольно невинные.
В текстах Гримо встречаются вещи посильнее – здесь, например, изобретатели оригинальных блюд именуются «отцами гурманской церкви» (УА, 12765), Ватель (дворецкий, покончивший с собой из-за того, что к столу вовремя не доставили свежую морскую рыбу) называется «мучеником, чье имя открывает гастрономические святцы» (наст. изд., с. 572), а про «великодушную свинью» говорится, что она спешит в Париж, «чтобы по слову Кора и Массона, Жана и Кайо плоть и кровь ее преобразились в кровяные колбаски и аппетитные сосиски» (наст. изд., с. 590).
Этот юмор на грани кощунства не смущал, по всей вероятности, ту часть публики, которая раскупала АГ, но очень не нравился блюстителям нравственности из числа журналистов. Рецензент из «Газеты искусств, наук и литературы» (1807, т. 17) возмущается цинизмом Гримо, дерзающего ставить изобретателя паштета из осетрины на одну доску с изобретателями компаса и книгопечатания, гурманскую мораль – на одну доску с моралью христианской, а автора «Альманаха Гурманов» – на одну доску с величайшими мыслителями и писателями, Паскалем и Лабрюйером66. Сходным образом другой рецензент, опубликовавший свою негодующую статью об альманахе в «Газет де Франс» 1 января 1813 года, возмущается тем, что его автор «рассуждает о гастрономии так же серьезно, как о медицине или юриспруденции» (не говоря уже о Церкви).
Рецензенты не хотели соглашаться с тем, что еда главнее жизни и что в жизни нет ничего важнее, чем обед, а Гримо на этом настаивал – отчасти, конечно, по причине игривого склада ума и игрового стиля письма, но, как нам кажется, были у этого упорства и причины более серьезные. Причины эти заключались в том, что Гримо создавал свои альманахи в послереволюционную эпоху.
По воспитанию и культуре Гримо был, как нетрудно заметить хотя бы по именам тех авторов, на которых он ссылается, человек XVIII века67 (что нисколько не удивительно, учитывая его год рождения – 1758). Его любимцы – это критики XVIII века, ведущие «внутрипартийную» борьбу с Вольтером, это комедиографы XVIII века и поэты того же столетия, сочинители застольных песенок, которым посвящена отдельная глава в АГ–2. И стиль Гримо, иронический, но одновременно слегка высокопарный, многословный и перифрастический,– это тоже в большой степени стиль XVIII века. Однако автор «Альманаха Гурманов» очень хорошо сознавал, что живет и пишет он в веке XIX-м (см. подпись под фронтисписом АГ–1 – «Библиотека Гурмана XIX столетия»). В одном из томов альманаха Гримо уверяет, что главным событием этого нового века стало изобретение сотейника (АГ–7, 60), однако в реальности ХIХ столетие было не только эпохой сотейника, но еще и эпохой, наступившей после французской Революции, которая оказала огромное влияние на мир в целом и на «гурманскую вселенную» в частности, и автору «Альманаха Гурманов» это было прекрасно известно.
Конечно, храня верность своему «гурманоцентризму», Гримо клеймит в первую очередь такие пагубные последствия Революции, как уничтожение погребов со старинными винами (глава «О вине» в АГ–2) или необратимые перемены в употреблении вина шабли: «До того, как Революция все смешала и все извратила, врачи прописывали больным шабли для излечения подагры и камней в почках, и на очень многих это средство оказывало действие поистине волшебное» (АГ–5, 23). Однако в других местах он пишет о вещах куда более глобальных – о перемене отношений между сословиями и даже между отдельными людьми. Перемена отношений между сословиями – это переход богатства от старинной знати к «новым французам», вчерашним крестьянам или мещанам, которые обзавелись особняками и миллионами, но не умеют ни заказать обед, ни принять гостей, ни разрезать за столом индейку или окорок. Эти изменения Гримо подробно разбирает в предисловиях к первому тому «Альманаха Гурманов» и к «Учебнику для Амфитрионов». И там и там он формулирует свою цель – научить новых французов учтивости, правилам науки «жить в свете», а именно – за столом68.
В последнем томе «Альманаха Гурманов», в главе, носящей «историческое» название «О совершенствовании поваренного искусства в XIX столетии», Гримо подводит итог своим достижениям в этой сфере: «Рискуя заслужить упреки в смешном тщеславии, позволим себе заметить, что к совершенствованию поваренного искусства приложили руку и мы с нашим сочинением. После 1803 года, когда “Альманах Гурманов” впервые увидел свет, среди гостей и Амфитрионов распространилась привычка исследовать и улучшать великое искусство ублажения желудков. Чувство голода, губительное для искусства, ибо голодный человек ест все без разбору, было оставлено толпе; у знатоков его заместил аппетит, возбуждаемый посредством поваренной науки. В обеде стали видеть не простую последовательность вводных блюд, жаркого и блюд преддесертных; в тех, кто этот обед готовит, перестали видеть заурядных поварят; труд их стал цениться высоко, и соревновательность, мать совершенства, воодушевила поваров на новые подвиги. На Амфитриона перестали смотреть как на некий автомат, чьи достоинства сводятся к способности тратить свои деньги на прокорм людей острого ума; за ним самим признали острый ум, а застолье сделалось плацдармом для решения дел политических и литературных, финансовых и коммерческих» (АГ–8, 60–61).
Все это очень важно, как важно и то, что сам взлет парижского и, шире, французского чревоугодия был своего рода компенсацией за страхи и лишения голодных революционных лет. Но одно первостепенное свойство застолья в этом перечне опущено. Между тем в других местах Гримо недвусмысленно дает понять, что видит в застолье не только место для улаживания разных дел, но и место смягчения, а то и вовсе уничтожения социальных конфликтов, место, где царит взаимная уступчивость, куда нет доступа распрям и обидам. Такая атмосфера, по свидетельствам бесчисленного множества мемуаристов, царила в парижских салонах XVIII века. Это та самая атмосфера, которая у Гримо описана во втором томе «Альманаха Гурманов» в главе «Об ужине», где автор оплакивает оставшиеся в прошлом веке «восхитительные ужины, которые собирали в святилищах роскоши весь цвет двора, города и словесности и во время которых между гостями было куда больше равенства, неразлучного с истинным наслаждением, нежели при провозглашенной вскоре республике; ужины, где люди родовитые, сановные, умные и зажиточные мерялись исключительно любезностью, вкусом и изяществом; где никто не хвастал выдающимися достоинствами, ибо жизнь в свете научала всех смирять самолюбивые порывы; где первая красавица и модный поэт, всемогущий министр и придворный фаворит казались одинаково ревностными приверженцами истинной свободы» (наст. изд., с. 305).
Все мемуаристы не только единодушно прославляют ту гармонию, которая существовала в салонах некогда, но также единодушно утверждают, что конец ей положила Революция, которая заменила всеобщее согласие политическими распрями, проникнувшими повсюду, в том числе – свидетельствует Гримо – и в застолье: «все общественные собрания превратились в самые настоящие арены; высказывать мнение о чем бы то ни было сделалось опасно […] учтивость покинула табльдоты, и трапеза за общим столом превратилась в форменный грабеж; порядочные люди за такой стол сесть не осмеливались, прочие не могли поладить» (с. 552).
Революционное переустройство всего общества в целом не удалось; Гримо предлагает другой путь: перестроить по предлагаемым им самим законам общество Амфитрионов и гостей, а об остальных не заботиться (ведь гастрономический мир превыше всего). Таким путем можно будет вернуть утраченную гармонию, потерянный социальный мир, который в салонах XVIII века создавался «сам собой», а теперь, в начале века XIX-го, требует от законодателя Гримо определенных усилий. Именно для этого он желает обучить «новых французов» законам застольной учтивости (той самой, которую до Революции презирал и пародировал). Иногда он приоткрывает эту «сверхзадачу»: гастрономический порядок, говорит он, устанавливается ради того, чтобы «все гости, даже самые робкие, наелись вдоволь и ощутили, что их связует тот дух братства, какой совместная трапеза рождает куда скорее, чем все так называемые республиканские конституции» и чтобы из знания Амфитрионами и гостями своих обязанностей родилось «то согласие, то братство и та гурманская гармония между хозяевами дома и их сотрапезниками, которая одна только и может даровать тем и другим блаженство сколько-нибудь продолжительное» (наст. изд., с. 516, 622–623). Последние строки – это финал последней главы «Учебника для Амфитрионов», а значит, мысль, для автора крайне важная.
Конечно, Гримо очень сильно идеализировал застольную учтивость69; достаточно сравнить его идиллическое описание дореволюционных табльдотов, где каждый якобы был готов добровольно уступить другому лучший кусок, с изображением тех же табльдотов в написанной по свежим следам «Картине Парижа» Мерсье, чтобы понять, что для беспристрастного современника никакой социальной гармонией там и не пахло70. Гримо и сам сознавал, что, например, среди «любителей обедать в гостях» есть не только люди, способные отплатить хозяину за гостеприимство приятной беседой, но и нахлебники-«паразиты», готовые хозяина не только объесть, но и обобрать.
Но в том-то и заключается оригинальность Гримо де Ла Реньера, что крайний практицизм он сочетал с крайним же утопизмом. Практичности автору «Альманаха Гурманов» было, как мы видели, не занимать; он знал, где что продается и что сколько стоит, помнил, при какой власти живет, и умел при случае сделать новому режиму приличный комплимент (ср. пассаж о сладких плодах 18 брюмера в финале главы «О полднике» – наст. изд., с. 303). И для установления равенства за столом Гримо предлагал совершенно конкретные меры: например, никто не должен пользоваться за столом услугами собственных лакеев, потому что у богатых они есть, а у бедных нет; всем должны прислуживать лакеи хозяина дома, тогда бедным гостям не придется унижаться перед богатыми, а для того чтобы все вообще могли обходиться без помощи слуг, нужно отменить порочный обычай оставлять вино в распоряжении лакеев, как это зачастую делали в XVIII веке; бутылки должны стоять на столе, и тогда каждый гость сам нальет себе столько вина, сколько захочет.
Но эта практичность совершенно не отменяет утопической составляющей текстов Гримо, в котором можно увидеть не только последователя Ретифа де Ла Бретона (тот в своих сочинениях предлагал планы переустройства самых разных сфер жизни, включая публичные дома), но и предшественника Сен-Симона и Фурье71. Только утопия у Гримо была особого рода – гастрономическая. Как всякий утопист, Гримо стремится к целостному, тотальному описанию мира72 (в его случае – мира гастрономического, который вытесняет и заменяет большой социальный мир); в этом мире он желает установить такой порядок, при котором все распри исчезли бы и между людьми воцарилось согласие73. Как всякий утопист, он желает достичь идиллической гармонии и всеобщего благоденствия с помощью мелочных предписаний74; как всякий утопист, намеревается привести людей к миру и гармонии с помощью самого деспотического принуждения (не случайно он апеллирует к «гурманской полиции», которая должна призвать к порядку некоего зарвавшегося торговца75). Мир, который Гримо хочет построить, утопичен, но элементы, из которых он его строит (правила поведения за столом), вполне реальны. Впрочем, конкретность в мелочах и фантастичность в результатах – особенность всех утопистов; Фурье тоже регламентировал жизнь в придуманном им мире во всех подробностях76. Кстати, Фурье на свой лад был также неравнодушен к гастрономической стороне жизни в изобретенной им стране Гармонии: меню для ее жителей призваны были разрабатывать специально обученные люди – «гастрософы»; другое дело, что у Фурье этот продуманный до мелочей рацион – лишь часть утопического мира, в котором существуют и другие сферы, а у Гримо идеальный гурманский мир замещал мир реальный. И вдобавок Фурье, говорят, никогда не смеялся. Чего никак нельзя сказать о Гримо.
Гримо – бытописатель, историк гастрономии, остроумный литератор – интересен и без учета утопических притязаний, но они прибавляют к его портрету очень важные оттенки, а главное, отличают его от многочисленных последователей, продолжавших разрабатывать открытую им тематику без этой утопической сверхзадачи77.
Последний, восьмой том «Альманаха Гурманов» Гримо выпустил в 1812 году. Есть сведения, что он собирался продолжить работу и выпустить девятый том в 1820, в 1822, в 1826 и даже в 1832 году78. Однако ни один из планов не осуществился. Вообще после альманаха Гримо уже ничего не писал, кроме писем. 26 мая 1812 года он провел последнее, 465-е парижское заседание Дегустационного суда, в июне этого года приобрел в парижском пригороде Вилье-сюр-Орж поместье под названием Сеньория и переселился туда на постоянное жительство79; в Сеньории он иногда устраивал обеды для старых друзей, которые именовал сельскими заседаниями Дегустационного суда, однако то была лишь оболочка без прежнего содержания. В Сеньории Гримо и скончался 25 декабря 1837 года, успев еще прочесть произведения некоторых продолжателей своего дела.
Кто-то из них использовал название и построение его альманаха, кто-то просто разрабатывал тематику, к которой он привлек внимание публики, и развивал традиции «гурманской литературы».
Впрочем, самыми первыми, как это всегда и бывает, откликнулись пересмешники-пародисты. Если Гримо учил, как питаться вкусно и изысканно, пародисты давали уроки от противного: как есть невкусно или вовсе не есть. Так, уже 1803 году вышли в том же формате книжечка «Дерьмиана, или Поносный учебник, продолжение Альманаха Гурманов»80 и «Постоянный альманах голодранцев, составленный для исправления Альманаха Гурманов»81, а в 1808 году появилась книга «Анналы голодания, дополнение Альманаха Гурманов»82 – рассказ (с сильным привкусом социального протеста) бедняка о том, как существовать, не только не имея роскошного стола, но и вообще, что называется, питаясь воздухом. Автором этой книги на титульном листе объявлен сам Гримо, хотя в книге он упоминается в третьем лице, а главное, вся суть книги противоположна духу его сочинений, зато форма ее полностью повторяет форму «Альманаха Гурманов»: книгу предваряет фронтиспис с изображением пустого стола, место «Календаря снеди» занимает «Календарь несчастий», а место рецептов вкусных блюд – советы, как выжить вовсе без еды.
Чуть позже пародистов к делу подключились единомышленники. И если сами тексты альманахов Гримо де Ла Реньера французы начали переиздавать отдельными книгами только во второй половине XX века, то к придуманным им названию и структуре они прибегали и раньше.
Первое настоящее (а не шутовское) продолжение «Альманаха Гурманов» появилось, собственно говоря, не только при жизни Гримо, но и при его участии; это «Газета гурманов и красавиц»83, которая выходила с 1806 года стараниями тех же авторов, которые входили в общество «Новый погребок» и собирались на ежемесячные обеды в ресторане «Канкальская скала». Гримо, также принадлежавший к этому кругу, на первых порах принимал участие в выпуске газеты, но скоро понял, что это – конкуренция его собственному альманаху, и вышел из дела; c 1808 по 1815 год газета выходила под названием «Французский эпикуреец, или Обеды “Нового погребка”» уже без участия Гримо.
Наиболее интересные «гастрономические» тексты Гримо (а также фрагменты из «Газеты гурманов и красавиц») были перепечатаны в сборнике «Французский гастроном» (1828)84, где много лестных ссылок на Гримо, а фразы из его альманаха (например, «в гастрономии, как и в сладострастии, у каждого возраста свои наслаждения») использованы в качестве эпиграфов. Помимо перепечаток в книгу 1828 года включены и оригинальные «гастрономические тексты», написанные по образцу «Альманаха Гурманов» (в ней, в частности, есть разделы «Год Гурмана» и «Гастрономическая топография Франции»).
Четырьмя годами раньше плодовитый литератор Орас Рессон (1798–1854), соавтор и приятель Бальзака, комплилятор и составитель всевозможных бытовых «кодексов» (кодексов разговора и туалета, супружеского и охотничьего), в соавторстве с Леоном Тьессе стал выпускать «Новый Альманах Гурманов, призванный руководствовать любителями вкусно поесть, сочинение А.Б. де Перигора85», с подзаголовком «Посвящается желудку», с фронтисписом «Вдохновение Гурмана» и с приложением гастрономической карты Франции86. С 1824 по 1826 год вышло три тома (последний сочинял один Тьессе; Рессон устранился, так как поверил слуху, что в гурманскую литературу хочет вернуться сам Гримо). Впрочем, тот же Рессон в 1827 году уже самостоятельно выпустил «Гурманский кодекс, полный учебник гастрономии, содержащий законы искусства жить в свете»87, который затем многократно переиздавал; его шестое издание он включил в книгу 1830 года «Безотменный альманах гурманов, содержащий гурманский кодекс, правила его применения и размышления о трансцендентной гастрономии»88. Рессон многому научился у Гримо – и идее кодификации бытовой жизни (для Рессона, впрочем, кодекс – это всего лишь удобная литературная форма), и идее параллелизма гастрономической сферы и сферы политической. «Гурманский кодекс» начинается со слов: «Среди постоянных потрясений, какие переживает наша цивилизация, одна сила взросла, окрепла и стала выше прочих: Гастрономия дружит с аристократами, заключает союз с республиками, поддерживает конституционные государства и царит надо всем миром!». О форме и говорить не приходится: «Безотменный альманах гурманов», подобно альманаху 1803 года, начинается с календаря, где продукты расписаны по месяцам.
Прошло четыре десятка лет, и уже совсем в другую эпоху, при Второй империи, cвой «Альманах гурманов» выпускает в 1862 году Шарль Монселе (1825–1888), пятью годами раньше включивший в книгу «Покрытые забвением и облитые презрением: литераторы конца XVIII века»89 подробный биографический очерк о Гримо, в котором правдивые сведения перемешаны с легендарными, но который гораздо более достоверен, чем полный самых нелепых выдумок аналогичный очерк Поля Лакруа90, а главное, проникнут искренней симпатией к герою. Не случайно свой «Альманах» 1862 года Монселе посвятил памяти Гримо де Ла Реньера. В 1904 году появился «Альманах Гурманов», который его составитель охарактеризовал на титульном листе как «основанный в 1803 году Гримо де Ла Реньером, продолженный под руководством Франсуа-Гийома Дюма». Наконец, память о Гримо и его альманахе не умерла даже в ХХ веке: с середины 1950-х годов до 1993 года литератор Робер Куртин (1910–1998) публиковал в газете «Монд» гастрономические хроники под псевдонимом Ла Реньер (и рядовые современные французы, слыша эту фамилию, вспоминают чаще журналиста из «Монда», чем автора «Учебника для Амфитрионов»). До сих пор, желая польстить какому-нибудь «кулинарному писателю», которых в нынешней Франции немало, особенно продвинутые журналисты именуют его «современным Гримо де Ла Реньером».
Мы назвали авторов, ориентировавшихся на «Альманах Гурманов» явно и открыто, но был и такой автор, который спустя четверть века после выхода первого тома этого альманаха выпустил книгу на сходную тему, где имя Гримо не названо ни разу, хотя текст ее, по всеобщему убеждению, многим обязан «Альманаху Гурманов» и содержанием, и тоном; этот автор – Жан-Антельм Брийа-Саварен (1755–1826), а книга его, вышедшая в конце 1825 года, называется «Физиология вкуса»91. По остроумному замечанию Шарля Монселе, Брийа-Саварен выступил по отношению к Гримо, как Америго Веспуччи по отношению к Колумбу: открыл Америку (читай: гурманскую литературу) один, а слава досталась другому. В самом деле, число людей, если не читавших «Физиологию вкуса», то, по крайней мере, слышавших о ней, существенно превышает число людей, осведомленных о существовании «Альманаха Гурманов», и это ничуть не удивительно: за время, прошедшее с момента ее первого издания, «Физиология вкуса» была переиздана больше полусотни раз92.
Брийа-Саварен не в меньшей степени, чем Гримо де Ла Реньер, сформирован культурой XVIII века, однако он оказался больше востребован потомками. Причин тому несколько. Во-первых, Брийа-Саварен по-другому строит свои отношения с читателем: он не законодатель-диктатор, как Гримо, а кабинетный ученый-педант (в книге он именует себя исключительно «профессором») и услужливый помощник, охотно подсказывающий едокам выход из сложных ситуаций. Во-вторых, если Гримо использовал старомодный жанр альманаха, то Брийа-Саварен употребил в названии книги слово «физиология», которому была суждена во французской словесности бурная жизнь и громкая слава93. Больше того, он придал разговорам о гастрономии статус науки – но науки необременительной и развлекательной; читая Брийа-Саварена, буржуа могли не слишком утомляться, но при этом расти в собственных глазах94. Буржуа это оценили. Не случайно Гюстав Флобер включил в свой компендиум буржуазной мудрости, справедливо названный «Словарем прописных истин», цитату из «Физиологии вкуса»: «СЫР. Процитировать Брийа-Саварена: “Десерт без сыра – все равно что красавица без глаза”». Буржуа цитировали «Физиологию вкуса», зато Бодлер, ненавидевший буржуазный дух во всех его проявлениях, назвал ее автора «безвкусной булкой, которая плоха уже тем, что служит дуракам поводом для глупой и пустой болтовни»95.
Как бы там ни было, Брийа-Саварен заслонил Гримо де Ла Реньера в сознании потомков, а между тем Гримо достоин лучшей участи – в чем, как мы надеемся, убедится каждый читатель нашего сборника.
О русском издании Гримо де Ла Реньера
Первый том «Альманаха Гурманов» – по всеобщему признанию, наиболее удачный – напечатан в нашем издании полностью; все остальные тома печатаются с сокращениями. Сокращения внутри разделов отмечены знаком […], сокращения целых разделов не отмечены никак. Опущены разделы, содержащие повторы уже сказанного в предыдущих томах либо рекламу определенных товаров или магазинов (о том, каким образом Гримо выполнял эту задачу, исчерпывающе свидетельствует АГ–1). Из «Учебника для Амфитрионов» переведены вступительные, «теоретические» главы всех трех частей, а также наиболее важные главы из третьей части, посвященной «Основам гурманской учтивости». Из этой части в перевод не вошли главы «О приеме гостей и их размещении за столом», «О прислуге», «О винах», «О застольных беседах», «О гастрономических визитах», поскольку их содержание в очень большой мере отражено в соответствующих главах «Альманаха Гурманов», вошедших в наше издание. Из первой и второй части «Учебника для Амфитрионов» не вошли в перевод главы, описывающие способы разрезания того или иного вида мяса, рыбы или птицы либо содержащие конкретные образцы различных меню.
Гримо, как уже было сказано, охотно перечисляет названия блюд, но далеко не всегда разъясняет, как они готовятся. Выполнить это за него – дело для современного комментатора непосильное, да, пожалуй, и ненужное. Я поясняю состав некоторых кушаний лишь в самых необходимых случаях, да и то в общем виде, без подробностей, за которыми следует обращаться к кулинарным книгам XVIII века, прежде всего к тому «Карманному словарю» 1767 года, на который Гримо, по нашему предположению, ориентировался, когда составлял свои перечни яств.
Наиболее любопытные фрагменты из «Альманаха Гурманов» (АГ) и «Учебника для Амфитрионов» (УА), не вошедшие в основной текст, цитируются в примечаниях; в этих случаях в скобках даны отсылки с указанием книги, тома (в случае если цитируется «Альманах Гурманов») и страницы.
Примечания самого Гримо де Ла Реньера набраны курсивом и сопровождаются указанием на авторство, помещенным в скобках: ГдЛР. Мои примечания набраны прямым шрифтом.
При переводе любой книги о еде, тем более еде двухсотлетней давности, самую большую трудность представляют термины. Подыскивая для них эквиваленты, я исходила прежде всего из того, что Гримо создавал не руководство для поваров, а литературный текст, и потому стремилась по возможности избегать галлицизмов, которые были бы уместны в поваренной книге и которые нередко встречаются в современных переводах кулинарной литературы. Поэтому вместо «антре» и «антреме» я пишу «вводное блюдо» и «преддесертное блюдо» (ибо таковы были места этих блюд в порядке французского обеда), вместо «матлот» – «матроска», вместо «соус пуаврад» – «перечный соус», а вместо «кур-бульон» (встречается в переводных книгах и такой термин, хотя к курам этот «бульон» никакого отношения не имеет, ибо в нем варят рыбу) – «пряный отвар». Конечно, вовсе обойтись без галлицизмов в книге о французской кухне невозможно, и потому фрикасе и гарниры, бисквиты и филеи в ней присутствуют, но я старалась ограничиться теми галлицизмами, которые вошли в русский язык уже давно, «прижились» в нем и не воспринимаются как чужеродные вкрапления. Я хотела избегнуть того эффекта, который вызывают в русской прозе французские слова, переданные кириллицей; дело в том, что такую передачу французских слов традиционно используют, когда хотят изобразить человека, скверно говорящего по-французски1, прежде всего лакея. Напомню сцену из «Анны Карениной» – обед Облонского и Левина:
«– Что ни говори, это одно из удовольствий жизни,– сказал Степан Аркадьич.– Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало – три десятка, суп с кореньями…
– Прентаньер,– подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.
– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом… ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.
Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: “Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи…”»2.
Переводчик, злоупотребляющий варваризмами, неминуемо уподобляется толстовскому татарину или служившему в середине XIX века в петербургском доме семейства Дурново повару Дмитрию Павлову, который в своих «минью» упоминает «филей де беф» (говяжий), «капусту онатюрель» или «шу де Брюссель» (брюссельскую капусту)3. Этого сходства я очень хотела избежать.
Прилагаемый короткий список терминов на французском языке и их русских эквивалентов ни в коей мере не претендует ни на исчерпывающую полноту, ни на всеобщую обязательность. Это те варианты перевода наиболее часто повторяющихся терминов, которые я сочла подходящими для русского издания «Альманаха Гурманов» и «Учебника для Амфитрионов»; в книге другой эпохи и другого жанра те же слова, возможно, должны переводиться иначе.
Entrée – вводное блюдо.
Relevé – сменное блюдо.
Hors-d’œuvre – дополнительное блюдо.
Entremet – преддесертное блюдо.
Ambigu – смешанная трапеза.
Collation – угощение.
Grosse pièce – парадное блюдо.
Рièce montée – нарядное блюдо.
А la braise – запеченное в наглухо закрытом горшке, стенки которого обложены шпигом.
Blanchir – обдать кипятком.
En caisse – в бумажке.
En croustade – запеченный в хлебной корке.
A l’étouffade – душенный под крышкой.
Volaille – живность.
Coulis – желе.
Sauce poulette – цыплячий соус.
Sauce poivrade – перечный соус.
Sauce matelotte – матросский соус.
Court-bouillon – пряный отвар.
Matelotte – «матроска».
Sauté au suprême – соте в превосходном роде.
Timbale de macaroni – макаронник.
Au père Douillet – во вкусе неженок.
Что же касается структуры французской трапезы, порядка подачи блюд и прочих этикетно-гастрономических тонкостей, разъяснять их во вступительной статье нет необходимости: Гримо де Ла Реньер рассказал обо всем этом сам на страницах «Альманаха Гурманов»4.
Альманах Гурманов, призванный руководствовать любителями вкусно поесть
Год первый,
Tanquam leo rugiens, circuit quаerens quem devoret.
S. Petr. 5:8
Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
1 Пет. 5:8
АГ–1 вышел тремя изданиями; первые два появились в 1803 г., третье, существенно дополненное, по которому и выполнен наш перевод, вышло в 1804 г.
В России перевод первого тома (без указания имени переводчика) вышел в 1809 г. в Санкт-Петербурге, в типографии Ив. Глазунова, под названием «Прихотник, указующий легчайшие способы иметь наилучший стол. Год первый, содержащий в себе календарь объядения и сытный дорожник, с полным описанием лакомых блюд каждого месяца, также всех животных, рыб и растений, приготовляемых в последнем вкусе». Ниже в примечаниях приведены реплики русского переводчика и наиболее интересные варианты перевода 1809 г., архаического, но порой очень выразительного.
Строка из Первого послания Петра, использованная в качестве эпиграфа, полностью звучит так: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавoл ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». В русском переводе 1809 г. эпиграф, естественно, опущен. Гримо относился к Священному Писанию без особого пиетета; тем не менее, поскольку АГ начал выходить после того, как первый консул Бонапарт подписал Конкордат со Святым престолом (1801) и католическая церковь во Франции постепенно стала вновь вступать в свои права, Гримо более или менее регулярно указывает скоромные и постные варианты приготовления одних и тех же продуктов.
АГ–1 посвящен гурману маркизу д’Эгрефёю (см. о нем примеч. 168).
Фронтиспис «Библиотека Гурмана XIX столетия»
В глубине кабинета, обставленного в самом современном стиле, иначе говоря, изобилующего предметами самыми старинными, стоит книжный шкаф, на полках которого вместо книг красуются многообразные виды съестных припасов, как то: молочный поросенок, превосходные паштеты, огромные колбасы и прочие лакомства, а также немалое число бутылок вина от господина Тайёра и ликеров от господина Ноэля Ласерра, сосудов с заспиртованными фруктами от господина Гело и маринованными овощами от господ Майя и Бордена и проч., и проч.
С потолка вместо люстры свисает огромный байоннский окорок.
На переднем плане стол, уставленный изысканными блюдами, которых достало бы на полтора десятка гостей; на нем всего два прибора.
Буфет, на котором виднеется вторая перемена блюд, и поставец для тарелок и бутылок, именуемый служанкой, указывают на то, что мирная трапеза не будет потревожена присутствием слуг.
Под эстампом надпись: «Библиотека Гурмана XIX столетия».
Предисловие к двум первым изданиям
Наш альманах не заключает в себе, как можно было бы счесть по его заглавию, имена и адреса прославленных столичных Гурманов1, ибо такое перечисление не принесло бы пользы ровно никому; он содержит рассказ обо всем, чем столица способна ублажить чувственность своих жителей,– а такое перечисление может оказаться полезным для очень многих.
Переворот в состояниях, ставший неминуемым следствием Революции, наводнил Париж новоявленными богачами, не знающими ничего, кроме наслаждений сугубо животных2; мы решили предложить им надежный путеводитель по источникам заветнейших из их удовольствий. Сердце большинства зажиточных парижан внезапно обратилось в желудок3; на смену чувствам пришли ощущения, на смену желаниям – потребности; следственно, описав на этих страницах все способы наилучшим образом удовлетворить вкусы парижан и употребить их богатство, мы окажем любителям вкусно поесть услугу немаловажную.
Многие путешественники согласны в том, что с тех пор как люди стали жить в обществе, застольные радости всегда занимали одно из первых мест в перечне их развлечений. Что бы ни говорили стоики, невозможно отрицать, что эти радости принадлежат к числу тех, какие человек познает раньше всего, с какими расстается позже всего и какие может вкушать чаще всего4. Множеству людей для счастья довольно исправного желудка; мы без труда могли бы доказать, что у большинства представителей рода человеческого орган этот оказывает решающее влияние едва ли не на все деяния и свершения. Какое множество раз судьба целого народа зависела от того, насколько хорошо варил желудок у первого министра!
Впрочем, оставим метафизические рассуждения, которыми рискуем мы не потрафить тем, для кого пишем, и которые имеют касательство не столько до кухни, сколько до философии и истории, и воротимся к главному предмету нашего альманаха, призванного указать Гурманам верную дорогу в лабиринте приятнейших из наслаждений.
Вообразите себе богача, который жаждет пустить в ход свое немалое состояние, но имеет в поварах невежду или плута,– и вы поймете, какую неоценимую пользу может оказать такому человеку наша книжица. Предоставленный самому себе, наш Мидас разорится самым бесславным образом, а наглые прихлебатели еще и посмеются над ним и над теми кушаньями, которыми он их угостит и которые, как ни дороги, того и гляди окажутся совершенно несъедобными. Ибо одних денег недостаточно, чтобы превратить человека в превосходного Амфитриона5; ибо научиться устроить застолье надлежащим образом куда труднее, чем полагают непосвященные, и владеют этим искусством лишь очень немногие.
Если же, напротив, богач знает назубок гастрономическую топографию Франции или, по крайней мере, одного только Парижа; если ему ведомо, для каких столовых припасов благоприятно то или иное время года; если, исследовав свои аппетиты, он научился командовать ими согласно принципам верным и незыблемым; если, наконец, самолично руководствуя покупками съестного, он умеет делать их в правильное время и в правильном месте, тогда он способен разрешить ту задачу, какую задал Гарпагон мэтру Жаку и какая неизменно ставила, ставит и будет ставить в тупик всех поваров мира, а именно: как приготовить много вкусных блюд, потративши мало денег6.
Из чего следует, что наш альманах окажется полезен не только богачам, но и людям скромного достатка.
Сочиняя труд, доселе небывалый, следовало разработать подробный план и действовать в строгом соответствии с ним. Заглавие нашей книги предопределило строение первой ее части: она состоит из двенадцати глав, каждая из которых соответствует одному из двенадцати месяцев старого календаря7 (ибо новый для этой цели пока приспособить не удалось8) и содержит перечень тех съестных припасов, которыми лучше всего кормиться в данное время года.
Затем мы совершим по парижским улицам несколько гурманских прогулок, делая остановки в тех местах, какие более всего пригодны для пробуждения аппетита и для его удовлетворения по разумным ценам.
В этом недлинном путешествии небывалого рода мы сообщим не только точные адреса мастеров, прославившихся изготовлением изысканнейших кушаний, но и кое-какие подробности касательно их творений; в результате станет ясно, что, если на бо́льшую часть искусств Революция во Франции оказала влияние губительное, поварское искусство от нее не только не пострадало, но, напротив, получило возможность стремительно развиваться и постоянно совершенствоваться. Не стоит и говорить, что путешествие это потребовало от автора множества трудов, хлопот и разысканий, ибо в своем стремлении указать публике заведения наилучшие полагался он лишь на собственный опыт и, отбросив в сторону все привходящие соображения, слушался во всем лишь голоса справедливости. […]
Нам остается попросить публику отнестись снисходительно к этой маленькой книжке, которая далека от совершенства, но может сделаться лучше, если нам доведется повторить наш опыт несколько лет подряд, ибо в этом случае мы воспользуемся сведениями, полученными от читателей, благодаря чему сочинение наше будет дважды достойно названия «Альманах Гурманов»: ведь оно сделается одновременно и их вожатым, и их творением.
В заключение добавим, что автор, из скромности не назвавший себя, позволяет нам сообщить, что, будучи сыном отца, который отличался исключительной воздержанностью, хотя дом его славился одной из изысканнейших кухонь во всем Париже, и внуком деда, который умер на поле брани, иными словами, объевшись паштетом из гусиной печенки, он, больше чем многие другие, имеет право и возможность одарить публику «Альманахом Гурманов».
NB. Все сведения, документы и даже образцы съестных припасов, которыми лица, заинтересованные в успехе «Альманаха Гурманов», пожелают одарить его автора, будут с благодарностью приняты по адресу: Париж, улица Елисейских Полей, дом 89, с условием предварительной оплаты почтового отправления10.
Календарь снеди 11
Январь
Никто не станет спорить, что мало какой месяц во Франции так благоприятствует вкусным трапезам, как январь, которым – не в обиду будет сказано революционному календарю12 – со времен Карла IX всегда открывался год Гурмана13. Не говоря уже о празднике Богоявления, который в равной мере является праздником пирожников и причиной множеств несварений желудка14, напомним, что время вручения новогодних подарков есть также время многочисленных застолий. Эта пора, когда вражда утихает, близкие родственники примиряются, а дальние знакомые приезжают с визитами хотя бы из чувства долга, есть поистине время прощений и ликований; ведь почти все эти встречи сопровождаются обильными трапезами. Не стоит доказывать, что примириться можно только за столом и что тучи равнодушия и раздора способно полностью разогнать только солнце вкусной еды. Вдобавок в первый день нового года принято обмениваться подарками15, и все, кто дарят деньги, могут быть уверены, что дары их рано или поздно превратятся в столовые припасы. Да и сами эти припасы суть приятнейшие из даров, какие мы вручаем и принимаем. Съестное можно дарить и получать в дар совершенно безнаказанно; как много мы знаем приказчиков, журналистов и сочинителей альманахов, которые из деликатности отвергли бы футляр из слоновой кости, но не моргнувши глазом принимают стоящие в десять раз дороже страсбургские или тулузские паштеты из гусиной печенки16, причем принимают тем более охотно, что посылка оплачена заранее: ведь чем деликатнее благодарящий, тем сильнее страшится он обременить благодаримого.
Впрочем, парижане щедро одаряют друг друга в начале года не только яствами столь капитальными; известно, что январь – время обмена конфетами и сластями всех мыслимых сортов; в этот период улица Ломбардцев торжествует победу над улицей Сент-Оноре17. Кондитеры всякий год выдумывают новые сюрпризы и изобретают новые безделки. В их умелых руках сахар обретает тысячу разных форм, призванных пленять глаз и обольщать вкус; торговцы эти по праву именуются артистами18. Их мастерские привлекают ничуть не меньшее число посетителей, чем мастерские художников. Драже, прежде шедшие в ход только при крещениях19, теперь пользуются спросом в течение всего года; к великой радости детей и женщин, карманы мужчин из хорошего общества обратились в бонбоньерки.
О мясном товаре
Если январь больше других месяцев благоприятствует вкусным трапезам, то не только потому, что это – время новогодних подарков, праздника Богоявления и начала Карнавала20, но и потому, что он, равно как и осенние месяцы, изобилует продуктами, в высшей степени способными возбуждать и удовлетворять гурманскую чувственность.
О говядине
Именно в этом месяце в Париж пригоняют гуртами овернских и котантенских быков, чьи сочные и жирные, божественно вкусные филейные части составляют основу превосходной трапезы и приедаются гораздо меньше, чем блюда самой изысканной кухни. Хорошо выдержанные21, поджаренные на английский манер, то есть впросырь, и сдобренные пряною подливкою, для которой не пожалели анчоусов от знаменитого Майя22 и нежных каперсов, эти филеи в начале года более всего достойны быть поданными на жаркое компании многолюдной и оголодавшей. Мясо этих быков восхитительно также в вареном виде, особенно в тех случаях, когда, не гонясь за бульоном, предпочитают кострец бедру, а в самом костреце отдают предпочтение краю перед серединой23. Если же в довершение всего этот кострец окружают кубиками капусты, запеченными в наглухо закрытом горшке, стенки которого обложены шпигом24, и увенчивают короткими сосисками, то это роскошное мясное блюдо оказывается достойным занять середину стола в домах самых знатных вельмож. Люди же более скромного достатка возводят вокруг куска говядины стену из вареной картошки в мясном соку и масляном соусе25. Такое обрамление, конечно, менее картинно, но зато менее разорительно и, главное, ничуть не менее питательно. А если к вышеупомянутым капусте, сосискам и шпигу прибавить аккуратно вырезанные колонны из моркови и репы, тогда, к восторгу многих ценителей, на столе воздвигнется настоящий шедевр архитектуры.
Впрочем, как бы ни была приготовлена вареная говядина, есть ее нужно либо с горчицей из каперсов и анчоусов, изготовленной прославленным Майем, либо с пахучей целебной горчицей, вышедшей из рук его ученого соперника Бордена26; в течение девяти месяцев в году горчица составляет неизбежную свиту вареной говядины. В конце осени ее сменяет соус из томатов, чья кислинка приправляет кушанье лучше всяких пряностей. Острый томатный соус – вид природной эпиграммы.
Говядину мы едим не только в жареном и вареном виде; быки дарят нам неисчислимые возможности для изготовления блюд вводных и даже дополнительных 27. Из бычьего хвоста с морковью получается рагу, которому умелые руки сообщают форму чудесной съедобной пирамиды28. Бычье нёбо, запеченное в сухарях либо превращенное в горячий паштет,– вводное блюдо из числа самых питательных. Мякоть между бычьими ребрами, щедро натертая оливковым маслом, обваленная в сухарях и поджаренная на решетке без каких бы то ни было добавок, кроме перца и соли,– дополнительное блюдо в высшей степени нежное и приятное. Если же вы нарежете тонкими ломтиками внутреннюю вырезку и, поджарив несколько мгновений на решетке, положите на подогретое блюдо, добавив в качестве единственной приправы свежайшее коровье масло, смятое с душистыми травами, а в качестве единственного украшения – цельные розовые картофелины, сдобренные коровьим же маслом, то вы получите кушанье, известное у англичан под названием beef's teak29: в Англии кушанье это, ради которого стоит пересечь Ла-Манш, составляет основу обеда, у нас же оно служит не более чем дополнительным блюдом, но, если хорошо прожарено, может поспорить с любым рагу.
Мы не станем рассказывать здесь обо всех преимуществах говядины; в руках умелого мастера она обращается в неисчерпаемый источник удовольствий, истинную царицу кухни. Без нее не сварить супа, не получить мясного сока30; ее отсутствие заставит голодать и горевать целый город. Счастливые парижане! знайте, сколь благосклонна к вам судьба: ведь самые разборчивые путешественники утверждают, что вы едите самую восхитительную говядину в мире31; многие ценители превозносят римскую говядину, однако мы склонны думать, что она не идет с парижской ни в какое сравнение, что же до говядины английской, она слишком жирна, чтобы быть по-настоящему питательной; живот ею набить можно, а вот насытиться нелегко. Наилучших быков поставляют нам Овернь и Нормандия, однако на родине они еще не те, какими становятся в Париже. Подобные недалеким юнцам, чей ум складывается и развивается лишь в дальних странствиях, эти мясистые создания входят в самую пору, лишь достигнув столицы. За время пути они приобретают тот превосходный вкус, какого не нагуляли бы дома. Так что строки поэта:
- Тому, кто рыскает по свету,
- Не стать ни лучше, ни умней32,—
не про них.
О телятине
Зато теленок в странствиях совершенно не нуждается; его нежному мясу пристали упражнения более умеренные; вдобавок сам он далеко не уйдет, а везти его издалека слишком хлопотно и убыточно33. Самые лучшие телята – те, что родом из Понтуаза, из Руана (их называют «речными»), из Кана и Монтаржи. Неплохих телят выращивают также в окрестностях Парижа, а на лугах возле Манта пасутся во множестве молочные коровы, чьи отменно выкормленные сыны незамедлительно попадают на наши столы и служат им украшением. Телята в Париже лучше, чем где бы то ни было: во-первых, телятина здесь всегда дорога и потому телят, назначенных на убой, выращивают с особым тщанием: в Понтуазе, например, их кормят сливками и бисквитами34; во-вторых, здесь строже, чем в провинции, придерживаются правила, запрещающего забивать телят моложе шести недель. У теленка, который еще не достиг этого возраста, мясо водянистое и безвкусное; только после шести недель оно приобретает ту белизну и сочность, какие являются залогом совершенства, зато если теленок из Понтуаза достиг этого возраста, из него получиться может жаркое ни с чем не сравнимое. У теленка – истинной пулярки35 о четырех ногах – отменно вкусны почки; они украсят и превосходное преддесертное блюдо, именуемое яичницей, и тот круглый миндальный пирог, который так восхитительно готовит господин Леблан36 и в котором почки измельчены так тщательно, что могут служить съедобной демонстрацией математического понятия бесконечно малые. Впрочем, внимания достойна и вся почечная часть теленка; хоть она и не так роскошна, как прочие, многие любители отдают предпочтение именно ей как менее жирной, более мясистой и более пряной; однако же в изысканных домах на первом месте все равно остаются сами почки, льстящие тщеславию Амфитриона. Впрочем, есть простой способ избавить Гурмана от сложного выбора: достаточно приготовить почечную часть вместе c почками; это самое живописное жаркое, каким одаряют нас мясники; однако чтобы отдать ему должное, потребно многолюдное застолье, ведь поясничная часть упитанного теленка весит никак не меньше 12–15 фунтов37.
Ласковый теленок учтив и податлив: он безропотно претерпевает столько превращений, что его можно, не обинуясь, назвать кухонным хамелеоном. Число блюд, которое из него изготовляют, поистине бесконечно, и мы не станем даже пытаться назвать их здесь все до единого. Многие из них описаны в кулинарных книгах, но еще больше существует их в пламенном воображении умелых поваров. Украшением нашего стола служит не только тело теленка, но и вся его особа: множество вкусных блюд можно приготовить из телячьей головы и телячьих потрохов. Мы не станем теперь рассказывать о фаршированных телячьих головах из «Надежного колодца», к которым еще вернемся в нашем «Путеводителе», но кто не наслаждался вкусом телячьей головы, без затей сваренной целиком вместе с кожей и поданной под острым соусом? Кушанье это столь же сытное, сколь и целебное, и притом по силам даже самой неопытной кухарке. Телячьи ножки с «цыплячьим» соусом38, поджаренные в масле, запеченные в сухарях и проч.; телячьи мозги, подвергшиеся сходному обхождению; телячьи молоки, мелко нашпигованные салом,– все это аппетитнейшие вводные блюда, приготовление которых позволяет поварам, ради своей славы и нашего удовольствия, выказывать большую или меньшую самостоятельность и самобытность.
Не станем говорить ни о печени теленка, ни о его брыжейке, ни о его ушах, которые разделяют честь присутствовать на наших столах с прочими частями телячьего тела. Кто не знает телячьей печенки, именуемой мещанской, – самого обыденного и несложного сменного блюда39? Брыжейка, сваренная в воде и политая уксусом от Майя,– пища здоровая и приятная, содержащая растительную слизь, которая так полезна слабогрудым. Кушанье это совсем недорогое, если покупать брыжейку у торговок требухой, но оно становится поистине разорительным, если обращаться к мясникам, ибо эти господа имеют скверную привычку взвешивать товар так, чтобы вся выгода была на их стороне, а введение новых мер им в этом только помогает40. Уши теленка не уступают ни его ножкам, ни его мозгам: они хороши и жаренные в масле, и поданные под «цыплячьим» соусом; кроме того, их можно начинять фаршем, готовить с горохом, с луком, с сыром и проч. Все в теленке, вплоть до языка и даже глаз, способно порадовать человеческий желудок; наконец, телячьи потроха (к которым, как известно, принадлежат сердце, легкие и селезенка), хотя и не могут считаться блюдом особенно изысканным, тем не менее с легкой руки искусного повара принимают порой самые прихотливые формы и, обманывая чувства едоков, возбуждают их аппетит.
Даже этого быстрого перечисления довольно, чтобы убедиться: в том, что касается до разнообразия блюд, с теленком может соперничать одна лишь свинья, но прежде чем перейти к рассказу об этой почтенной особе, поговорим о баранах.
О баранине
Нужно честно признать: баранов в Париже хоть отбавляй, но мясо их не идет ни в какое сравнение ни с говядиной, ни даже с телятиной; тот, кто хочет отведать превосходной баранины, должен выписывать ее издалека и с разбором. Самые лучшие бараны пасутся, разумеется, в Арденнах, в Кабуре, в Арле и на нормандских соляных лугах. Неплохи также бараны из Бове, Реймса, Дьеппа и Авранша, что же до тех, которые родом из Берри, Солони и окрестностей Парижа, мясо у них, как правило, не может похвастать ни духовитостью, ни нежностью. Отсюда следует вывод, что только люди состоятельные и всерьез стремящиеся угостить своих гостей на славу (ведь одного только богатства недостаточно для того, чтобы иметь превосходный стол, и мы будем неустанно повторять эту аксиому, ибо ее не следует забывать никогда и никому) – только такие люди знают, что такое баран во всей его красе; впрочем, парижанин-домосед не столь требователен и удовлетворяется бараниной, купленной у соседнего мясника. Из того, что можно найти в парижских лавках, самая лучшая баранина – котантенская.
В Нижнем Лангедоке, где говядина не в ходу, похлебку варят из седла барашка, и результат получается превосходный; зато в этих краях никогда не жарят бараний окорок на вертеле, потому что здесь не умеют размягчать мясо. Напротив, в Париже бараний окорок – жаркое самое заурядное, которое могут позволить себе даже скромные обыватели; впрочем, заурядность не делает его ни менее питательным, ни менее вкусным; особенно хорош он, если доходит до готовности так же долго, как любители лотереи дожидаются счастливого номера; если размягчается так же неминуемо, как преступник на допросе у полицейского комиссара; если истекает кровью так же неотвратимо, как несчастная жертва людоеда, и притом сохраняет весь свой вкус, всю свою нежность и сочность: говоря проще, бараний окорок не следует пережаривать, на пользу ему это не идет. Когда его режут, он должен пускать обильный сок; только в этом случае тонкие алые его ломти усладят глотку Гурмана и даруют самым расстроенным желудкам пищу разом исцеляющую и подкрепляющую41. Если бараний окорок недожарен, делу легко помочь, пусть даже жаркое уже разрезано: достаточно положить ломти в кастрюлю и несколько минут подержать на слабом огне; но если он пережарен, делать нечего: все пропало! Угадать нужное мгновение, без сомнения, очень трудно: ведь величие или падение самой достойной бараньей ноги зависят порой от одного-единственного оборота вертела; все это практические истины, которым не учат ни книги, ни даже опытность. Искусство прожаривать мясо до нужной кондиции – одно из самых сложных в мире, оттого на тысячу хороших поваров вы с трудом найдете одного безупречного жарильщика42. Отличное рагу можно отведать в сотне городов Европы, но превосходное жаркое подают, если верить госпоже Тюркаре, только в Валони43.
Недаром до революции в богатых домах кроме повара непременно служил еще совершенно независимый от него жарильщик, и те, кто пытаются сегодня идти по стопам прежней знати, следуют ее примеру и в этом. Истинные Гурманы поняли, что негоже поручать одному и тому же человеку два дела столь важных, не говоря уже о том, что невозможно разом приглядывать и за вертелом, и за кастрюлями.
Если бараний окорок не так нежен, чтобы удостоиться чести попасть на вертел, его обкладывают ломтями шпига и ко всеобщему удовольствию тушат в наглухо закрытом горшке, где он семь часов подряд томно возлежит на постели из овощей, набор которых меняется в зависимости от времени года: порой ложе сооружают из суассонской фасоли, порой – из цикория, сельдерея, шпината и проч., и проч. Покрытый превосходным желе44, приправленный по всем правилам поварского искусства, такой окорок служит отличным сменным блюдом, а у Амфитриона не слишком взыскательного может даже сойти за жаркое.
Баранья лопатка, изжаренная на вертеле, оказывается порой нежнее бараньего окорока, вкус же у нее такой своеобразный, что многие любители отдают предпочтение именно ей, однако люди надменные и богатые это блюдо презирают, полагая, что есть его пристало только беднякам. Лопатка столь же податлива, что и нога, и так же охотно принимает самые разные виды: ее пекут в печи, запекают в хлебной корке, подпаливают, даже готовят по способу Сент-Мену45.
Бараний бок также, случается, пускают на жаркое, но гораздо чаще он выступает в роли вводного блюда; в этом случае его, как и бараний окорок, укладывают на овощное ложе и тушат в наглухо закрытом горшке, стенки которого обложены шпигом; неплохой репутацией пользуется также бараний бок с чечевицей (способ, именуемый английским) и, наконец, бараний бок à la Конти46. Хорош также бараний бок с огурцами, но это кушанье, конечно, вовсе не январское – ведь в гастрономии, как и в сладострастии, у каждого возраста свои наслаждения.
Не стоит пренебрегать и бараньим боком, нашпигованным петрушкой и изжаренным на вертеле; это – жаркое для философа.
Мы совершенно отклонились бы от плана нашего сочинения, когда бы взялись перечислять все части барана, которые служат незаменимым подспорьем повару. Один лишь перечень всех способов обращения с котлетами47 мог бы сделаться предметом отдельной книги, и книги весьма серьезной. А что же сталось бы с нами, если бы нам пришлось рассказывать о филеях и грудинке, о хвосте и о ножках (благодаря которым встал на ноги и составил себе состояние владелец одного парижского заведения, о котором мы расскажем в нашем «Путеводителе»48); о почках, которые нынче вошли в такую моду, что сделались неизбежным предисловием всех завтраков с вилкой в руке49 и вытеснили со столов всех новых французов старинные пирожки; о языках, которые, если поджарить их на решетке и подать с острым соусом, составят счастье любого ценителя; наконец, о мозгах, которые в руках опытного повара приобретают такое сходство с мозгами телячьими, что способны ввести в заблуждение самый тонкий и изощренный вкус,– ибо на кухне, как и в любви, правит бал искусство метаморфоз!
Очевидно, что бараньи потроха, хотя и чуть менее обильные, чем телячьи, ничуть не меньше достойны внимания Гурмана хотя бы благодаря почкам, что же касается внешних признаков мужественности, именуемых бараньими ядрами50, прежде они считались блюдом чрезвычайно изысканным и стоили огромных денег, но сегодня охотников на них находится крайне мало – к великому счастью для бараньего рода, который эти охотники, можно сказать, подрубали под самый корень.
Поскольку нет более естественного перехода, чем переход от дяди к племяннику, следовало бы сказать здесь пару слов о ягненке, однако хронология требует отложить обсуждение этого невинного животного до апреля: толковать о ягненке раньше Святой недели значит грешить против правил кухонного наречия.
О свинине
Достоинства свинины признаны столь широко, незаменимость ее ощущается столь многими, что восхвалять ее здесь совершенно излишне. Свинья – царица нечистых тварей, причем власть ее наиболее всеобща, а добродетели наименее спорны: без свиньи нет сала, а без сала невозможно приготовить ни одного блюда; без свиньи нет ни ветчины, ни сосисок, ни свиной колбасы, ни колбасы кровяной, иначе говоря, вовсе никаких колбас. Врачи могут сколько угодно твердить о том, что свиное мясо плохо переваривается и расстраивает желудок; никто их не слушает, да они и сами всерьез огорчились бы, послушайся кто-нибудь их советов: уж слишком часто любители свинины, объевшиеся ею сверх меры, обращаются к ним за помощью и обогащают их кошелек. Со своей стороны, иудеи могут сколько угодно смотреть на свинину с ужасом и отвращением; многие из нынешних христиан, хотя во многом вылитые иудеи, тем не менее уплетают за обе щеки колбасу свиную и кровяную. Наконец, если в Лионе и в Труа свинина куда вкуснее, чем в Париже, причиной тому не столько мастерство тамошних колбасников, сколько природа тамошних животных, что же касается колбасников парижских, они сумели преодолеть все препятствия и в совершенстве овладели искусством сообщать свиному мясу формы самые многообразные, самые мудреные и самые изысканные.
Природа устроила все так мудро, что в свинье нет ничего ненужного: все части до единой хоть на что-нибудь да сгодятся. На свинью притязают не только повара, но и люди искусства: если свиному мясу обязаны своим состоянием господа Кор и Жан (лучшие столичные колбасники), то свиная кожа и щетина послужили напрямую славе Рафаэля и косвенно – славе Рамо51.
Посему, заводя разговор об этом почтенном животном, не знаешь, за что взяться и с какого конца начать. Начнем с конца самого благородного, то есть с головы: из нее методами совершенно противными достижениям цивилизации, но зато без большого труда изготавливают исключительно вкусное холодное52. Свиные котлеты с косточкой, жареные ли, тушеные ли, радуют самый тонкий вкус; свиные ляжки и свиная лопатка составили под именем ветчины славу Майнца и Байонны – к ним мы вернемся в апреле. Уши, язык и ножки свиньи предоставляют отличное поле деятельности и для повара, и для колбасника; право съесть их в рубленом виде ничуть не менее законно, чем все прочие, записанные в чересчур прославленной Декларации прав человека. Потроха, почечный жир и кишки свиньи служат либо содержимым, либо футляром для всевозможных колбас и сосисок53; свинья, в отличие от других животных, отдает в пищу человеку даже свою кровь. Свиное мясо, изрубленное мелко, как для паштета, претерпевает немало многообещающих превращений не только в колбасных лавках, но и в наших кухнях, где из него изготовляют сложные фарши, заполняющие, например, недра индюшки, поджариваемой на вертеле. Каждый день мы с радостью обнаруживаем на своем столе малопросоленную свиную грудинку и поджаренный свиной бок, свиную спинку в виде котлет, а свиную голову в виде так называемого свиного сыра54, наконец, свиное сало в виде шпига – и, однако же, не испытываем к свинье ни малейшей признательности. Да что там говорить, неблагодарность наша зашла так далеко, что самое имя животного, которое после своей смерти приносит человеку наибольшую пользу, превратили мы в страшнейшее оскорбление: мы обходимся со свиньей точь-в-точь как аббат Жоффруа с Вольтером; мясо едим, а память оскорбляем и за неизъяснимые наслаждения, ею даруемые, платим насмешками и презрением55!
Если наши строки смогут устыдить неправедных гонителей свиньи, мы будем счастливы; если же этого не произойдет, нам останется гордиться тем, что мы по крайней мере попытались обелить нашими искренними хвалами столь несправедливо запятнанную свиную репутацию: тот недостоин звания Гурмана, кто не питает к свинье глубочайшую благодарность.
Здесь следовало бы, вероятно, заговорить о том, кто наследует добродетели и участь этого животного, и сразу после похвального слова достопочтенному хряку воспеть очаровательного молочного поросенка; однако хронология велит нам заняться сим славным юношей, лишь когда дойдем мы до летних месяцев.
О дичи
Январь располагает нас к поглощению мяса не только дворовых, но и лесных животных: если салоны в январе кишат докучными людьми, леса в то же самое время полнятся крупной дичью, среди которой мы особенно рекомендуем вашему вниманию косулю, лань и все кабанье семейство – самца, его супругу и их прелестного отпрыска; всех этих лесных жителей человек преследует, невзирая на грозные опасности и суровые холода, ради того чтобы украсить их мясом роскошные столы.
О диком кабане
Из кабаньей головы получается превосходное холодное преддесертное блюдо, какое увидишь не во всяком доме; не все могут попотчевать гостей благороднейшей частью гордого царя наших лесов. Вообще говоря, дикого кабана от дворового отличают только запах, благородная дикость и неукротимый нрав. Оба принадлежат к одному и тому же семейству; головы обоих готовят по одному и тому же рецепту, ноги обоих (так называемые ноги à la Сент-Мену) тушат одним и тем же способом, филейные части обоих одинаково шпигуют, прежде чем отправить на вертел. Впрочем, на том сходство и кончается: дикий кабан почел бы за оскорбление, когда бы стали готовить из него колбасы и сосиски, он согласен лишь предоставлять свои передние и задние части для размягчения в маринаде и поджаривания на вертеле. Еще этот лесной республиканец служит сырьем для холодных паштетов и рагу, для жаркого «модная говядина»56 и даже для рубленого мяса в горшочке; впрочем, три последних способа он трактует как самое настоящее надругательство.
Что же касается юного кабанчика, к которому мы вернемся, когда доведем наш рассказ до лета, он является на наших столах в виде великолепного жаркого.
Этот юноша – кухонный Ипполит:
- Воспитанный в лесах, он дик, как дикий лес57.
О лани
У лани вкуснее всего задние части. Это прелестное животное, дикое, но не злобное и развивающее в лесу огромную скорость, которая, однако, не уберегает его от посягательств нашего кровожадного аппетита, украсит самый изысканный стол, если нашпиговать его крупными кусками сала, размягчить в подобающем маринаде и умащать при жарке сытными струями. Тот же, кто пожелает представить лань во всем ее великолепии, поднесет ей соус из анчоусов, зеленого лимона, лука-шалота и муки, поджаренной в мясном соке. С теленком лани следует обходиться так же, как и с его родительницей; если же вы желаете оказать ему особую честь, нашпигуйте его заднюю ногу, обсыпьте тертыми сухарями, зажарьте, а потом залейте перечным соусом и окружите малыми пирожками. Не стоит и говорить, что в таком блюде нет ровно ничего демократического: еще совсем недавно за подобный обед целое семейство могло бы пойти под суд, да и сейчас, приди к власти наши революционные Братья и Друзья58, любителям ланей наверняка бы не поздоровилось.
О косуле
Косуля, иначе говоря, лесная коза, подается на стол в самых разных обличьях: приготовленная по-бургундски59, тушенная в вине, в виде холодного паштета или жаркого с разными соусами. Последний способ наилучший, особенно если вначале напитать косулю маринадом, нашпиговать салом, а жарить впросырь, чтобы из нее вытекал кровавый сок. Это настоящее жаркое богача; впрочем, живет на свете повариха, которую мы бы назвали по имени, когда бы не боялись оскорбить эту скромную женщину и ее не менее скромного хозяина господина Турналя,– так вот, эта повариха на своей обывательской кухне так ловко превращает баранью лопатку в мясо косули, что обманывает самых великих знатоков. Некоторые умельцы очень ловко обходятся с выменем косули: они варят его в воде, режут на ломтики, обжаривают в лимонном соке, опять варят с подобающими овощами, затем мелко рубят и в конце концов изготавливают яичницу – примерно такую же, как с говяжьими почками, но несравненно более изысканную. Первая против второй – все равно что курфюрст против бургомистра маленького городка.
О зайце
От крупного зверя перейдем к среднему: январь радует нас превосходными и достигшими совершенной зрелости зайцами и кроликами. Среди первых горные предпочтительнее полевых, при этом чем дольше травят их на охоте, тем делаются они вкуснее. «Трехчетвертной» заяц-подросток, уже не юный, но еще не старый, любим Гурманами более всего. Как известно, передняя его часть особенно хороша в тушеном виде, а задняя, если щедро ее нашпиговать,– в жареном. Этот учтивый зверь любезно подставляет бока любым соусам, призванным возбудить нашу чувственность. Из зайца изготовляют паштеты холодные и горячие, его готовят по-мещански, по-швейцарски и с ветчинным желе «сенгара», и хотя зайчатина не раз становилась жертвой наветов, а по утверждению прославленного доктора Педро Ресио из Тиртеафуэры, лейб-медика правителей острова Баратария60, многие люди находят это мясо чересчур тяжелым и навевающим меланхолию, мы, со своей стороны, заверяем, что оно приятно на вкус и переваривается с величайшей легкостью, да и вообще из всех видов черного мяса зайчатина самая нежная, самая легкая и самая мягкая. Во всяком случае, таково мнение просвещеннейших из нынешних докторов; мы приводим его здесь в надежде восстановить честное имя полевого философа, который, бесспорно, куда лучше своей репутации61, чего нельзя сказать о большей части двуногих его собратьев.
О кролике
Хотя кролик на первый взгляд имеет с зайцем очень много сходного, по сути он отличается от него самым решительным образом: нравы, привычки и мясо – все у него не такое, как у зайца. Крольчатина гораздо белее, нежнее и сочнее зайчатины. Впрочем, все сказанное касается только дикого кролика, что же до кролика домашнего, ему вообще не место на столе Амфитриона, хоть сколько-нибудь пекущегося о своей славе; ведь еще со времен Депрео известно, что эта дичь из стойла
- В Париже выросла и пахнет лишь капустой,
- Которой вскормлена62.
Домашний кролик – кушанье для бедняков. Другое дело – кролик дикий, вскормленный тмином, майораном, чебрецом и прочими душистыми травками; он настоящий парфюмер кладовой, кухонный Фаржон63. Пока он молод (а возраст его узнать нетрудно; пощупайте ему передние лапы чуть ниже колен: если там обнаружится шишка величиной с чечевицу, можете не сомневаться, что вам попался кролик-подросток), мясо его – пища столь же здоровая, сколь и нежная. Кролика жарят на вертеле, предварительно нашпиговав или обвернув ломтиками сала, тушат или душат в кастрюле или в горшке в белом вине либо без оного, превращают в рагу или в фрикасе64, готовят по-польски и по-итальянски, по-английски и по-испански, с чечевицей, «в норе», в папильотках65 и тысячью других способов; порой его мясом даже начиняют колбасу. Из всех кроликов, каких доставляют в Париж, наилучшими слывут кабурские66.
О дикой утке
От тех, кто порос шерстью, перейдем к тем, кто покрыт перьями: в январе на наши столы опускается целая стая птиц, одна другой нежнее; если мы начнем с самых больших и притом не оставим разговора о дичи, то как не произнести похвальное слово диким уткам – перелетным птицам, чьи кости – верный предсказатель будущей зимней температуры, а мясо – пища куда более здоровая, чем мясо дворовых уток, ибо более сочное и духовитое! Обеих уток ощипывают одним и тем же способом, но далее, по нашему разумению, дикой утке одна-единственная дорога – на вертел; поджаренная таким образом, она сохраняет весь свой душок, ничего не теряя из прочих свойств; любое другое обращение ее недостойно. Впрочем, позволительно, уже после того как утка поджарится, непосредственно перед едой превратить ее в острое рагу, именуемое сальми; рецепт этого кушанья, не значащийся ни в одном из поваренных руководств, а нам сообщенный много лет назад попечителем одного бернардинского аббатства, мы поверяем лишь ближайшим нашим друзьям, ибо это единственное достояние, которого революция не смогла отнять у его владельца67. Для бернардинского сальми годятся не только утки, но и любая пернатая дичь с темным мясом, в особенности же куропатки и вальдшнепы, а потому рецепт его – вещь поистине драгоценная.
О золотистой ржанке
Золотистая ржанка водится обычно возле прудов, рек и вообще везде, где влажно; вкуснее всего она зимой, когда подморозит. Ржанка вечно пребывает в движении, оттого мясо у нее воздушное и переваривается очень легко. Ее жарят на сковородке, запекают, томят в наглухо закрытом горшке, стенки которого обложены шпигом, жарят на вертеле. Предпочтительнее всего этот последний способ, особенно если ржанка так молода и нежна, что достойна послужить основанием для бернардинского сальми.
Об утке-мандаринке
Утка-мандаринка – водяная птица, которую можно есть и в постные, и в скоромные дни, что делало ее особенно привлекательной для картезианцев и кармелитов. С тех пор, как религиозных орденов во Франции не стало68, слава мандаринки сильно померкла; правда, мясо ее весьма приятно, но с человеческим желудком дружит не так хорошо, как с ее собственным золотистым оперением; впрочем, на кухне мандаринка претерпевает множество превращений: ее подают с испанским чесноком, с цветной капустой, с испанскими артишоками, с устрицами, с оливками, с репой, наконец с трюфелями; из нее делают паштет в тесте и даже в миске69.
О вальдшнепе
Однако утка-мандаринка не идет ни в какое сравнение с вальдшнепом, королем болот и первейшей из птиц, причисляемых к «красной» дичи; восхитительный душок и сочное, легкое мясо делают его желанной добычей для Гурманов всех разрядов. К несчастью, вальдшнеп – птица перелетная и остается с нами всего три месяца в году, но в течение этих трех месяцев он желанный гость на любом столе. Вальдшнеп, изжаренный на вертеле,– одно из самых изысканных блюд, которое можно предложить гостям в знак почета и уважения; лучше него этой цели служит, пожалуй, только фазан. Вальдшнеп – птица столь драгоценная, что ей воздают почести, каких достоин Далай-Лама. Достаточно сказать, что истинные ценители даже помёт его собирают, словно величайшую драгоценность, укладывают на ломтики поджаренного хлеба, поливают обильно лимонным соком и откушивают с величайшим благоговением. Кроме того, из вальдшнепов делают сальми, начиняют их трюфелями и оливками, готовят по-провансальски и по-испански; наконец, их мясо толкут в ступе и превращают в пюре70, на которое укладывают мягчайшие котлетки или другую добавку. Такое пюре слывет в гурманском мире величайшей роскошью; желудку человека чувственного лучшей услады не придумаешь; впрочем, испытать усладу эту дано одним лишь земным богам. Прежде это блюдо почиталось лакомством епископов. Затрудняемся сказать, кто вкушает его в наши дни.
О куропатке
Если вы так расхвалили вальдшнепа, вправе спросить в этом месте служитель Комуса71, что же скажете вы о двоюродной его сестрице куропатке? Скажем, во-первых, что сравнительные достоинства двух этих птиц так хорошо известны, что, превознося одну из них, мы нимало не принижаем другую. Если вальдшнеп – король болот, то куропатка – королева полян. Выдержанная должным образом – а для этого требуется несколько дней,– она превращается в пищу вкусную и здоровую, нежную, легкую и перевариваемую без всякого труда. Три последних качества свойственны в большей степени молодой куропатке, чьи крылышки можно смело прописывать любому больному, оправляющемуся от недуга. У взрослой куропатки мясо более жесткое, более сытное, более духовитое и более подходящее человеку с могучим желудком – что, однако, не означает, что переварить куропатку можно, лишь пустив в ход все пищеварительные способности без остатка. Впрочем, живя в Париже, невозможно вынести исчерпывающее суждение о достоинствах куропатки. Те птицы, которые водятся в окрестностях столицы, обычно не слишком вкусны и не идут ни в какое сравнение с куропатками кагорскими, лангедокскими и севеннскими. В крайнем случае Гурман, конечно, может довольствоваться и куропатками, подстреленными близ Парижа, но поступит куда умнее, если выпишет их из Карекса, ибо тамошние птицы – лучшие во всей северной Франции.
Нашпигуйте молодую куропатку или обложите ее ломтиками сала, а затем изжарьте, и вы получите восхитительное кушанье, особенно если обвернете птицу благословенными виноградными листьями, которые сохранят в целости все ее летучие ароматы. Молодых куропаток готовят также по-польски и по-превальски72, с апельсинами, в желе из их собственной печенки, с пармским сыром и с трюфелями, с шампиньонами, с ветчиной и в папильотках. Еще из молодых куропаток получаются горячие паштеты в тесте и начинка для круглых пирогов-турт и волованов73 с томатами – яства, совсем недавно изобретенного господином Лебланом и в высшей степени достойного своего автора. Наконец, суп из молодых куропаток с профитролями – отличное начало даже для самой блестящей трапезы, ибо служит выразительнейшим предвестием того, что за ним последует; в свое – и его – время мы еще вернемся к этому кушанью.
Куропатки разделяются на красных, белых и серых. Гурманы особенно высоко ставят красную куропатку, довольно часто встречающуюся в полуденной Франции, и куропатку белую, которая, напротив, водится только в Альпах и Пиренеях. Впрочем, и серая куропатка представляет собой кушанье весьма достойное, особенно если, пребывая в равном удалении как от младенческой невинности, так и от старческой дряхлости, может похвастать всеми сочными преимуществами зрелых своих лет. Конечно, честь поджариваться на вертеле куропатки уступают своим юным дочерям, однако есть много других способов сделать из этой птицы преотличное вводное блюдо: куропатку томят в наглухо закрытом горшке, стенки которого обложены шпигом, ее тушат и душат под крышкой, готовят с карповым соусом и с пряностями, по-провансальски и по-царски. Что же до куропатки с капустой или с чечевичным пюре, окруженной двойным бастионом шпига, это кушанье, конечно, менее благородное и менее сложное, но оно вполне способно исполнить роль сменного блюда, радующего душу гостей и ублажающего их желудок. Если же подать его вместо супа, то оно может послужить весьма изысканным началом обеда. Как видим, здесь, как везде, главное – попасть на верное место.
Куропатка от природы чрезвычайно снисходительна и охотно поддается бесчисленным метаморфозам; в частности, и она сама, и ее достопочтенная дщерь всегда готовы обернуться вкуснейшими супами. Назовем лишь два из них: королевин суп и суп с чечевицей и сосисками; по ним можно судить и обо всех остальных.
Оскорблю ли я моих достопочтенных и многознающих читателей сообщением того, что им и без меня превосходно известно: гробницы, которых удостаивается куропатка,– изысканнейшие из всех, какие повара сооружают для дичи? Кто не знает восхитительных куропаточьих паштетов в тесте из Кагора и Перигё или неракских паштетов в мисках (которые с таким успехом изготовлял нынешним летом в Париже прославленный Руже74), где куропатки покоятся на ложе из трюфелей, а трюфели – на ложе из куропаток, и так до самого верха? Хохлатые птичьи головки, торчащие из отверстия в крышке на манер флюгарок, служат этому лакомому надгробию разом и украшением, и вывеской. Не подлежит сомнению, что из всех способов оповестить гостей об имени и звании насельников кулинарного мавзолея этот – далеко не самый обыкновенный.
О греческой куропатке
Греческая куропатка против куропатки обычной – все равно что кардинал против епископа75. Она родилась в Греции и, сохраняя память о прежнем величии, поселяется лишь на возвышенностях, где царит полновластно. Превосходный вкус, малочисленность и непомерная цена – все это сообщает греческой куропатке исключительную притягательность. Это – еда царская. Говорить о ней позволительно только с почтением; есть ее позволительно только преклонив колени.
Хотя, сообщая способ отличать молодых куропаток от старых, мы рискуем оскорбить истинных Гурманов, для которых это отнюдь не новость, все же мы не вправе обойти молчанием премудрость столь важную. Вот несколько примет: у молодых птиц первое перо в крыле заостренное, клюв черный, а лапки темнее, чем у птиц взрослых. Приобретя кое-какую привычку, ошибиться уже невозможно. Жарильщик, который, употребив во зло неопытность покупателя-новичка, выдаст ему старую птицу за молодую, ничем не отличается от плута, который чеканит фальшивую монету, и должен быть наказан не менее сурово. Впрочем, обращаясь к Массье и Лево, к Морану и Бьенне, вы можете быть уверены, что вас не обманут; эти почтенные люди – настоящие янсенисты среди жарильщиков76.
О фазане
Настало время поговорить о фазане, птице истинно королевской, уроженке Колхиды, уже давно принятой в наших краях в сословие граждан. Хотя фазан стал одной из первых жертв той демократической системы, что была принята во Франции после 1789 года, редкие образцы этой породы, сумевшие ускользнуть от революционных преследований, еще встречаются в наших краях. Фазана жарят на вертеле, щедро – как того требует его царственное величие – обвернув промасленной бумагой. По прошествии некоторого времени бумагу снимают, чтобы фазан как следует подрумянился, и подают под соусом из кислого виноградного сока с перцем и солью; иногда, из почтения к этому пернатому монарху, заменяют виноградный сок апельсиновым. Когда фазаны были не так редки, их тушили между ломтями сала в наглухо закрытой посуде, поливали карповым соусом и даже делали из них горячий паштет. Ныне по редкости фазанов роскошество это сделалось недосягаемо; мало найдется французов, которые могут его себе позволить.
Наличие во французском языке выражения «морить, как фазана» достаточно ясно показывает, что блюда из фазана приходится дожидаться так же долго, как дожидается пенсии от правительства нельстивый литератор. Мясо у этой птицы жестковато, сочным и мягким оно становится, лишь если должным образом его выдержать; отсюда следует, что лицам, чьи гуморы склонны к гнилости77, блюда из фазана противопоказаны. Фазана подвешивают за хвост и дожидаются, когда он сам выпадет из петли, так что нередко фазан, подвешенный в последний день Карнавала, отправляется на вертел лишь в пасхальное воскресенье78.
Мы обсудили уже столько птиц, что охотно обошли бы молчанием рябчика, малиновку и жаворонка, когда бы они не требовали нашего внимания так настоятельно. Не мы виной тому, что январь так щедр на хорошие дни и хорошую еду: с младшими его братьями будет у нас хлопот поменьше.
О рябчике
Рябчик – птица одинокая, философ среди пернатых; он живет в лесной чаще, где его не так-то легко обнаружить. Особенно любит он горы, поросшие елями, чьи почки составляют его главную пищу. Рябчику оказывают на кухне то же почтение, что и фазану, и по заслугам. Мясо у него очень нежное и достойное желудков самых взыскательных. Живет на свете и водяной рябчик – некая помесь курицы с уткой; готовят его так же, как дикую утку, но он имеет то преимущество, что его позволено есть в постные дни. Впрочем, янсенисты этого преимущества не признают.
О малиновке
Малиновка есть воплощенное доказательство того прискорбного факта, что Гурман – существо бесчеловечное и жестокое по своей природе: ведь он не испытывает ни малейшей жалости к этой очаровательной перелетной птичке, которую уже одна ее милая доверчивость должна была бы уберечь от наших посягательств. Но если всех жалеть, кого, спрашивается, станем мы есть? Так что нежности в сторону; признаем, что малиновка, одна из виднейших представительниц семейства мухоловковых, в жареном виде весьма аппетитна. В Меце, в Лотарингии и в Эльзасе торговля малиновками идет очень бойко. Этих прелестных птичек или без затей жарят на вертеле, или превращают в сальми.
О жаворонке
Так же поступают и с жаворонком – птицей также перелетной, но встречающейся в окрестностях Парижа куда чаще, чем малиновка. Под покровом тумана жаворонок набирает вес с изумительной скоростью, что роднит его с многочисленными поставщиками, ловящими рыбу в мутной воде; однако он теряет вес гораздо быстрее, чем они теряют лицо. Толстые жаворонки – блюдо для тонких ценителей. Иногда жаворонка запекают в хлебной корке, но чаще всего его отправляют на вертел, обвернув ломтиками сала, а весь вытекший из него сок собирают, как величайшую драгоценность, и пропитывают им ломтики поджаренного хлеба, на которые затем укладывают саму птичку. Жареный жаворонок – кушанье, без сомнения, весьма приятное, но лишь после сытного обеда: ведь в руках человека с хорошим аппетитом самая пухлая малиновка, самый жирный жаворонок суть не что иное, как пучок зубочисток, которыми куда сподручнее очищать рот, чем его наполнять. Жаворонков также запекают в бумажке79 и в круглых пирогах-туртах, превращают в сальми, пускают на украшения других блюд, а зимнею порою начиняют ими знаменитые телячьи головы, которые готовятся в «Надежном колодце» и к которым мы еще не раз будем возвращаться на страницах нашего альманаха.
С легкой руки Людовика XV, который знал толк в еде, из жаворонков делают восхитительные холодные паштеты в слоеном тесте. Наилучшие – те, которые изготовляет в городе Питивье, что в окрестностях Орлеана, господин Прованшер. Мастер этот, который, надеемся, до сих пор пребывает в добром здравии и трудится на радость Гурманам, отправлял свои изделия в разные страны, даже в далекую Индию; обширнейшую торговлю он вел с редкостной честностью, с изумительным благородством и бескорыстием. Паштеты из Питивье – одно из самых дивных кушаний, какие могут услаждать нёбо и желудок благородного человека. Корка у них превосходная, а начинка неподражаемая.
Пожалуй, мы не упустили ни одной разновидности дичи, какая в январе – месяце, любезном сердцу Гурманов,– попадает на наши столы; теперь можем мы перейти к живности80 и рыбе, доступным в это время года; однако, поскольку в этом отношении январь мало отличается от двух последующих месяцев, мы сочли более удобным поместить рассказ о пулярке в раздел о Карнавале, а рассказ о рыбе – в раздел о посте; в противном случае разговор о январе рисковал затянуться до бесконечности. Однако прежде чем проститься с этим месяцем, скажем еще несколько слов о зелени и кореньях, чье существование умелый повар способен продлить до зимы, несмотря на то что земля после первых заморозков их уже не рождает.
Об огородных растениях
Главнейшие из огородных растений, которые январь великодушно оставляет на нашем столе, суть шпинат, капуста огородная и цветная, кардоны, сельдерей, сладкий корень, морковь, репа, лук и порей.
О шпинате
Шпинат по праву занимает первое место в зеленном ряду: он замечателен тем, что доступен нам в свежем виде восемь-девять месяцев в году. Овощ этот – вообще весьма обыкновенный – приводит, однако же, в отчаяние и скупца, и умельца, ибо представить его во всей красе стоит многих трудов и многих денег. Сам по себе шпинат вкуса не имеет, он, точно мягкий воск, способен принять любой вид, но в руках умелого мастера делается истинной драгоценностью. Случалось, что одно-единственное блюдо из шпината навсегда составляло славу повара.
Шпинат, самый целебный из овощей и подходящий для всех желудков без исключения, заправляют мясным соком, коровьим маслом, сливками, желе; из него варят суп и делают крем, им начиняют круглые пироги-турты и слоеные пирожки-риссоли81, он самая обыкновенная – если не считать щавеля – подкладка для многих изысканных блюд, как то: нашпигованная салом телятина, копченый язык и гамбургская копченая говядина. Одним словом, шпинат – лакомство богача и спасение бедняка, смотря по тому, в чьих руках он окажется.
О цветной капусте
Почти весь год большим подспорьем повару служит также цветная капуста, которую возможно сохранять свежей до исхода января и даже чуть дольше. Овощ этот так же полезен для здоровья, как шпинат, но готовить его куда легче: даже не самый блестящий мастер поварского искусства может приготовить отличную цветную капусту под белым соусом или в мясном соке, жаренную в тесте или посыпанную пармским сыром; последний способ – самый изысканный и самый пикантный. Цветная капуста превосходно обрамляет некоторые сменные блюда и многие рагу; порой ее даже кладут в салаты. В общем, она везде хороша и для украшения стола необходима. Покупая цветную капусту, выбирайте только кочаны белые, твердые и тугие, а грязные и рассыпчатые обходите стороной.
О кардонах
Кардоны делятся на листовую свеклу и испанские артишоки. Обе разновидности ценятся тем выше, чем белее и толще их стебель, но на изысканные столы попадают только артишоки.
С артишоками на кухне дело обстоит точно так же, как с сонетом в поэзии. Депрео сказал, что
- Поэму в сотни строк затмит сонет прекрасный.
- Но тщетно трудятся поэты много лет:
- Сонетов множество, а феникса все нет82.
То же самое можно сказать и о кушаньях из артишоков: из всех преддесертных блюд они, пожалуй, самые сложные; повар, способный изготовить изысканное блюдо из артишоков, достоин зваться наилучшим во всей Европе. При Старом порядке в Париже таковым слыл всего один – повар графа де Тессе, первого шталмейстера королевы83. Мы не знаем, что с ним сталось, но справедливость требует, чтобы имя его было названо в нашей книге. Само собой разумеется, что, говоря о сложности приготовления блюд из артишоков, мы имеем в виду те блюда, где артишоки приправляют мясным соком, желе или костным мозгом; ибо приготовить из артишоков постное кушанье или посыпать их пармским сыром – дело нехитрое. Поэтому мы советуем тем, кто не чувствует в себе высшего гения, ограничиться двумя последними способами; овладев ими в совершенстве, можно также снискать славу.
О сельдерее
Сельдерей чаще всего идет в салаты, а точнее сказать, в острые соусы-ремулады84 с превосходной горчицей от Майя или Бордена. Смешанный с отличным желе, он служит превосходным сопровождением для блюд сменных и вводных, таких, например, как баранья нога, тушенная между ломтями сала в наглухо закрытой посуде, или бараний бок. В небогатых домах сельдерей, приготовленный так же, как листовая свекла, исполняет роль скромного преддесертного блюда; куда более изысканное кушанье – сельдереевый крем; изготовить его по всем правилам искусства чрезвычайно трудно, и успех на этом поприще делает повару великую честь.
Хотя в вареном виде сельдерей теряет часть целебных своих достоинств, не нужно забывать, что растение это ароматическое, полезное для желудка, вызывающее аппетит, горячительное, а следовательно, весьма возбуждающее. Для очистки совести мы обязаны предупредить об этом последнем свойстве сельдерея робких читателей: им лучше вовсе не есть сельдерея или, по крайней мере, употреблять его с величайшей осторожностью. Говоря проще, холостякам сельдерей заказан.
Об огородной капусте
Огородная капуста – большое подспорье для всех поваров, от самых обыкновенных до самых искусных. Опытный мастер умеет найти правильное употребление этому овощу, напрасно презираемому гордецами, и с его помощью разнообразить супы и гарниры85; мы уже видели, что не только говяжий кострец, но даже взрослая куропатка охотно укрываются за прочными капустными бастионами. Все дело в приправе. Она все преображает, точно так же, как перо великого поэта сообщает благородство словам самым низким. Капуста по-баварски, служащая идеальной подкладкой для колбасы,– рагу не из дюжинных. А в Германии и даже в Эльзасе готовят повсеместно кислую капусту – блюдо столь же целебное, сколь и приятное; зимой она незаменима и как сопровождение, и как подкладка. За последние несколько лет кислая капуста прижилась и в Париже; в нашем «Путеводителе» мы укажем заведение, где это блюдо готовят наилучшим образом86.
О сладком корне
Из всех огородных кореньев самый употребительный в зимних преддесертных блюдах – сладкий корень, или солодка. Овощ этот растет повсюду, стоит дешево и легко сохраняется в Париже до самой весны. Чаще всего сладкий корень подают под соусом из коровьего масла или жарят на сковороде. Посыпанный пармским сыром, он очень хорош на вкус, а видом напоминает макароны. Пища эта здоровая, и пренебрегать ею не стоит. По слухам, в Лионе из сладкого корня варят отличный суп: парижанам следовало бы перенять у лионцев это умение.
О моркови, луке, репе и проч
Морковь, репа, лук и порей гораздо чаще употребляются в качестве гарниров, чем в качестве основных блюд. Морковь – верный друг повара, испытанный помощник в приготовлении мясных соков, желе и рагу. Впрочем, она подобна людям скромным и поистине незаменимым: протягивает руку помощи, но сама не показывается; таков же и другой товарищ повара, лук, без которого не обходится, пожалуй, ни одна приправа. Впрочем, есть блюдо, где морковь является во всем параде: это говяжье рагу с каштанами, блюдо для искусного мастера. Морковь в этом кушанье – все равно что краски в руках художника: она притягивает к себе все взоры; бычий хвост скромно отступает на второй план, давая моркови возможность наконец насладиться собственным триумфом. Примерно так же блистает репа в паре с уткой. Самый незаметный из четырех названных овощей – порей; он является на наших столах только в супе, которому придает более приятный вкус; с той же целью его вместе с другими душистыми травами кладут в некоторые рагу; овощ этот очень полезен для здоровья и достоин лучшей доли в наших трапезах. Обращаем на это внимание мастеров поварского искусства.
Поскольку Гурманы, к которым преимущественно обращено наше сочинение, в большинстве своем равнодушны к десерту и почитают обед законченным в ту минуту, когда исчезает со стола последнее кушанье преддесертное, мы не станем здесь рассуждать о фруктах. Все, что принадлежит к этой последней подаче, более всего любезной дамам и вообще всем особам, охочим скорее до сладостей, нежели до кушаний основательных, составило бы предмет отдельной весьма толстой книги, пожелай мы разобрать этот предмет во всех подробностях87; впрочем, некоторые соображения касательно десерта почтенная публика отыщет во втором томе нашего альманаха, который, смеем надеяться, порадует лакомок, вечно ищущих новых наслаждений.
О рисе 88
Зимней порой вносить разнообразие в супы и преддесертные блюда помогают рис и лапша: первый употребителен и в скоромных, и в постных кушаньях, а также в любых пюре; он служит самым достойным мавзолеем для бараньих ножек или даже цыплячьего фрикасе; кроме того, из него делают пилав – оттоманское рагу, которое следовало бы ввести в употребление и во Франции. Рис служит сопровождением каплунам, напитывающим его своими соками; в сладких преддесертных блюдах он служит для изготовления «канцлерш»89, карамели или сливочных воздушных пирожных-суфле. Рис – истинный хамелеон, который принимает любые формы ради того, чтобы доставить нам удовольствие, и чаще всего это ему удается, ибо он подобен тем добрым людям, которые своего суждения не имеют, а с чужим соглашаются.
Об итальянской лапше
Между разными родами итальянской лапши наиболее употребительна вермишель90; с нею варят суп как скоромный, так и постный. Когда, сдобренная хорошим нежирным желе, служит она подкладкой для вареной живности, то именуется собственно лапшой; блюдо это столь же изысканное, сколь и здоровое. Ленточная лапша, или лазанья, с тертым пармским сыром идет только в суп, скоромный или постный. Что же касается до макарон, которые своею славой во Франции обязаны Арлекину и скакнули на лучшие наши столы прямо с итальянских театральных подмостков, то они представляют собой преддесертное кушанье из самых питательных и самых вкусных; главное – не жалеть, подавая их, ни масла, ни сыра. Людям же бережливым можем мы посоветовать смешивать половину сыра пармского с половиной грюйерского; заметят подмену лишь самые большие знатоки; главное – подрумянить сыр в малой печи, а для этого потребна лишь толика опытности и внимания. Макаронники, изготовляемые господами Лесажем, Лебланом и Руже,– предмет вожделения всех Гурманов; прославленный доктор Гастальди91 недаром сказал, что макаронник для желудка – все равно что дож для Венеции.
Наиболее распространены эти три вида лапши, однако вообще разновидности этих изделий бесконечны и обязаны своими названиями той форме, какую принимает тесто, как то: звездочки, зернышки и многое другое. Поскольку потребление лапши и макарон в последние годы выросло чудесным образом, фабрики, их производящие, умножились в согласии с аппетитами, так что теперь все это можно преспокойно приобрести не только в Италии, но также и в Париже; однако из-за иного качества муки наши макароны, как правило, менее твердые и быстрее превращаются в размазню, нежели те, что прибывают из Генуи или Неаполя. Надобно непременно иметь это в виду и снимать французские макароны с огня чуть раньше, нежели итальянские, тогда они сохранят свою форму и заметить отличие будет почти невозможно.
Февраль
У римлян месяц этот, как явствует из его названия, был посвящен искуплению грехов92, у нас же назначение его совсем иное. Мы в это время празднуем Карнавал, и потому наш февраль правильнее было бы назвать порою умножения грехов или, по крайней мере, несварений желудка: пожалуй, нет месяца, более выгодного Медицинскому факультету, ибо нет месяца, более изобильного расстройствами желудочными. Многие люди, в течение целого года ведущие жизнь воздержанную, степенную и серьезную, именно в эти развеселые дни позволяют себе предаться некоторым излишествам; не скроем, желудку в это время года приходится нелегко, ибо обжорство Гурманов задает ему много работы. Иные Гурманы убеждены, что желудок просто обязан варить как следует, а если он этого не делает, виноваты медики, сами же Гурманы тут ни при чем. Неудивительно, что люди, исповедующие такие принципы, постоянно мучаются животом, хотя редко в том признаются. Вообще из всех смертных грехов, какие совершает человек, чревоугодие представляется ему самым невинным и менее всего отягощает его совесть. Церковь с легкостью отпускает Гурманам это прегрешение, потому что и сама предается ему весьма охотно и очень мало в том раскаивается. Чревоугодие каноников, как известно, вошло в пословицы задолго до того, как Французская революция посадила их на диету; гостеприимство – добродетель Гурманов – нигде не расцветало таким пышным цветом, как в монастырях. Что же до господ поставщиков, приобретших большую часть богатых французских аббатств… им эта добродетель неизвестна даже по имени.
О Карнавале
Природа в феврале действует согласно с людскими обычаями: месяц этот так же богат вкусной провизией, как и его старший брат, и предлагает нам примерно те же столовые припасы. Говядина в феврале почти так же жирна, телятина почти так же бела, свинина как никогда часто является на столах в виде сытных дополнительных блюд, а сосиски и колбасы во время Карнавала поглощаются как никогда обильно. Дичи в феврале, пожалуй, чуть меньше, чем в январе, но все-таки и она не редкость. Почтовые кареты, прибывающие в Париж с севера и юга, ломятся от индеек с трюфелями и паштетов с утиной печенкой, паштетов в тесте из Перигё и паштетов в мисках из Нерака. Страсбург шлет нам свои несравненные паштеты из гусиной печенки, способные примирить иудеев, которые, как говорят, одни умеют их изготовлять, с христианами. Из Труа дюжинами прибывают превосходные кабаньи головы куда лучше парижских и сотнями – неподражаемые язычки, секрет изготовления которых, кажется, неизвестен вне стен этого города. Письмам приходится потесниться, чтобы дать место толстым колбасам из Лиона, греческим куропаткам из Дофине, обычным куропаткам из Кагора и трюфелям из Перигора, густым ароматом которых пропитываются все послания.
О завтраках
В феврале все те кушанья, которые превращают Францию в лучшую страну мира, подаются и съедаются преимущественно за завтраком. Завтрак – трапеза ни к чему не обязывающая, так что человек, не желающий хвастать богатством, холостяк, не заводящий своего хозяйства, и любитель поесть, не требующий слишком многого, могут устроить у себя завтрак, не рискуя вызвать гнев соседей и дать повод для пересудов соседкам. Поскольку женщин на завтраки обычно не приглашают, поскольку раннее время позволяет челюстям работать неторопливо, наконец, поскольку утренний аппетит сильнее, а удовлетворение его не грозит большими опасностями, собрания эти посвящены преимущественно деятельности жевательной. Прелюдией служат несколько корзинок с устрицами, доставленные из «Канкальской скалы»93. Им на смену приходят бараньи почки, голуби под видом котлет94, пирамиды сосисок и колбас, свиные ножки, начиненные фисташками. На столе может явиться даже прославленный каплун из «Безотказного котелка»95 и запросто, без чинов заместить суп, который строгими правилами этикета в это время дня вовсе не предусмотрен.
Каплуна сменяют салаты, где живность соседствует со всем, что подстрекает аппетит и вызывает жажду, как то: трюфели, замысловатые желе, анчоусы от Майя, огурчики, генуэзская фасоль, турецкое зерно96, черешня, шампиньоны, дыня по-английски, мелкие луковки в уксусе, гранвильские маринованные устрицы и проч., и вот уже каплун не только сменен, но и забыт. Жаркое из утренней трапезы исключено, но его место занимает громадный паштет с индейкой, нашпигованной трюфелями и ветчиной. Вместе с паштетом являются четыре сладких преддесертных блюда (ибо овощам в правильно устроенном завтраке места тоже нет) – такие как шарлотка или, еще лучше, английский яблочный пирог-флан из заведения прославленного Руже, крем, круглый пирог-турта с двойной начинкой, разного рода пышки и проч., что же до вин, они обязаны быть старыми, натуральными и первоклассными, доставленными прямиком из погребов господина Тайёра97. Затем наступает время десерта, который, впрочем, служит лишь для того, чтобы чистить зубы и возбуждать жажду. Не возбраняется выпить чарку-другую пунша, верного товарища желудка98, но настоящее завершение завтрака – это кофе без сливок и его неразлучный спутник – ликер. Люди по-настоящему щедрые в самом конце завтрака предоставляют своим гостям (или, вернее, своим друзьям, ибо тех, с кем делят завтрак, именуют друзьями) возможность освежить горло двумя-тремя чашками ароматного мороженого от госпожи Ленуар или плитками мороженого от господина Мазюрье99, а затем прополоскать его большим стаканом задарского мараскина, после чего друзья разбегаются по домам… чтобы, не мешкая, приняться за суп.
Разумеется, эти дневные завтраки, которые мы описали лишь в самых общих чертах, мало похожи на утренние завтраки наших отцов, которые довольствовались несколькими чашками кофе со сливками или шоколада с ванилью, а если желали, говоря по-народному, заморить червячка, призывали на помощь ломтик байоннской ветчины в окружении дюжины-другой пирожков или же итальянского сыра100, за которым смиренно следовали несколько сосисок. Но Революция переменила во Франции все, включая желудки: они обрели пищеварительные способности доныне небывалые101. По правде говоря, когда бы действие Революции тем и ограничилось, многие люди меньше бы против нее роптали.
Хотя во время Карнавала в особом почете завтраки, это нисколько не мешает Амфитрионам задавать роскошные обеды. Чаще всего поводом для них становятся свадьбы, которые во время поста уже не сыграешь, а поскольку богатые родственники оспаривают друг у друга честь поздравить новобрачных, медовый месяц превращается в нескончаемую цепь несварений желудка. Счастлив тот, кто, как герой комедии весельчака Пикара, ухитряется в эту пору прослыть Кузеном всех и каждого102!
Мы слишком далеко ушли бы от темы нашего сочинения, когда бы взялись описывать февральские свадебные обеды. Однако да будет нам позволено подсказать устроителям этих обедов одно из самых лучших, самых видных и самых основательных сменных блюд; таковым мы считаем знаменитые телячьи головы из «Надежного колодца», которые совершенно заслуженно носят название съестной энциклопедии. Величественная наружность, богатое убранство, яркая ливрея свиты и счастливая симметрия составных частей – все это позволяет телячьей голове занимать место в середине многолюдного стола в течение всего обеда и утолять все аппетиты, нимало не исчерпав собственных запасов; цена у этого кушанья скромная, а вкус отменный, так что оно равно тешит и карман, и тщеславие: вот две причины, по каким оно никогда не выйдет из моды.
О живности
Мы посулили, что займемся живностью, когда дойдем до скоромных дней; в самом деле, именно в эту пору живность царит на столах; если не считать Дня святого Мартина, который в сущности представляет собой праздник индюков (и о котором мы поговорим, когда дойдем до ноября), никогда в Долину103 не стекается так много народа, как в последнюю неделю мясоеда. В эту пору самый бедный рабочий желает взяться за перо, а самый тщедушный рантье собирает все свои силы, чтобы поймать за хвост цыпленка. Торговки из Долины и с Центрального рынка (который по части живности занимает лишь второе место) своего не упустят и, пользуясь случаем, заламывают такие цены на пернатых, что те, кажется, сами не могут опомниться от изумления. Прежде чем отправляться за покупками, взгляните на градусник: если ударил мороз, ни каплуны, ни индейки, ни гуси не будут вам по карману.
Если начинать рассказ с самых малых, то первыми должны идти голуби; однако, хотя в Париже их едят почти круглый год, ибо голуби любвеобильны и плодятся безостановочно, мясо их вкуснее в другую пору, так что к голубям мы вернемся позже.
О цыпленке
Зато цыпленок во время Карнавала предстает во всем своем великолепии. Именно в это время парижане едят жирных цыплят, которые сами по себе составляют весьма недурное жаркое и пленяют три чувства разом: взор, нюх и вкус. Цыпленок рождается на свет от отца петуха и матери курицы и во всех отношениях превосходит родителей, ибо курице, особенно если она в летах, место только в бульоне; что же касается петуха, он является на наши столы, лишь если умерщвлен девственником: у такого петуха мясо очень нежное и весьма своеобразное на вкус, более того, если верить одному многоопытному врачу, знатоку хорошей еды104, мясо это обладает сильным возбуждающим действием, а значит, смерть вовсе не лишает эту птицу ее прославленного темперамента, который так силен, что отчасти сообщается даже вкушающим плоть ее. Мы еще встретимся с петухом в летних главах.
Покамест воротимся к цыпленку и скажем, что для описания всех тех метаморфоз, какие свершаются с ним на наших кухнях, потребовался бы отдельный толстый том. Только на вертеле можно жарить цыпленка двадцатью и более манерами, в том числе à la Шуази и с песчаным луком, по-краковски и по-генуэзски, по-голландски, по-данцигски и по-испански, по-немецки и по-итальянски, с испанским чесноком и с морским укропом – уже по этому перечню видно, что едва ли не все европейские нации сообщили нам свои способы приготовления цыпленка на вертеле. Если от вертела мы перейдем к очагу, разнообразие ничуть не уменьшится. Не говоря уже о фрикасе из цыпленка – самом простом и, возможно, самом лучшем из всех цыплячьих рагу,– мы встретимся здесь с цыпленком слоновой кости и цыпленком под зеленым маслом105, с цыпленком мэтра Луки и цыпленком в бутылке, с цыплятами «летучая мышь», по-бобурски и à la Каракалла; с цыпленком-сюрпризом и душеным цыпленком с кореньями, с цыплячьей колбасой и проч., и проч. Очевидно, что искусные повара не жалели сил, изобретая бесчисленные способы обращения с юными представителями куриного рода.
О пулярке
Обратившись теперь к родственникам цыпленка по боковой линии и перейдя от племянника к тетке, мы снова обречем себя на бесконечные перечисления. Для начала скажем, что города Ле Ман и Ла Флеш оспаривают повсюду, от святилища юстиции до прелестного театра Водевиля (которым с честью командует один из главных литературных лакомок, любезный весельчак Барре106), почетное право присылать нам самых сочных пулярок, и разрешить этот спор может только провинция Бресс, ибо бресские пулярки не имеют себе равных. Последовав же за любезными путешественницами до пункта назначения, то есть до наших кухонь, мы обретем в их лице одно из прекраснейших, нежнейших и сочнейших жарких, какие когда-либо сходили с вертела; если же, заменив внутренности этих милых дам на превосходные трюфели, мы дадим им повертеться над легким огнем, весь дом наполнится ароматом воистину несравненным. При необходимости роскошный трюфель можно заменить смиренным кресс-салатом, нужно только придать ему остроту с помощью крепкого уксуса и начинять им пулярку только на самом последнем этапе ее славного пути. Шпиговать пулярку, чье предназначение – быть насаженной на вертел, значит нанести ей незаслуженную обиду. Если она о чем и мечтает, так это о сюртуке из толстых и жирных ломтей сала, и надо признать, что это платье для нее самое уместное и самое приличное.
Способов приготовления на вертеле у пулярки не меньше, чем у цыпленка. Спросите у славнейших мастеров, откройте наилучшие кухмистерские подручные книги, которые стоят таковых же книг аптекарских, и вы увидите, что пулярку на вертеле можно приправить по-ямайски, à la Виллеруа, грецким орехом, раками, оливками, шампиньонами и даже устрицами. Быть может, вы предпочитаете пулярку в виде рагу? – тогда можете выбирать между провансальской, душенной под крышкой, сваренной в бычьем пузыре, запеченной в хлебной корке или в трубках из макаронного теста, приготовленной со сливками или даже под пеплом – впрочем, этот последний рецепт, конечно, следует употреблять не прежде, чем Карнавал закончится, ведь пепел – символ поста107.
Если, однако же, будет нам позволено высказать наше собственное суждение о предмете столь серьезном, мы осмелимся сказать, что готовить хорошую пулярку иначе, чем на вертеле, значит наносить ей величайшее оскорбление. Она так хороша сама по себе, что украшения ее только портят, и мы можем адресовать ей слова влюбленного Оросмана:
- Искусства не ищи; тебе в нем нужды нет108.
О гусе
Переход от пулярки к гусю, а тем более к гусю домашнему, может показаться слишком резким. Однако хороший гусь, молодой, жирный и нежный, также не лишен достоинств. Уподобим его бойкой брюнетке, с которой можно скоротать время за неимением томной блондинки. Точно так же за неимением пулярки гусь, обладающий всеми перечисленными достоинствами, не портит борозды и не порочит вертела; конечно, жаркое из гуся почитается блюдом мещанским, однако мы знаем немало изощренных ценителей, которые им не нахвалятся. Другое дело, что резать жареного гуся следует по особым правилам, которые очень важно знать, дабы не совершать нелепых ошибок. Горе тому, кто начнет с ляжек: он выкажет тем самым полное незнание света и житейской мудрости. Начинать надо с извлечения из гуся его желудка. Полейте ломтики этого желудка лимонным или померанцевым соком и натуральным прованским маслом, приправленным душистой горчицей,– и вы удвоите цену этого блюда в глазах знатоков. Не стоит и говорить, что жир, истекающий из гуся, поджариваемого на вертеле, надобно собирать и сохранять, как величайшее сокровище. Этим жиром заправляют овощи, в особенности шпинат, которому сообщает он вкус весьма изысканный.
Рагу из гуся не так разнообразны, как рагу из цыпленка и пулярки. Однако если даже не упоминать два вида гусиного супа, как можем мы забыть тушенные в собственном жиру и маринованные гусиные ляжки, которые каждую зиму прибывают к нам в бочонках и горшках из Лангедока! Ляжки эти, которые подают на протертом горохе, на подкладке из тонко нарезанного жареного лука или под Роберовым соусом109,– кушанье очень сытное и выручающее хозяина дома в любое время года: запасшись такими ногами, вы будете всегда крепко стоять на ногах и не позволите никому застать себя врасплох.
Но величайшую признательность истинных Гурманов и почетное место между пернатыми гусь заслужил благодаря своей печенке, из которой в Страсбурге изготовляют превосходные паштеты – роскошное преддесертное блюдо, уже упоминавшееся выше. Чтобы получить гусиную печенку должной величины, гуся подвергают самым мучительным испытаниям. Ему дают много еды, но мало питья, ему прибивают лапы гвоздями к доске и оставляют перед сильным огнем, короче говоря, его обрекают на жизнь довольно незавидную. Пожалуй, эту жизнь можно было бы назвать совершенно невыносимой, когда бы гуся не утешала мысль об ожидающей его участи. Ведь гусь знает, что страждет недаром, что колоссальная печенка его, нашпигованная трюфелями и одетая замысловатою коркою, стараниями господина Корселле110 разнесет его славу по всей Европе,– и потому покоряется своей участи безропотно, не проронив даже слезинки111.
Утка делит с гусем почетное право поставлять сырье для паштетов, причем утиные паштеты не только ничуть не менее знамениты, чем гусиные, но, пожалуй, снискали городу Тулуза бо́льшую известность, чем парламент, а город Ош прославили больше, чем архиепископский дворец112. Поскольку оба города сильно удалены от столицы, паштеты эти отправляются в дорогу в фаянсовых мисках, которые, хотя сами и несъедобны, отлично сохраняют вверенный им дорогой груз. Паштеты путешествуют не одни, они везут в своем нутре перигорские трюфели: из всех способов доставки в столицу бесценных грибов этот – не самый невкусный, но зато и не самый экономичный; впрочем, пища эта и предназначена исключительно для земных богов, иначе говоря, для людей состоятельных. Хорошо, если им достает вкуса для того, чтобы оценить это яство!
О дворовой утке
В кухне Амфитриона с тонким вкусом дворовая утка редко попадает на вертел. Этой чести более достойна ее двоюродная сестрица дикая утка, особа куда более деятельная, независимая и опрятная, а потому, как мы уже сказали, имеющая более сочное мясо и совсем иной душок. Впрочем, мы вовсе не хотим сказать, что юная руанская утка, изжаренная на вертеле, совсем не вкусна; однако ее скромной персоне куда более пристало покоиться на подкладке из репы, тушенной между ломтями сала в наглухо закрытой посуде. Подают дворовую утку также с испанским артишоком и с сельдереем, с анчоусами и с цикорием, с огурцами, с устрицами и с оливками, с зеленым овощным пюре и с пюре чечевичным, приготовленной по-итальянски и проч., и проч. Во всех этих отменных вводных блюдах повара с величайшим искусством скрывают низкое происхождение пернатых нерях; это как раз тот случай, когда по одежде не только встречают, но и провожают.
О шампиньонах
Февральские огородные растения не слишком отличаются от январских, разве что цветная капуста становится большей редкостью, так что приходится заменять ее шампиньонами, которые как раз в этом месяце вырастают на грядках, если, конечно, не мешают холода. Шампиньоны входят в состав бесчисленного множества рагу. Как отдельное блюдо их используют редко, тем не менее их можно готовить со сливками, запекать в печи и даже жарить в масле. Самый обычный – но отнюдь не самый плохой – способ заключается в том, чтобы подавать их в хлебной корке. Кроме того, шампиньоны сушат или маринуют по рецепту прославленного Майя, наконец, из них делают грибной порошок, который сохраняется долго и служит немалым подспорьем для удовлетворения чувственных потребностей: его смело можно назвать кухонным табаком.
Март
О морской рыбе
Мы отложили до этого месяца разговор о рыбах, которых едят зимой, – не только в марте, но также в январе и феврале; в эту пору свежий улов особенно хорош и рынки полны рыбы. В эти месяцы прибывают в Париж осетр и лосось, треска и калкан, тюрбо и морской язык, морская камбала малая и большая; лиманда и морской дракон, морская форель и лаксфорель, мерлан и сельдь (впрочем, с декабря месяца уже без молок), зеленые и белые устрицы из Дьеппа и Канкаля и проч., и проч.
Пожелай мы исчислить в деталях все операции, каким подвергаются эти бесчисленные обитатели Океана, прежде чем попасть на наши столы, нам пришлось бы исписать толстый том. Из всех столовых припасов, какие благодетельное Провидение дарует человеку для утоления аппетита, ни один не дает повару такой возможности похвастать мастерством, как рыба, в особенности же рыба морская, которая, будучи от природы слегка безвкусной, должна многое призанять у искусства, и притом искусства утонченного, для того чтобы поразить нашу чувственность и возбудить наш аппетит. На первый взгляд это кажется парадоксом, ибо на большей части наших столов перечисленные нами рыбы являются либо вареными, либо запеченными; но что с того? Разве пряный отвар113, изготовленный по всем правилам искусства, такой уж пустяк? Авторы расходятся во мнениях о природе этого блюда, которое можно считать соусом, а можно назвать колыбелью всех рыбных блюд, исключая рыбу жареную, запеченную и пряженую. Поваренные книги полны рецептов рыбных супов более или менее изысканных и более или менее зависящих от климата. Например, в Лионе – городе, окруженном превосходными виноградниками,– все убеждены, что рыба, однажды вынутая из воды, ни в коем случае не должна туда возвратиться. В Париже, где вино дорого, к делу подходят не так строго. Здесь в ходу рыбные супы как скоромные, так и постные; первые, разумеется, куда вкуснее, но поскольку церковный устав запрещает есть их в постные дни, приходится заменять мясной сок соком трав и кореньев; вот для повара искусного и набожного случай пустить в ход все свои умения и доказать свое отличие от горе-поваров, которые только и умеют что переводить продукты.
О тюрбо
Рыбу тюрбо, прозванную за красоту морским фазаном и заслуживающую, благодаря своим роскошным формам, звания царицы поста, обычно варят целиком; это самый благородный способ обращения с ней; ведь если вначале разрезать эту рыбу на части, она перестанет быть украшением стола. Перевязь из петрушки и масляный соус в отдельной посуде – вот единственные украшения, в которых нуждается тюрбо; прибавим еще лопаточку из золота или, по крайней мере, из позолоченного серебра от знаменитого господина Одио114, ведь употреблять в столь торжественном случаю обычную ложку – истинное кощунство. Любители разнообразия готовят тюрбо по-голландски и по-францискански, по-перигорски и по-королевиному, по способу Сент-Мену, с раковым желе, с карповыми молоками и проч.; но все эти блюда представляются нам куда менее благородными, чем тюрбо в пряном отваре,– кушанье, отличающееся простотой и величием настоящих героев, для которых любые прикрасы не честь, а обида.
Но все это касается первого явления тюрбо в столовой; назавтра возможно подать ее в переодетом виде: превосходные достоинства этой рыбы окажут себя и под маской. На другой день после премьеры тюрбо хороша под соусом бешамель, названным в честь дворецкого Людовика XIV маркиза де Бешамеля, который изобрел его и этим одним завоевал право на бессмертие115. Подобное нередко случается и в словесности: так одна-единственная драма составила славу Пирона и Грессе, Латуша и Лану, да и самому Мерсье «Тачка уксусника» принесла больше известности, нежели все его политические, астрономические, нравственные и литературные парадоксы116.
Об осетре
Осетр так дорог и так редок, что является целиком лишь на королевских пирах. По этому случаю его жарят на вертеле, предварительно нашпиговав анчоусами и угрями, а затем поливают маринадом, подбитым добрым желе из раков. Это – кушанье роскошное, достойное предстать на столе в Страстную пятницу. Впрочем, куда чаще осетра покупают звеньями и подают либо с гренками, либо с душистыми травами, либо нашпигованным салом (тогда это блюдо скоромное), либо в виде рагу с репой, а то и холодным с оливковым маслом и уксусом. В любом случае это пища богов, но, пожалуй, тяжеловатая и причиняющая желудку частые несварения. Для князей церкви принять смерть от осетра – дело самое обыкновенное; впрочем, нельзя не признать, что для настоящего Гурмана такая смерть – самая легкая и самая достойная.
О лососе
Другой царь морей, который, подобно осетру, снисходит до того, чтобы входить в наши реки и подниматься по ним едва ли не к самым истокам,– лосось; в Париже он не редок, но очень дорог; все дело в том, что он нескоро портится, а потому может терпеливо дожидаться покупщика несколько дней кряду. Целиком лосось является лишь на столах у самых богатых Амфитрионов, да и то лишь по торжественным случаям,– ведь природа создала его кушаньем парадным. Самое пристойное место для лосося есть пряный отвар, особенно если перед подачей на стол вложат ему в брюхо фунт коровьего масла, стертого с мукой. Но порой обходятся с ним по-другому: либо запекают в сухарях и подают под рубленым соусом117, либо оставляют преть между ломтями сала в наглухо закрытой посуде, затем омывают двумя бутылками превосходного шампанского вина из погреба господина Тайёра, а под конец украшают глазированными индюшачьими крылышками и дюжиной великолепных раков, сваренных в том же божественном напитке. В этом наряде лосось так дивно хорош, что можно брать деньги за его показ. Разрезную лососину глазируют и маринуют, готовят с душистыми травами и в шампанском вине (как видим, лосось любит выпить, причем вина он требует первосортного), жарят на вертеле, запекают в бумажке и превращают в горячий паштет. Голову лосося тушат в наглухо закрытой посуде либо для постного стола, либо для стола скоромного. Наконец, из лососины готовят холодный паштет; здесь главное – вынуть паштет из печи наполовину готовым, влить в отдушину полпинты прозрачного желе из телятины и ветчины и, вновь поставив в печь, дождаться, пока паштет приобретет тот золотистый цвет, без которого на столе он непременно уподобится блондинке, явившейся на бал без румян.
О тунце
Мы не станем ничего говорить о тунце, который водится только в Средиземном море, а следовательно, почти никогда не добирается до Парижа свежим; впрочем, нам присылают его в паштетах или в маринаде с натуральным прованским маслом. Рыбу эту недаром прозвали картезианской телятиной: на телячье мясо похожа она вкусом и белизной, и оттого ее везде любят, а более всего любезна она Медицинскому факультету: ведь объесться ею легче легкого.
О калкане и молодой тюрбо, о морском языке, морской камбале, лиманде и проч
Калкан и молодая тюрбо – рыбы очень нежные, в особенности первая, которую недаром именуют морскими сливками; обе, точь-в-точь как взрослая тюрбо, дивно хороши в пряном отваре. Что же касается до морского языка, морской камбалы и лиманды, их, как правило, жарят в масле, причем морской язык обладает тем преимуществом, что его можно разрезать прямо на столе, а затем щедро полить получившиеся кусочки лимонным соком, смешанным с ложкой натурального прованского масла, отчего рыба эта становится и приятнее на вкус, и легче для желудка. Доктор Гастальди, который служит нам всем примером и в еде, и в беде, ест их только так и никак иначе. Хороши также жареные мерланы; они незаменимы в качестве постного жаркого – при условии, разумеется, что успели хоть немножко подрасти. Прекрасное дополнительное блюдо представляет собой свежая сельдь, поджаренная на решетке и поданная с соусом из целебной и душистой горчицы господина Бордена; однако сельдь эта непременно должна быть с молоками, в противном случае ей в хорошем обществе делать нечего, ибо сельдь без молок – это все равно что аптекарь без сахара или поставщик без кредита; между тем в марте сельди еще не успевают обзавестись этим достоинством, по каковой причине мы и вернемся к ним, равно как и к мерланам, позже.
Об устрицах
Парижане лакомы до устриц, которые в большом количестве поступают в Париж из Дьеппа, Канкаля и даже из Маренна118; надо, однако, иметь в виду, что устрицы, привозимые на барках, не идут ни в какое сравнение с теми, которые прибывают в столицу сухим путем. Эти последние, продающиеся корзинами на улице Монторгёй, которая с незапамятных времен служит им пунктом назначения, всегда свежее и нежнее. Впрочем, в холодное время неплохи и устрицы с барок – при условии, что они провели в порту не более двух дней.
Самый обыкновенный способ употребления устриц – есть их сырыми перед супом. Многие люди даже не подозревают, что с устрицами можно обходиться иначе, и позволяют себе, самое большое, приправить их щепоткой молотого перца или струйкой лимонного сока. Каково же было бы их удивление, узнай они, что существует более двадцати различных способов приготовления устриц! что их мелко рубят и тушат в кастрюле, посыпают пармским сыром, фаршируют, жарят на сковородке и на решетке, готовят в папильотках и в бумажках119, по-тетушкиному и по-дядюшкиному, что из них изготовляют постные и скоромные рагу, гарниры всякого рода и даже – кто бы мог подумать! – супы и пирожки! Тогда-то жалкие эти невежды постигли бы свое ничтожество и смиренно признали величие того искусства, о котором мы ведем речь и которое доставляет роду человеческому наслаждения надежнейшие и разнообразнейшие из всех.
Устрицы представляют собой, как мы уже отметили, обычную и даже неизбежную прелюдию ко всем зимним трапезам. Впрочем, прелюдия эта обходится зачастую весьма дорого, во-первых, потому, что требует великого расхода на превосходное белое вино, после которого не станешь уже подавать вино посредственное, а во-вторых, потому, что иные нескромные гости, движимые глупым тщеславием, считают делом чести заглатывать устрицы сотнями,– занятие вдвойне бессмысленное, ибо Амфитриона оно нередко огорчает, гостю же подлинного наслаждения не доставляет! Ведь доказано опытом, что устрицы, если съесть их больше пяти-шести десятков, вкуса уже не радуют и аппетита не возбуждают.
О рыбах пресных вод
В марте месяце честь доставлять легкие припасы к нашему столу оспаривают у моря реки и пруды. Между рыбами, которыми обязаны мы этим водоемам, первое место занимают бесспорно карп и щука. Эта последняя, которую именуют царицей пресных вод, очень красива; ее легкая стройная фигура, форма хвоста и ряды зубов сообщают ей вид разом щегольской и устрашающий. Щуку можно назвать Аттилой прудов; по природе своей она великая хищница и пожирает всех подряд, боится же среди всех живых тварей одного только человека. В своем роде щука есть не что иное, как маленький крокодил.
О щуке
Готовят щуку тысячью способов: по-женевски и по-немецки, под белым соусом и на пару́; ее тушат в кастрюле, жарят на сковородке и фаршируют, кладут в салат и в круглый пирог-турту, в паштет холодный и горячий; но всех благороднее, конечно же, щука на вертеле, нашпигованная в постный день угрями, в скоромный – салом. Покуда она жарится, надлежит окроплять ее хорошим белым вином, уксусом или соком зеленого лимона; тот же, кто хочет сделать ее еще мягче, подает ее, даром что изжаренную, под соусом, в котором анчоусы и устрицы перемешаны с каперсами и белым перцем. Такая щука имеет вид выразительный и благородный, но лишь в том случае, если она порядочной величины.
О карпе
С кумом ее карпом – если только он не уроженец Рейна и не прибыл с великой пышностью из Страсбурга – повара обходятся менее почтительно. Кстати, из любви к истине мы обязаны предупредить, что рейнские эти уроженцы в самом Рейне никогда не бывали и выросли не меньше чем в четверти лье от этой реки. Рейнские карпы – это рыбы, которых вылавливают в прудах Линдра, Гондрешанжа и других городов эльзасских и лотарингских и совсем юными привозят в Страсбург, где откармливают в просторных садках реки Иль, довершая тем самым их воспитание120. Цена на таких карпов может доходить до 30 луидоров121. В 1786 году нам довелось знать одного карпа, который дважды побывал в Париже и оба раза – за неимением покупателей – возвращался назад в Страсбург. Ездил он с курьером и питался в дороге одним лишь хлебом, смоченным в вине. Возможно, он здравствует и поныне.
Нетрудно догадаться, что этим почтенным особам место в пряном отваре; всякое иное обхождение для них оскорбительно. Разварной карп – кушанье, подобающее князьям или, по крайней мере, республиканским поставщикам, дошедшим до третьего банкротства122. Сходным образом готовят и юных карпов, выловленных в Роне, и тех прекрасных карпов, что водятся в Сене; в опровержение мудрости, утверждающей, будто нет пророка в своем отечестве, эти последние пользуются в Париже немалым уважением. Что же касается карпов средней величины, их, как правило, жарят в масле, тушат обыкновенно или по-итальянски, фаршируют, готовят с грибами, на манер цыплячьего фрикасе и еще множеством способов. Кушанье это в высшей степени здоровое и очень приятное, особенно если после тинистого пруда карп провел некоторое время в проточной воде и вышел, так сказать, из грязи в князи. В Париже во время Великого поста карпы – частые гости; они стекаются в столицу отовсюду. Особенно любимы знатоками карповы молоки; их часто продают отдельно и либо жарят, либо превращают в рагу, либо запекают в круглых пирогах-туртах. Очень вкусны также языки разварных карпов. Истинные Гурманы до них весьма охочи и всегда стараются заполучить голову карпа ради его языка. Порой, однако, ожидания их оказываются обмануты самым досадным образом: дело в том, что у некоторых карпов, словно в насмешку над аппетитами этих господ, язык обретается под хвостом.
О форели и хариусе
Форель и хариус, рожденные в Женевском озере, представляют собой божественное лакомство, которые в Париже удается раздобыть только нынешним Бурвале123, да и то лишь изредка. Отваренные целиком с душистыми травами, поданные на стол под женевским соусом, который напоминает об их происхождении и подобает им больше любого другого, форели и хариусы могут сделать честь самым изысканным столам. На них зовут за две недели, причем удостаивается приглашения далеко не всякий. А уж отведав форели, какой Гурман не крикнет ей фора!
Об угре
Угорь так высоко не метит; смиренный от природы, он сторонится света и охотно уступает первенство карпу, однако скромность его вознаграждается с лихвой: угорь – дорогой гость на самых пышных столах. Однако на столах этих он никогда не является целиком, даже если его подают с татарским соусом, а более благородного способа обхождения с крупными угрями не придумано. Впрочем, угрей-гигантов можно жарить на вертеле, предварительно нашпиговав трюфелями и обернув в масленую бумагу, а потом подавать с каким-нибудь затейливым соусом. Но этой чести удостаиваются лишь угри-исполины. Обычного же угря подают под матросским или цыплячьим соусом, а еще чаще используют его для украшения прочих припасов, которые такому соседу всегда рады по причине беспримерной его скромности. Добряк Лафонтен обессмертил угря, приготовленного иным способом, однако паштета с угрем нынче не найти нигде, кроме Лафонтеновых сказок124. В Париже угри слишком дороги.
Об окуне
Окунь, водящийся в Сене,– рыба для выздоравливающих, впрочем, со вкусом нежным и приятным. Есть его надобно разварным с добрым масляным соусом.
О налиме
Налим в Париже – немалая редкость и является здесь за время Великого поста всего один-два раза; готовят его так же, как и угря, а кроме того, тушат с грибами и ветчиной, варят, нашпиговав салом и телячьей мякотью, или жарят в масле, готовят по-мещански и по-итальянски, по-римски и по-прусски, à la Виллеруа, в шампанском вине и в соусе из его собственной печенки. Печенка эта – кушанье отменно нежное, и миллионеры считают своим долгом отведать его хотя бы один раз в жизни, чтобы насладиться одним из величайших удовольствий, какие суждены на этом свете богатым Гурманам.
О пескарях, лещах, усачах и раках
Прочие рыбы пресных вод мало достойны внимания Гурманов. Хотя пескари, если из Сены попадают на сковородку, весьма недурны; пескарь – речная корюшка, а в конце большого обеда из него получается набор отличных зубочисток. Жарить лещей и уклеек, линей и усачей мы предоставим обывателям. Впрочем, к последней из этих рыб стоит отнестись со вниманием. Хороший усач – вещь отнюдь не бесполезная. Что же касается раков, то средние используются во множестве гарниров, как постных, так и скоромных, из крупных же, сваренных в пряной воде или, лучше того, в шампанском вине, получается преддесертное блюдо, которое можем сравнить не иначе, как с неопалимой купиной. За иные из этих купин торговцы просят целых пять луидоров – в чем, впрочем, нет ничего удивительного, если вспомнить, что двадцать лет назад цена за сотню отличных страсбургских раков доходила до шестидесяти ливров125.
Как видим, время, отведенное для покаяния, не вовсе потеряно для объедения. Между прочим, именно в пост рыба особенно вкусна, так что интересы религии превосходно уживаются об эту пору с интересами желудка. Кстати, пост – вещь очень полезная с точки зрения политической экономии: нужно же дать скотине возможность произвести на свет себе подобных; воистину, когда бы все соблюдали пост, мяса было бы больше, а стоило бы оно дешевле.
О бобовых
Мартовские огородные растения мало чем отличаются от январских и февральских; новый урожай еще не созрел, так что в пищу идут лишь те овощи, какие удалось запасти с прошлой осени. Цветной капусты больше нет; приходится пробавляться сладким корнем и картофелем. Зато во время Великого поста все вспоминают о бобовых: белых турецких бобах, чечевице и сушеном горохе. Правда, в благородных домах только первый из этих овощей является на столе самостоятельно либо как подкладка под бараньей лопаткой, да и то лишь если прибыл прямиком из Суассона, родины лучших бобов во всей Франции; два других непременно обращаются в желе или пюре. Наши баловни судьбы, в отличие от Исава, не отдали бы за чечевичную похлебку права первородства, пусть даже право это в нынешней Франции вовсе лишилось цены.
Апрель
Об алозах
Первые дни этого месяца обычно еще принадлежат Великому посту, так что мы как раз успеем отведать алозу – морскую рыбу, которая поднимается по рекам вплоть до самого Парижа на радость Гурманам, весьма ее почитающим. Алозы, выловленные в Сене, этого почтения в высшей степени достойны, ибо мясо у них бесконечно нежное, а по вкусу – точь-в-точь орех, только выросший не в лесу, а в воде. В океане алоза была тоща и суха, в Сене же сделалась жирна и сочна. Едят ее разварную, а еще лучше – изжаренную на вертеле либо на решетке; в этом последнем случае главное – не забыть уложить алозу на ложе из щавеля: пусть нежится там, точно красавица на оттоманке.
О ягнятине
Наступает Пасха – праздник ягнят и ветчин; первых подают на жаркое, вторые – перед десертом. Ягнятина – мясо довольно безвкусное и переваривается с трудом, но эти недостатки искупаются белизной его и нежностью. Часть ягнятины, изжаренная на вертеле, недурна, особенно если перед тем, как разделать мясо, смять фунт отличного коровьего масла с мелко порубленными петрушкой, песчаным луком и душистыми травами и запустить этот масляный шар ягненку под лопатку; растаяв, он сообщит мясу ту остроту и жирность, каких ему недодала природа. Несложная эта операция тешит не только вкус, но и ум Гурманов, которые всегда рады следить за приготовлениями, совершаемыми прямо на обеденном столе, особенно если за дело берутся пухлые белые ручки хорошенькой молодой женщины.
Об окороках и ветчинах
Из окороков наилучшая репутация у байоннских и майнцских; объясняется это и способом приготовления ветчины, и личным достоинством свиней, в Байонне и Майнце вскормленных: под этими разными небесами достигают они почти равного совершенства. Байоннские окорока, которые следует доставлять в Париж сухим путем, ибо морское путешествие не идет им впрок, более массивны и весят обычно от 15 до 20 фунтов; майнцские окорока меньше, но зато нежнее; мы не дерзнули бы сделать это замечание в ту пору, когда этот товар был для нас чужеземной диковиной, однако теперь, когда, благодаря нашим завоеваниям, сделался он кушаньем туземным, мы вправе хвалить майнцский окорок, ничуть не погрешая против собственного патриотизма126. Окорока жарят на вертеле, готовят по-немецки, под шампанским или без воды и огня127. Из них извлекают эссенцию, которую, особливо если она приготовлена прославленным Прево, искусные повара ценят на вес золота; их режут на ломтики, отправляют на сковородку и проч., и проч. Впрочем, все эти способы хороши только для окороков обыкновенных, что же касается до байоннских и майнцских, то им одна дорога – обернуться ветчиной и быть поданной на стол перед десертом; для того обсыпают ее сухарями, а в торжественных случаях, как то праздники, балы и проч., покрывают мясным желе. На Пасху ветчина отменно хороша и всем любезна; до самой Пятидесятницы вы не сыщете лучшей смены для жаркого. Особенно же явственно обнаруживают себя достоинства ветчины во время завтрака. Соберите на эту трапезу пять-шесть гостей, и дорогой гость из Майнца исчезнет меньше чем за час, особенно если вы уважите его тоску по родине и не пожалеете превосходного рейнского вина, с которым майнцская ветчина так же дружится, как руссийонские вина – с ветчиной байоннской. Обе они заслужили право отправляться в желудки Гурманов вместе с вином их отечества. Желудкам это только на пользу.
Именно из байоннских окороков изготовляются те превосходные ветчинные паштеты в тесте, которые навеки прославили господина Лесажа, а сегодня с неменьшим успехом продаются в лавке его преемника господина Леблана на улице Арфы (меж тем как сам господин Лесаж перебрался на улицу Монторгёй). Мы еще вернемся к заведению господина Леблана в нашем «Путеводителе», а пока лишь заметим, что в начале апреля лавка его представляет собой зрелище столь любопытное и столь аппетитное, что никакой другой пирожник с ним тягаться не может. На всех этажах развешаны полторы с лишним тысячи байоннских окороков: на полу и на потолке, на стенах и на окнах – повсюду одни только окорока. В этой ветчинной библиотеке ни одна дверь не закрывается, и свежий воздух, свободно гуляя по комнатам, ласкает и сберегает драгоценные мясные творения, зато все окна тут накрепко закрыты: ведь с улицы в дом могут налететь мухи. Что же до мышей и крыс, от них окорока охраняет роскошный черно-белый котище; этот верный страж имеет сходство со многими библиотекарями: он тоже никогда не дотрагивается до вверенных ему сокровищ. Кот этот славится на весь Париж, и красавицы приезжают в экипажах, дабы выразить ему свое восхищение и вознаградить за труд ласками, которые принимает он с похвальной скромностью. Честность его вознаграждается сытной едой, но оттого не менее достойна уважения128. Сколько мы знаем людей, которых кормят досыта и награждают без счета, но это, однако же, не мешает им ни воровать, ни предавать! Хотя всем этим окорокам суждено отправиться в паштеты (да и этого огромного запаса порой не хватает), господину Леблану случается отвязать парочку-другую и, приготовив своим манером, отпустить своим истинным друзьям. Ничего вкуснее и восхитительнее на Святой неделе съесть невозможно.
Апрель нельзя назвать самым голодным из месяцев, однако сравнения со своими старшими братьями он не выдерживает. Недаром было сказано, что время года это, хоть и весьма приятное, но самое скупое на птицу и дичь, овощи и фрукты.
Поэтому любителям вкусно поесть приходится возвращаться в мясные ряды – пробавляться ягнятиной, тешиться ветчиной и мечтать о зеленом горошке и макрели, которые не замедлят обрадовать их своим возращением.
О спарже
В конце апреля в Париже на радость тем, кто, наскучив картофелем и прошлогодними бобами, тоскует о зелени, является первая спаржа.
Спаржа в Париже всегда очень дорога и доступна только богачам: пища эта вовсе не сытная и слегка возбуждающая, но зато очень нежная. Лучшую спаржу растят в Вандоме: она на все прочие совсем не похожа. Толстую спаржу варят в воде и едят либо под белым соусом, либо с прованским маслом. Мелкую готовят так же, как зеленый горошек,– это помогает скоротать время в ожидании горошка настоящего. Но лишь только этот последний явится на прилавках, спаржа отступит, не смея узурпировать его права. Так прелестница на возрасте, блистающая во время ночного празднества, бежит лучей зари и не дерзает соперничать с восемнадцатилетней красавицей, которой единственными украшениями служат юный возраст и свежий цвет лица.
Спаржу едят также под сливочным соусом и под маринадом, с мясным соком и даже в яичнице. Служит она и сопровождением к некоторым рагу, однако, повторяем, во всей своей красе она предстает лишь тогда, когда сварена натурально. Такая спаржа – превосходное преддесертное блюдо; преломлять ее – занятие из приятнейших. Спаржу едят руками; касаться ее ложкой – значит выказать совершенное неумение жить в свете.
Май
О макрели
Слышится зов макрели: ее появление в Париже есть, бесспорно, одно из главнейших весенних удовольствий. Рыба эта имеет сходство с женщинами: она нравится всем без исключения. Она всем нужна и всеми привечена. И простой обыватель, и богатый вельможа ей рады, и если на столы богачей открыт доступ лишь самым роскошным макрелям, бедняки довольствуются, не ропща, макрелями куда более скромного достоинства. Вообще, рыба эта по вкусу всем: и господам, и дамам, и юнцам, и старцам.
Повара подвергают макрель самой разнообразной обработке; чаще всего жарят ее на решетке, обвернув масленой бумагой и запустив ей в брюхо шмат коровьего масла, смятого с душистыми травами, однако на богатых столах макрель является и в ином виде – нашпигованной по-испански, изжаренной по-фламандски, приготовленной по-перигорски, в бумажке и в папильотках, изжаренной кусочками на вертеле, фаршированной раками и даже плавающей в супе. Готовят из макрели и скоромное блюдо: для этого припускают окорок и поливают рыбу густой ветчинной эссенцией непосредственно перед подачей на стол. Макрель оттого делается чрезвычайно сочна и обретает даже способность возбуждать похоть. Посему прописана эта рыба тем, у кого не осталось ни аппетита, ни страсти.
О голубях
Голуби не сходят с нашего стола в течение всего года, ибо они на редкость плодовиты; однако можно сказать, что во всей своей красе эта птица является нам лишь вместе с новым урожаем зеленого горошка; в паре с горошком голуби составляют одно из лучших весенних вводных блюд. Но этим голубиные таланты не исчерпываются; искусному повару голубь любезно предоставляет бессчетные возможности явить свое мастерство. Способов подавать голубей на стол не счесть: птиц томят в наглухо закрытом горшке, стенки которого обложены шпигом, душат под крышкой и тушат в сковородке, готовят по-мещански и по-голландски, à la Гобер и à la Гарди, à la Флёри и à la Станислав, по-лунному и по-солнечному, по-люксембургски и по-дофински, по-королевски и по-импровизаторски, с базиликом и с коровьим маслом, в запеканке и с ветчиной, с трюфелями и с пармским сыром, с грибами и с каперсами, с черепашьими лапками и с репой, под жареным красным соусом и в смешанном рагу-сальпиконе, подают в паштете и в маринаде, глазированными и шпигованными, в сюрпризах и в пепле; кстати, из пепла голубь запросто перелетает в водку или даже в спирт, превращаясь таким образом из кающегося грешника в запойного пьяницу. Как не воскликнуть, слыша все это: что за Протей эта полудомашняя птица! А ведь мы назвали еще не все способы обращения с нею. Тот, кто обложит голубя ломтями сала, обвернет виноградными листьями и поджарит на вертеле, получит жаркое, конечно, не первосортное, но вполне сходное даже для людей первостатейных, особенно если хозяин умеет разделать голубя так, как требуют правила искусства и обычаи большого света, и любезно поднести дамам ножки, а не крылышки129.
О зеленом горошке
Зеленый горошек – молодой, хороший! – вот главный майский напев, и напев этот для слуха Гурманов слаще искусных итальянских арий. В самом деле, можно ли оставаться безучастным при виде нежнейшего, вкуснейшего и милейшего из овощей? При виде овоща, который дарит парижанам четыре месяца неизъяснимых наслаждений, мирно уживается с любым мясом и с любой птицей, а поданный отдельно, царит как король среди кушаний преддесертных?
Чтобы исчислить все многообразные способы приготовлять зеленый горошек, потребовался бы отдельный толстый том. Горошек готовят со сливками, по-полумещански и по-фламандски, à la Рамбуйе и со шпигом; он идет в супы скоромные и постные, в зеленые пюре самых разных видов. Горошек служит подкладкой телячьей грудинке, птичьим потрохам, молодым голубям, малым котлетам и бараньим ножкам; он составляет компанию цыплячьему фрикасе, говяжьему языку, телячьим ушам и проч., и проч. Одним словом, ни на земле, ни в небесах не найдется такого зверя, который не почел бы за честь поместиться на тарелке подле зеленого горошка – на радость нашему здоровому аппетиту.
Пока в Париже можно отведать первоклассного зеленого горошка, парижане не вправе жаловаться на жизнь, особенно если горошек этот, приготовленный учеником великого Морийона130, заправленный добрым коровьим маслом, является среди преддесертных блюд зеленой горкой, которую всякий спешит разрушить.
Да будет же благословен прекрасный месяц май, приносящий нам макрелей, зеленый горошек и милых голубков! Месяц этот так же дорог Гурманам, как и влюбленным, но любовь приходит и уходит, а вкусные яства остаются и радуют человека от рождения до смерти.
О коровьем масле
Прежде чем проститься с маем, скажем несколько слов о коровьем масле; чем зеленее трава, тем вкуснее масло, а в мае травы особенно хороши. Самое лучшее масло прибывает в Париж зимой из Изиньи, а летом из Гурне; оба по праву считаются первоклассными, но первое все-таки гораздо лучше, и только далекое расстояние мешает доставлять его в столицу жаркою порою. Из всех шматов коровьего масла, какие встречаются в подлунном мире, Гурманы ценят превыше всего те, которые прибывают из Гурне и Изиньи. У масла этого вкус лесного ореха и жирность, которая в рагу себя превосходно оказывает. Такие шматы, весом до 150 фунтов, именуются масляными головами, и недаром. Что же до масла низшего разряда, которое вешают фунтами, и так называемого местного масла, то ими довольствуются одни бедняки.
Июнь
Чем ближе лето, тем у́же круг наших гастрономических наслаждений; мы имеем в виду наслаждения основательные, те, какие даруют нам мясной ряд и птичий двор, равнины и леса; ибо если говорить о радостях растительных, они, напротив, в это время года весьма разнообразны. Благословенное Провидение в неизменной мудрости своей справедливо рассудило, что летом желудок человека ищет легкой пищи и сторонится сочных мяс! Когда бы мы согласились не насиловать Природу и довольствоваться тем, что она дарит нам в то или иное время года, тогда и здоровье наше, и вкус остались бы в выигрыше, однако невоздержность и гордыня заставляют нас действовать наперекор календарю, а он таковых обид не прощает и карает нас несварением желудка.
В мясном ряду летнею порою припасы те же, что и в предыдущие месяцы, только вкуснее. Телята сделались белее и нежнее, бараны духовитее: ведь вместо сена они едят траву. Что же касается говядины, хороша, конечно, и она, но до осенней ей пока далеко: ведь за лето коровы и быки успевают нагулять мясо на тех тучных пажитях, где трава растет не по дням, а по часам, и впитать в себя все соки зеленых долин – истинных кормилиц человека, давно отлученного от груди.
Для живности лето – время не самое благоприятное, однако же в июне к нам являются юные цыплята и молодые пулярки, индюшата и руанские молодые утки, девственные петушки и голуби всех сортов. О цыплятах, пулярках и утках мы уже рассказали прежде; мы так глубоко их почитаем, что сочли себя обязанными живописать их в пору вящей славы, а слава пулярки – в жирных ее телесах, точно так же как слава поэта и тем более ученого – в чахлой его наружности. Рассказали мы и о голубях, верных друзьях человека, которые едва ли не всегда оказываются у него под рукой. Нам осталось сказать несколько слов лишь о молодых петухах и о юных индюках.
О девственном петушке
Юный девственный петушок – холостяк наших птичьих дворов. Своему целомудрию он обязан вкусом и душком, которые самым решительным образом отличают его как от дядюшки каплуна, поневоле отказавшегося от сладчайших наслаждений подлунного мира ради того, чтобы доставить наслаждение нам, так и от племянника цыпленка, умирающего, этих наслаждений не познав. Мясо молодого петушка, которое стало бы куда более жестким, потеряй он невинность, ценится тем дороже, что встречается весьма редко, а похоть возбуждает весьма сильно. Лучшие девственные петушки прибывают к нам из края Ко. Их жарят на вертеле, обложив ломтиками сала. Нашпиговать молодого петушка значит его оскорбить, а превратить в рагу – обесчестить.
Зато петушиные гребешки – непременная составная часть почти всех раковых супов и наилучших из рагу; гребешки едят фаршированными, запеченными, под цыплячьим соусом и проч.; однако чаще всего служат они гарниром: ведь блюдо из одних гребешков по карману лишь современному Лукуллу.
Об индюшонке
Из индюшонка, который к июню как раз успевает немного подрасти, получается жаркое вкусное и тем более драгоценное, что дичи об эту пору не сыщешь. Однако убивать этих прелестных юнцов в столь нежном возрасте вместо того, чтобы позволить им разжиреть вволю,– все равно что жать рожь в цвету. Вдобавок даже лучший из индюшат
- Гордыне нашей льстит скорее, чем Природе131,
ибо тешит тщеславие, но не ласкает гортани. Чтобы индюшонок стал вкуснее, его шпигуют – оскорбление, которое никто не дерзает нанести индейке: она бы этого не стерпела.
О летней рыбе
В июне хорошая морская рыба в Париже редкость. Исключение составляют свежая треска и скат: его привозят в столицу в течение всего года, и парижане ему всегда рады, но летом он особенно хорош, ибо более мягок, чем обычно, и – едва ли не единственный из всех даров моря – не боится жары. Существуют две разновидности ската, обе равно вкусные: колючий скат и скат большой. Обычно ската готовят всего двумя способами: под белым соусом, если мясо совершенно свежее; с черным маслом132 и жареной петрушкой, когда мясо подозрительное. Однако искусный повар постыдится ограничивать себя этими двумя заурядными рецептами, и предложит вам ската à la Сент-Мену, под соусом из его собственной печени, под Роберовым соусом, в рагу и даже жаренного в масле. Собственно, средиземноморских скатов только так и готовят; они гораздо меньше океанских и далеко не так вкусны, что бы ни говорили по этому поводу жители Лангедока. Да простит нас господин Мутон да ла Капельер, один из самых изощренных Гурманов города Безье133, но это сущая правда.
Из речных рыб в июне вкуснее всех карп, форель и окунь.
Июнь красен не рыбой, а овощами: в этом месяце на радость нашим желудкам, истосковавшимся по зелени, созревает множество прекрасных огородных растений. Кроме цветного горошка, который в Париже превосходен до середины августа, июнь приносит с собой еще множество даров, как то: зеленые турецкие бобы, которые хоть под белым соусом, хоть под соусом английским, хоть со сливками, хоть с шампанским составляют преддесертное блюдо столь же здоровое, сколь и приятное; огурцы, овощ водянистый и освежающий, но малопитательный (если только не начинят его добрым колбасным фаршем), который подают чаще всего под белым соусом, а малые огурчики заготовляют в уксусе; садовые бобы, у которых вкус хотя и горьковатый, но приятный, особенно если подлить толику сливок, не пожалеть сахара и не забыть добавить для духу веточку садового чабера; цветная капуста, которая в июне только-только созревает, и потому надобно ее приправлять пармским сыром; салат-латук, который на столах мещанских является перед десертом либо с начинкою как у Симоны, либо в рагу постном или скоромном, а на столах богатых сопровождает те кушанья, которые томятся в наглухо закрытом горшке между ломтями шпига.
Как видим, июнь вносит немалое разнообразие в наши преддесертные блюда, и все благодаря огородникам, которые в этом месяце у всех в почете. Признаемся, однако, что даже самый лучший из овощей – ничто до тех пор, пока не попадет в руки искусного повара. Овощи сами по себе – картина весьма посредственная и ценная лишь богатой рамой; другое дело – хороший заяц; он на кухне все равно что Рафаэль, а соленая говядина – тот же Рубенс. Этим двоим, не в обиду будет сказано Луи-Себастьену Мерсье, рамка без надобности134.
Июль
Чем дольше длится лето, тем тяжелее приходится Гурману; ибо человек, достойный носить это звание, видит в овощах и фруктах не более чем средство прохладить гортань и почистить зубы, а вовсе не столовые припасы, способные удовлетворить настоятельные требования аппетита. Поэтому на фруктовые сады и плодоносные огороды взирает он равнодушно, но совсем иначе следит за стремительным ростом крольчат, зайчат, молодых куропаток и прочей аппетитной дичи. Он радуется понтуазским телятам, которые взрастают на молоке, напитанном животворными соками свежих трав, и ликует при виде перепелок – перелетных птиц, которые прибывают к нам с теплыми ветрами на исходе весны и остаются в наших виноградниках до конца ноября.
О перепелках
Нас нимало не смущает моральный облик перепелки, каким он виделся древним; нам нет дела до того, что, если верить древним, само присутствие этой похотливой птицы в спальне навевало ее счастливому хозяину сны безмерно сладострастные135. Предоставляем нашим читателям и даже любезным читательницам при случае учинить невинный опыт для проверки этого мнения; мы же, занятые в этом сочинении разбором наслаждений более основательных, скажем об этой птице совсем другое: жирная перепелка, одетая в ветчинный фрак и сюртук из виноградных листьев, а затем насаженная на вертел,– одно из наилучших летних жарки́х, настоящая пища богов, и потому прелестная эта птичка в Париже всегда стоит дорого, хотя и прибывает в столицу в такое время года, когда торговки из Долины поневоле делаются сговорчивыми; вся беда в том, что на перепелку всегда покупщиков больше, чем продавцов. Итак, птички эти по карману лишь Амфитрионам с порядочным достатком136. Хорошее жаркое из перепелок стоит не меньше, чем две пулярки. Впрочем, эту роскошную птицу готовят отнюдь не только на вертеле, хотя вертел для нее – благороднейшая и наилучшая из участей; опытные повара приготовят вам перепелку в наглухо закрытом горшке, стенки которого обложены шпигом, в сковородке, в печи, в сюртуке137, с капустой, с чечевичным пюре, а в тех благословенных краях, где птицы эти более доступны (например, в Марселе, куда перепелок – долгожданных и ожиданий не обманывающих – доставляют из Монтредона), их запекают в круглые пироги-турты, и такие пироги, если положить туда заодно телячьи молоки, грибы, трюфели, тертый шпиг, бычьи мозги с перцем и душистыми травами, могут потягаться с самыми изысканными паштетами. Порой перепелок заменяют жаворонками; готовят их точно так же, однако подмену в первую же секунду угадает и слепой: ведь у жаворонка – птицы хоть и не без достоинств, но куда более обыкновенной – столько же общего с перепелкой, сколько у иных трагиков наших дней, которых мы не станем называть, чтобы никого не обидеть, общего с великим Расином.
Август
Месяц, нареченный в честь Августа, так же суров по отношению к любителям вкусно поесть, как и месяц Юлия Цезаря: недаром многие богачи уезжают об эту пору в свои поместья; парижские столы пустеют, а нахлебники138 голодают. Правда, именно в августе крольчата вырастают в кроликов, зайчата делаются зайцами, а куропатки из юных превращаются во вполне зрелых; однако пускай себе растут, не станем им мешать. Наслаждения преждевременные всегда и во всем суть наслаждения несовершенные. Предоставим этим любезным животным украшать наши поля и леса до той поры, пока не придет для них пора украсить наши столы; мы всегда сумеем их изловить, ибо никто не укроется от деятельной руки человека. Пусть же зайчонок подрастет и водворится на блюде в середине стола, не нуждаясь в сопровождении
- Костлявых голубей и жаворонков мятых,
как то описано в прославленной сатире Буало139, которую всякий любитель вкусной снеди обязан изучить с величайшим вниманием, чтобы знать, каким примерам подражать не следует.
Однако тем из наших читателей, кто чересчур торопится жить и пожелает во что бы то ни стало залучить молодняк к себе на кухню, мы обязаны указать наилучшие способы обращения со всеми этими юнцами.
О крольчатах
Итак, сообщаем, что из крольчат делают паштет в миске, а также тушат их в водке. Этот последний способ предполагает использование великого множества составляющих, отчего юный кролик превращается в рагу не только весьма затейливое, но отчасти даже и химическое140.
О зайчатах
Зайчат готовят по-швейцарски, на царицын манер и с ветчинным желе, именуемым «сенгара».
О юных куропатках
Из юных куропаток делают сальми и начинку для круглых пирогов-турт, их готовят в папильотках, из них варят суп простой и с профитролями и проч., однако мы не можем не повторить еще раз: истреблять в столь юном возрасте существа, которые растут и тучнеют единственно ради нашего ублаготворения, есть самое настоящее детоубийство. Сказанное о зайчатах, крольчатах и юных перепелках относится равным образом к молодым голубям, молодым вяхирям и прочим юным созданиям. Пора, однако же, переменить материю.
О диком утенке
Но прежде скажем несколько слов о диком утенке, который становится в октябре молодой уткой, а в ноябре – уткой вполне взрослой и, следовательно, стремительно проходит путь от младости к юности и от юности к возмужалости. Разделанный и съединившийся в кастрюле с шампиньонами, трюфелями и артишоковыми гузками, утенок обращается в кушанье весьма нежное. Готовят из утенка также рагу с оливками, со стеблями кардонов, с испанским чесноком и даже с репой, хотя этой последней чести больше достойна его милая матушка.
Когда мы вели речь о диком кабане и о бесценной свинской особе, мы почти ничего не сказали ни о молодом кабанчике, ни о молочном поросенке; мы сочли уместным отложить рассказ о них до августа, ибо именно в этом месяце мясо их особенно нежно и – за неимением дичи и живности – особенно желанно.
О кабанчике
Молодой кабанчик, которого смело можно назвать наследным принцем наших лесов, является нам не иначе как на вертеле; его, исключив шею и голову, шпигуют мелкими кусочками сала и подают на жаркое. Кабанчик на вертеле слывет блюдом изысканным, приятным на вкус, сытным и притом ничуть не тяжелым; тем не менее особы хрупкого телосложения, пищеварительные соки которых не обладают той мощью, какая превращает обычного человека в истинного Гурмана, поступят благоразумно, если от этого кушанья воздержатся. По правде говоря, как ни благородно происхождение юного дикаря, мясо его не стоит тех мучений, какие причиняет несварение желудка.
О молочном поросенке
Мы, однако, не скажем того же о молочном поросенке, то ли потому, что склонности наши от природы весьма мало аристократичны, то ли оттого, что, взрастая бок о бок с этим прелестным созданием, человек естественным образом проникается к нему той симпатией, какую питаем мы ко всем существам, на наших глазах рожденным; молочный поросенок – желанный гость на всех столах, включая самые изысканные, и всякую трапезу обращает в праздник.
Самая обыкновенная и, пожалуй, самый лучшая судьба для него – вертел; надобно ошпарить поросенка кипятком и запустить ему в брюхо добрый кусок коровьего масла, смятого с душистыми травами, песчаным луком, луком репчатым, гвоздикой и проч., а затем насадить на вертел и, не спуская с него глаз, точно с девушки на выданье, постоянно поливать его натуральным прованским маслом, чтобы он как следует подрумянился; есть способ и получше: предварительно изрубите как можно мельче печень этого самого поросенка и смешайте ее со шпигом, обданным кипятком, трюфелями, шампиньонами, испанским чесноком, мелкими каперсами, анчоусами из Ниццы, душистыми травами, ямайским перцем и морской солью. Попотчуйте нашего юного друга этой смесью, а затем зашейте ему брюхо и поджаривайте, как описано выше. Верным спутником поросенку неизменно служит апельсиновый соус с солью и белым перцем.
Лишь только молочный поросенок, поджаренный подобным образом, прибудет на стол, нужно незамедлительно подтвердить его знатное происхождение, что в переводе со старинного французского означает отрубить голову141; если промедлить с этой операцией, кожа поросенка может из хрустящей и аппетитной превратиться в дряблую и рыхлую, отчего дамы первыми откажут ему в своем доверии. Итак, правило это совершенно непреложное, и забывать о нем непозволительно; поросячьему юноше, который не может дождаться от вас этой любезности, лучше было не отрываться от материнских сосцов.
Молочного поросенка можно готовить и иначе: душить под крышкой, превращать в рагу, готовить во вкусе неженок142; во всех этих случаях очень важно с толком приправить поросячье мясо, от природы довольно безвкусное, перевариваемое с трудом (как всякое недозрелое мясо) и весьма грубое, по каковой причине мы рекомендуем литераторам воздержаться от его употребления. Другое дело – могучие желудки нынешних богачей, они ладят с поросенком безо всякого труда, и хотя это вязкое мясо замедляет выделение пищеварительных соков, а нередко и слабит желудок, мы не возьмем на себя смелость запрещать его употребление. Хотя, по чести говоря, нас немало мучит мысль о том, что каждый молочный поросенок, попавший на вертел,– это целое поколение свиней, которым никогда уже не гулять на вольной воле и не украшать наше застолье.
Сентябрь
Несмотря на хорошо известную в Париже поговорку, которая уверяет, будто устрицы здесь хороши в течение тех месяцев, название которых включает букву «р», мы никому не советуем есть их в сентябре; в это время они не довольно свежи, не довольно жирны и чересчур солоны, чтобы пленить Гурмана. Достойными наших столов они становятся не прежде начала декабря143. Зато к сентябрю уже подрастает кое-какая дичь, которая, впрочем, в следующие месяцы сделается еще крупнее и вкуснее. Исключение составляет лишь певчий дрозд, иначе именуемый дроздом виноградным, ибо он только виноградом питается и тем скорее вырастет, чем раньше эта ягода поспеет. Эти любезные виноградари – кушанье весьма нежное и заслуживает рассказа более подробного.
О дроздах
Дрозда, не потроша, завертывают в виноградные листья и отправляют на вертел, а затем подают на ломтиках поджаренного хлеба, которые, напитавшись птичьим соком, превращаются в кушанье восхитительное и за саму птицу представительствующее. Таков самый простой способ подавать жареных дроздов; тот же, кому милее способы более затейливые, может, покуда они жарятся, поливать их топленым салом, затем посы́пать хлебной крошкой вперемешку с солью и наконец подать на блюде, натертом луком-шалотом, а еще лучше – испанским чесноком, а сверху полить кислым виноградным соком с перцем.
От вертела путь наш лежит в кастрюлю: дроздов тушат в закрытом горшке, стенки которого обложены шпигом; из них даже делают рагу, для чего смешивают их мясо со стаканом доброго белого вина, душистыми травами, топленым шпигом и проч., а для остроты подливают лимонного сока. Если же от плиты мы опять воротимся к очагу, то примемся готовить можжевеловых дроздов – кушанье, достойное отдельного рассказа.
Перво-наперво обверните дроздов ломтями доброго шпига, а поверх – бумагой; после этого, как то и делается всегда с малыми птичками, насадите их на маленькие вертела, прикрепленные к большому, и предоставьте им вращаться и поджариваться вволю. Тем временем положите в кастрюлю поровну мясного сока и желе, разбавьте все это стаканом доброго белого вина и соком зеленого лимона и доведите до кипения; затем обдайте кипятком дюжину можжевеловых ягод (в виде исключения можно даже взять 14 штук) и бросьте их в желе; туда же отправьте поджарившихся дроздов. Поставьте все это томиться на огне, а перед подачей на стол словите весь жир. Рагу получится именно то, о каком говорят: пальчики оближешь; под таким соусом можно запросто съесть родного отца144.
Бернардинский рецепт, о котором мы упоминали выше, подходит для дроздов и для любых птиц с темным мясом не хуже, чем для вальдшнепов и уток; приготовление скороспелого сальми прямо на глазах гостей-Гурманов представляет собой одно из прелестнейших зрелищ, каким могут наслаждаться едоки: это праздник, в котором все гости принимают участие с тем большей охотой, что знают: он для них одних и устроен.
О хрустанах
В двух первых изданиях нашего альманаха мы толковали о хрустанах в январе. Бывший шартрский каноник, который, как видно, глубоко постиг самые основы поварского искусства, взял на себя труд написать нам весьма любезное письмо, где указал нашу ошибку. Из письма этого, которое мы с удовольствием напечатали бы целиком, когда бы имели такую возможность, и которое содержит подробный рассказ о хрустане, мы узнали, что птица эта, уроженка жарких стран, покидает их, чтобы следовать за жнецами, ибо наиглавнейшим лакомством почитает зерна, падающие на землю во время жатвы. Так, охотясь за зернами, прилетает она во Францию и с сентября до середины октября кочует над полями края Бос. Хрустаны сюда стремятся, а охотники, зная о том, ожидают их нетерпеливо. Чревоугодие губит хрустанов, ибо стоит одному из них, сраженному роковой дробью, рухнуть на землю, как все остальные в то же место кидаются, ибо верят, что товарищ их нашел обильную добычу. Охотники же, на беду легковерным птицам, заблуждением этим пользуются.
Хрустан ростом с золотистую ржанку; птица он, как мы знаем, перелетная, квартирует же охотнее всего в Шартре. Хрустанов жарят на вертеле, а также подвергают тем же метаморфозам, что и ржанку; делают из хрустанов и превосходные паштеты. Те, какими прославился Филипп из Шартра (к которому Гурманы не могут не испытывать глубочайшей признательности и которого любезная муза господина Колена д’Арлевиля обессмертила в прелестном послании), были начинены не чем иным, как хрустанами. Успех послания, с которым господин Колен вступил на поприще словесности, вдохновил его на продолжение, так что публика обязана хрустану «Непостоянным», «Воздушными замками», «Оптимистом» и «Старым холостяком»145. Кто же после этого дерзнет сказать, что Гурманство враждебно Музам!
Об артишоках
Между сентябрьскими огородными растениями внимания достойны осенние артишоки, замечательные своим нежным вкусом. Наилучшие прибывают к нам из Лана; узнать их нетрудно, так как овощ этот от природы весьма бледен, ланские же гости в дороге покрываются бронзовым загаром. Крупные артишоки варят в воде, а затем едят либо с добрым коровьим маслом, либо с маслом прованским, и следует признать, что в таком виде составляют они преддесертное блюдо не из последних. Для приготовления же средних и мелких, которые, впрочем, не становятся от скромных своих размеров менее нежными, существует такое великое множество способов, что в руках искусного мастера овощ этот делается истинным хамелеоном. Артишоки едят по-испански, с мясным соком и с зеленым виноградом; их подают «хрустальными»146, жаренными в масле и отварными, в рагу и в пюре и проч., и проч. Гузка артишока (которую монахини именовали исключительно донцем), засушенная правильным образом, сохраняется очень долго, так что в течение всего года ее можно использовать для сопровождения многих блюд. Особенно хороши эти гузки, когда приготовлены на манер цыплячьего фрикасе, а также в горячих паштетах.
Как видим, артишок оказывает кухне услуги важнейшие; от него повару большая выгода, а без него – сущая беда. Добавим еще, что кушанье это очень здоровое, питательное, полезное для пищеварения, вяжущее и слегка возбуждающее. Оно хорошо для людей хрупкого телосложения и слабого желудка, а следственно, для литераторов; однако насколько полезен для этих особ артишок в вареном виде, настолько губителен он в виде сыром, ибо в этом случае кислый его вкус и вяжущее действие становятся подобны яду. Не стоит и говорить, что названным особам надлежит держаться подальше от перечных артишоков147, которые хороши лишь для желудков простонародных.
Горка из поджаристых золотистых артишоков, обсыпанная жареной петрушкой,– одно из восхитительнейших преддесертных блюд, каким можно пленить гостей даже изрядно наевшихся.
О яйцах
Сентябрь – месяц яиц; в Париже об эту пору они превосходны, и притом очень дешевы – две выгоды почти неразлучные повсюду, где дело идет о съестном товаре. Значит, надобно не мешкая запастись яйцами на зиму, ибо с каждым днем цена на них будет только возрастать. Сберегать яйца следует в сухом и прохладном месте, в отрубях или в прованском масле. Этот последний способ позволяет есть яйца сырыми и даже в мешочке в течение полугода.
Яйца в кухне играют ту же роль, что и предлоги в речи, иначе говоря, они так необходимо нужны, что без них самый искусный повар бросил бы свое ремесло. Недаром церковники, знающие толк в хорошей еде, смягчили применительно к яйцам строгие законы поста и позволили употреблять их вплоть до самой Страстной пятницы. Зато с этого дня до Пасхи повара лезут из кожи вон, выдумывая способы обойтись без яиц. Для поваров эти дни – самое тяжкое время в году, поэтому многие тайком кладут их в кушанья, но предпочитают об том не распространяться.
Без яиц не загустеет ни один соус, не сделается ни одно постное рагу, не выйдет ни одно преддесертное блюдо. Яйцо – любезный посредник, протягивающий руку разным партиям, дабы всех сблизить, всех объединить. Оно – непременная основа всякого теста, песочного или слоеного, миндального или фигурного, иначе говоря, всего, что печется в печах больших и малых. Без яиц не сбить крема, не спечь пирожного, не приготовить сладких преддесертных блюд, и уж конечно без них не сделать яичницы.
Во Франции известны 543 различных способа готовить кушанья из яиц, не говоря о тех способах, которые повара наши выдумывают каждодневно. Перечисление этих способов с пояснениями заняло бы двадцать страниц нонпарелью и все равно осталось бы неполным. Яйца готовят по-немецки, по-тетушкиному, по-бургундски, как у герцогини, как у кумы, по-гугенотски, по-иезуитски, по-бабушкиному, по-филисбургски, по-перигорски, под Мониминым соусом и под соусом Роберовым, по-регентски и по-сицилийски, по-португальски и по-швейцарски, в розовой воде, в прованском масле, с зеленью, с эстрагоном, с базиликом, с белым мясом куропатки и пулярки, по-итальянски, с апельсинами, с растопленным сыром, со шпигом, как у Куаньи и во вкусе неженок, в виде солнечной глазуньи, с раками, с трюфелями, с кислым виноградным соком, по-волокитски, ломтиками и в кубках, в хлебной похлебке-панаде и в сальнике148; их подают смешанными с цикорием, с мясным соком и желе, со спаржевыми головками и с трюфелями. Бывают яйца в мешочек, яйца жареные, яйца лимонные – одним словом, каких только яиц не бывает на свете! Яйца – один из самых щедрых даров, какие всеблагое провидение преподнесло человеческому аппетиту. На кухне используют исключительно куриные яйца, но порой к ним примешиваются яйца утиные – очень на них похожие, только более крупные (что же до так называемых петушиных яиц149, они употребляются только как гарнир).
В Париж яйца доставляются издалека; можно подумать, будто куры нормандские и пикардийские, босские, першские и орлеанские несутся только для нас. Этот товар прибывает к нам в гигантских корзинах, каждая из которых вмещает в себя до нескольких тысяч яиц. Едут они без обертки, в одной лишь соломе, по тряским дорогам, на разных телегах и – чудо из чудес! – ни одно из них не разбивается. Самые лучшие яйца прибывают из Мортани. Выбирая яйца, поднесите каждое к свету; если яйцо светлое и прозрачное, можете быть уверены, что оно не старое; со временем внутренности яйца перемешиваются и оно как будто затуманивается. Выбранные таким образом яйца называются просмотренными. Оптовые торговцы совершают этот просмотр с терпением, которым нельзя не восхищаться. Просмотренные яйца они откладывают для постоянных клиентов.
Яйца – пища здоровая и полезная для человека, однако медицинские их свойства очень сильно зависят от способа их приготовления. Нет ничего лучше для здоровья, чем сырое яйцо, и ничего хуже, чем яйцо крутое; а ведь оба они происходят от одной и той же курицы. Белок яйца быстрее, чем любая другая пища, приспосабливается к питательным сокам человека, потому что сам очень похож на лимфу. Желток не только очень питателен, но еще и обладает способностью растворять жиры и способствовать их смешению с пищеварительными соками. В яйцах в мешочек эти субстанции не подвергаются никаким изменениям и сохраняют свои благотворные свойства, поэтому такие яйца, представляющие собою самый простой из даров животного царства, прописаны выздоравливающим, детям и людям хрупкого здоровья. Совсем иное дело – яйца, природа которых искажена тысячью кулинарных ухищрений; свойства их переменяются, и употреблять их следует с великой осторожностью. Впрочем, мы должны сказать, что вообще все яйца, кроме крутых, подходят всем темпераментам и большая часть желудков с ними дружится.
Яйца хороши и тем, что приготовить их можно очень скоро; наконец – преимущество бесценное – хозяина, в чьей кладовой хранится запас яиц, невозможно застать врасплох. Яйца – верный друг, всегда готовый пожертвовать собою ради нас, друг, который сопровождает нас на жизненном пути безотлучно.
Октябрь
Осень в разгаре, и наслаждения Гурмана делаются обильнее и живее. Зайчата выросли во взрослых зайцев, индюшата сделались настоящими индюками. Цыплята вволю наелись зерна, и все насельники хлева и птичьего двора готовы потрафить людским аппетитам. Тем не менее в октябре в Париже гастрономические собрания редки как никогда. Суды и коллежи еще на каникулах, дела не делаются, театры не радуют, сбор винограда приковывает внимание – все это удаляет из Парижа людей богатых. В городе остаются только несчастные рантье150, которые о лакомых блюдах знают лишь понаслышке да по памяти и поневоле говеют, если имеют довольно гордости, чтобы не взяться за позорное ремесло нахлебника. В прежние времена роль эта не грозила никаким унижением, ибо обедов в Париже было больше, чем обедающих; нынче, однако, все переменилось, и разорившийся человек, если сохраняет еще некоторую щекотливость, почитает лучшим есть у себя дома хлеб с водою, нежели объедаться у людей, которых уважать нельзя. Разве прилично ходить в гости к тем, кого презираешь? Разве пристало человеку, который даже в нищете сохраняет понятие о чести и у которого Революция отняла имение, но не отняла гордость, спокойно взирать на содружество воров с обворованными, а палачей с жертвами?
Как бы там ни было, в октябре все те, кому суждено окончить свое существование на нашем вертеле и в нашей кастрюле, получают от своих пылких поклонников передышку, чтобы нагулять нам на радость еще большего жира. Впрочем, передышка эта весьма относительная. В октябре начинается сезон охоты, и кроликам, зайцам и куропаткам приходится выказывать всю свою сметливость и увертливость, чтобы ускользнуть от гибельной пули охотника!
О дрофе
Дрофа, хотя и считается самой крупной сухопутной птицей из всех, какие водятся в Европе, большой сметливостью, судя по всему, похвастать не может; как говорится, сила есть, ума не надо. Дрофа предпочитает жить в северных краях, и лишь по случайности либо очень холодной зимой ее можно встретить на юге. Именно поэтому в только что окончившемся году дрофы изобиловали в Безье, что, впрочем, не мешало цене на них доходить до 36 ливров.
В Париж их отправляют из Шампани, в основном из Шалона, однако в рядах Долины их, как правило, не найти. Продаются они преимущественно в лавках, торгующих съестными припасами,– и прежде всего в тесной и темной, но всегда набитой четвероногими и пернатыми конуре госпожи Шеве.
У молодой и как следует выдержанной дрофы мясо нежное и тем более драгоценное, что, как уверяют иные, соединяет в себе вкус сразу нескольких видов дичи. Как бы там ни было, ее жарят на вертеле, а также подвергают всем тем метаморфозам, какие совершаются с диким гусем; делают из дрофы и холодные паштеты; главное – не жалеть шпига, потому что от природы мясо у дрофы суховато.
Вдобавок мясо это довольно плотное и переваривается нелегко. Людям, чей желудок слабоват, лучше от него воздержаться. Другое дело люди деятельные и подвижные, чей желудок могуч и варит исправно: эти могут есть дрофу без опаски. Крупная дрофа, изжаренная на вертеле,– жаркое не из последних.
О павлине
Из всех двуногих тварей, населяющих подлунный мир, павлин есть, без сомнения, самая тупая и самая чванливая; как ни старайся, его не исправишь; он нехорош ни вареный, ни жареный; в Париже его ни в один приличный дом не пускают. Павлин для кухни – все равно что глупец-журналист без знаний и вкуса, без учтивости и острого ума для литературы. Однако та слава, какой павлин не по заслугам пользовался у римлян (которые, если верить Плинию, так превосходно переведенному господином Геру, специально выращивали павлинов и дорого ценили их мясо151), побудила некоторых читателей попросить нас означить способы приготовления этой птицы, а потому пришлось посвятить ей несколько строк. Что же, повторим еще раз: истинные ценители всегда обязаны помнить, что павлин глупее самой глупой гусыни.
В октябре уже заметно, что быки и коровы нагуляли за лето тот жир, каким мы насладимся зимой; подросли и бараны, а теленок, хотя и не так нежен, как весной, все-таки еще достоин внимания Гурманов. Морская рыба перестает бояться жары, и на столах наших появляются мерланы.
О мерлане
Мерлан – рыба нежная и, как правило, недорогая – выручает парижан шесть месяцев в году. Чаще всего ее жарят в масле, посыпав солью. Если приготовленный таким образом мерлан покрывается хрустящей корочкой (а это зависит от силы огня), он может послужить хорошим постным жарким, в скоромные же дни может стать для жаркого недурным сменным блюдом. Однако мерлана можно готовить отнюдь не только на сковородке. Из мерлана готовят многочисленные вводные блюда, одно приманчивее другого; рыба эта, от природы очень нежная, нуждается в приправах, поэтому ее спокойно можно готовить по-мещански, по-римски и по способу миротон152; господин Руже изготавливает из мерланова филея восхитительные горячие паштеты, но тот же самый филей может пойти и в рагу, и в салат, может быть поджарен в масле, а может быть подан с Роберовым соусом. Делают из него и превосходные кенели153.
Мерлан – первая животная пища, какую дозволяют есть выздоравливающим; нежное мясо его превосходно подходит для слабых желудков, особенно если повар не переложил коровьего масла. Поэтому мерлан прописан всем, у кого жизнь сидячая, а значит, служит верным и надежным другом литераторам.
О яблоках
Если бы, из боязни сделать первый том нашего альманаха чересчур пухлым, мы не дали зарок недрогнувшей рукой исключать из него все, что касается до десерта, и о фруктах молчать неукоснительно, здесь было бы уместно поговорить о яблоках, а это неминуемо повлекло бы за собой рассказ об оладьях и шарлотках. Оба эти яблочных блюда, которые мы, как ни жаль, упоминаем лишь походя, занимают среди сладких преддесертных блюд место весьма почетное.
О кремах и сластях
То же самое мы вправе сказать о разнообразных кремах и сластях – неисчерпаемом источнике удовольствий преддесертных, не говоря уже о десерте. Об этой важной части изысканного обеда располагаем мы потолковать во втором томе нашего альманаха. Теперь же обращаемся мы к Гурманам в собственном смысле слова, а истинный Гурман, как известно, презирает подобные безделки: попробует маленький кусочек сладкого, а все остальное без сожалений оставит дамам. Если обед устроен как должно, Гурман кончит его жарким. Даже основательные преддесертные блюда для него не более чем забава, а остальные – просто излишества; что же до десерта, в нем Гурман ценит только сыр да каштаны, которые возбуждают жажду, а потому помогают ему по достоинству оценить поданные к столу вина. Затем он услаждает уста кофием, приготовленным без кипячения, от господина Фукье, и прополаскивает рот ликерами от господ Лемуана и Ноэля Ласерра, с тем чтобы в следующий раз усесться за стол спустя сутки – ибо истинный Гурман более одного раза никогда не ест. Увы! натура наша столь бренна, что тому, кто желает продлить пору наслаждений, разбрасываться не пристало.
Ноябрь
О Дне святого Мартина
Поместья пустеют; дуют ветры, идут дожди, начинаются заморозки, и парижане возвращаются в город; ко Дню святого Мартина все, кто принадлежит к почтенному классу Гурманов, уже на местах. Этот день – настоящий праздник объедения. Святой Мартин – покровитель пиров, именно к нему чаще всего обращают свои молитвы все люди доброй воли и доброго аппетита. Мы не ведаем, знал ли прославленный турский епископ154 толк в еде, но, судя по его великому милосердию, склонны полагать, что знал, ибо Гурман судит о чужом аппетите по своему собственному, а значит, сострадает чужим желаниям; но что нам известно доподлинно, так это то, что годовщина смерти этого пастыря служит причиной и источником множества несварений желудка. Католики и лютеране, кальвинисты и квакеры, анабаптисты, англиканцы и пресвитерианцы, православные и униаты – люди всех верований, представители всех христианских сект, не умеющих прийти к согласию касательно многочисленных статей их учений,– все они объединяются в День святого Мартина. Этому святому поклоняются все без исключения. Даже неверующие и философы питают к нему самое великое почтение. У этих последних вера в реликвии святого Мартина, пожалуй, особенно сильна, ведь все философы – первостатейные Гурманы.
О великий святой Мартин, покровитель Центрального рынка и торговой Долины, у кого при мысли о тебе не пробуждается аппетит? Хотя праздник твой, в отличие от многих других, куда менее торжественных, не предваряется ни бдением, ни постом, сколько людей говеют три дня подряд, дабы встретить его во всеоружии! Люди самого крепкого здоровья в канун Дня святого Мартина предают себя во власть слабительного и клистиров. Каждый что есть мочи старается очистить утробу свою для новых подвигов; право, канун Дня святого Мартина следовало бы наречь днем аптекаря.
Если Гурманы очищают желудок, то повара чистят котлы, скребут котелки, острят вертела, моют решетки и лудят кастрюли; как чистят и украшают храмы накануне больших церковных праздников, так накануне Дня святого Мартина выметают сор из печей, прочищают трубы и сообщают всякой кухне вид дамского будуара.
Все эти приуготовления не остаются втуне: в это же самое время дозревает до вертела жирная индейка. Эта птица стала спутницей святого Мартина, подобно тому, как бык был и пребывает поныне спутником святого Луки; кто дерзнет прожить День святого Мартина, не отведав жареной индейки? Без этого жаркого 11 ноября немыслимо; отселе битва в Долине: от поваров до академиков всяк мечтает об индейке и готов отдать за нее больше, чем за златоперого фазана155.
Об индюках и индейках
Всякий, кто любит индейского петуха (а кто же из смертных его не любит?), не имеет права ненавидеть иезуитов: ведь, как говорят, именно этим святым отцам (которые куда проворнее индейцев и куда умнее петухов), мы обязаны появлением этой птицы во Франции, где она прижилась так хорошо, что нынче считается местной уроженкой. Истинное ее происхождение покрыто мраком неизвестности; одни выводят род ее из Индии, другие – из Нумидии; впрочем, что нам за дело до того, где она родилась, главное, что родилась она вкусной! Первых индейских петухов французы увидели в 1570 году, на свадьбе Карла IX156, и приняли их так хорошо, что очень скоро индюшачий род расплодился на земле французской. Искусство воспитывать и откармливать индюков признано было полезным и даже драгоценным, однако в истинных французов превратились индюки не без труда. До сего дня индюк доставляет людям больше хлопот, чем все прочие дворовые птицы. Малые индюшата боятся и холода, и сырости, столь частых в нашем туманном климате. Однако раз переживши опасности, грозящие им в юном возрасте, они расцветают на глазах, ибо в силу чрезвычайной своей прожорливости быстро жиреют на радость воспитателям. Таким образом, они как нельзя лучше оправдывают надежды, возлагаемые на них людьми, и в несколько месяцев получают отменное дородство.
Самые лучшие индейки прибывают в Париж из провинции Гатине и из окрестностей Орлеана, где их во множестве разводят на продажу. Орлеанские индейки известны в Долине под именем пожирательниц яблок. Покупая индейку, следует первым делом убедиться, что она юна и нежна, а затем проверить, не горькое ли у нее мясо. Способ проверки не вполне пристоен, но зато весьма надежен, а нужда в нем очень велика; по этой причине нам, надеемся, простят нашу нескромность. Не при дамах будь сказано, надобно ввести палец в задний проход птицы, затем сделать глубокий вдох и обсосать палец. Средство это совершенно безотказное.
Если индейка прошла проверку, надобно выпустить из нее кровь (операция, которую следует производить над всеми птицами без исключения, от голубя до дрофы), а затем размягчить ее мясо; однако индейские петухи упрямы, как все надутые глупцы, так что смягчается индейка не раньше, чем через несколько дней, смотря по состоянию атмосферы. Главное – устроить так, чтобы индейка пришла в готовность в самый День святого Мартина. Тогда останется выпотрошить ее, опалить, разделать и, щедро обложив ломтями сала и обвернув белой бумагой, насадить на вертел. Шпигование для индейки оскорбительно, оно пристало лишь юным индюшатам. Незадолго до окончания жарки вы разденете птицу, чтобы она как следует подрумянилась, потом уложите на самое красивое блюдо и предъявите гостям, которые встретят ее радостными возгласами.
Возгласы эти будут еще более искренними и пылкими, если вы начините индейку полусотнею лионских каштанов или дюжиною маленьких сосисок из Нанси. Если же вы добавите в начинку один-два фунта превосходных перигорских трюфелей, восторгу гостей не будет предела. Правда, в ноябре хорошие трюфели в Париже редкость. Но это правило знает исключения.
Такова молодая индейка на вертеле во всей своей красе. По нашему мнению, из всех жареных пернатых она – первая и лучшая; пусть даже жаркое это не самое нежное, зато оно более всего пристало многолюдным собраниям, недаром умным людям случается с почтением взирать на пышнотелого индюка не только в День святого Мартина.
Дочь моя, берегите ляжки – вот первое, что говорит мать семейства старшей из дочерей сразу после того, как разделает индейку; и ляжки тотчас отправляются из столовой в буфетную, чтобы назавтра воротиться на стол либо под соусом ремулад, либо под луковым, либо под Роберовым соусом. В богатых домах ляжки не берегут, их едят; однако обычай требует, чтобы тот, кто разрезает индеек, раздал ляжки гостям не прежде, чем прикажет хозяин дома. Гости, конечно, из вежливости делают вид, будто равнодушны к ляжкам, но в глубине души очень радуются, если хозяева ляжек не берегут. Ляжки – самая мясистая часть индейки и любима Гурманами более всех прочих. Что же до части, именуемой «только дурак откажется»157, она по праву принадлежат дамам, точно так же как заячий или кроличий хвост.
Индейку едва успели опалить, а ее отходы (к числу которых относятся крылышки, лапки, голова, шея, зоб, сердце, печень и проч.) ложатся уже в основу самых многообразных вводных блюд. Ибо отходы эти готовят с репой и чечевичным пюре, обжаривают в виде фрикасе, подают под белым и под красным соусом и проч., и проч. Превосходные и очень нежные вводные блюда выходят и из одних только крылышек (но тогда нужно запастись по меньшей мере четырьмя или пятью парами). Крылышки готовят по способу Сент-Мену, по способу д’Эстре и по-испански; их подают с эссенцией, с репой, с раками, с устрицами, с зеленым горошком, с пармским сыром и приготовленными на манер цыплячьего фрикасе; их жарят в масле, запекают в печи, сдабривают мелким луком, и во всех случаях кушанье получается отменно вкусное, хотя и не очень сытное. Выздоравливающие могут смело есть индюшачьи крылышки вареными, пересыпанными солью, а то и с лапшой – это ничуть не опаснее сухарика.
Индейки исполнены стольких достоинств, что любезно покоряются любому обхождению, нимало не опасаясь за свою репутацию. Взять хотя бы индейку на вертеле: ее готовят по-кардинальски, с начинкой из гусиной печенки и проч., и проч. – все это способы разнообразить индюшачье жаркое столь же приятные, сколь и верные.
Индюка (а в хороших домах под этим словом подразумевают не надутого болвана, а юного, но уже вполне упитанного индейского петуха) готовят по-княжески и по-провансальски, с анчоусами и с огурцами, с эссенцией и с луком, с улитками и с эстрагоном, с начинкою из душистых трав и под маринадом, его шпигуют ветчиной с луком-шалотом или трюфелями, режут тонкими ломтиками, превращают в сальми и в холодный паштет. Индюшек преклонного возраста допускают на наши столы лишь при условии, что их долго душили на медленном огне: так тяжко приходится представительницам прекрасного пола, когда молодость позади. Прошедшие радости исчезают из памяти, а с ними и чувство признательности.
Индюшачьи лапки готовят по способу Сент-Мену; можно также жарить их в тесте, окунать в густой соус Сент-Мену, обваливать в сухарях, жарить на решетке и подавать вовсе без соуса, но, как их ни готовь, они все равно останутся просто-напросто большими зубочистками. Говорят, правда, что кто поел этих лапок, тот крепко спит, однако в обществе индюков всякий разумный человек засыпает и без помощи лапок.
Мясо индеек и индюков молодых и нежных, упитанных и жирных переваривается с легкостью и с приятностью, это снедь здоровая и питательная, что бы ни утверждали злые языки – ибо индюки становятся жертвой клеветы ничуть не реже записных остроумцев. Другое дело – индейки и индюки пожилые; в преклонном возрасте мясо их делается сухим и жестким, как подошва,– чтобы не сказать, как камень. Людям со слабым желудком лучше держаться от них подальше.
Когда бы мы взялись перечислять все вкусные яства, какими богат ноябрь, нам неминуемо пришлось бы повторять уже сказанное. Тех, кого интересуют мясные блюда, мы отсылаем к январю, а здесь напомним ценителям, что в ноябре в Париж прибывает свежая сельдь и что как раз в ноябре она вкуснее всего; дело в том, что после Дня святой Екатерины158 сельди с молоками не найти, а ведь именно молоки, как известно, не только самая благородная и нежная часть селедки, но, пожалуй, единственный ее пропуск на роскошные столы.
О сельдях
Сельдь, которая от весны до осени не переводится у нормандских и бретонских берегов, попадает на наши столы свежей, соленой или копченой; мы займемся лишь первой, которая одна только и заслуживает звания вкусной и здоровой.
Самый обычный способ готовить сельдь – жарить ее на решетке и подавать под соусом из коровьего масла, сбитого для остроты с нежной горчицей от Майя и Аклока или с целебной душистой горчицей от Бордена. Важно, однако, помнить о том, что эта рыба поджаривается, можно сказать, от одного вида огня. На сковородке она должна оставаться не дольше, чем требуется для молитвы Ave Maria; успеть прочесть Pаter noster значит смертельно обидеть селедку, а главное, ее засушить159. Неплоха на вкус сельдь под матросским соусом, но это всего лишь дополнительное блюдо. Правда, сельдь и не питает тщеславного намерения выбиться в блюда вводные. Если же вы вздумаете подавать соленую сельдь, не забудьте вымочить ее в молоке. Впрочем, разве не грех тратить молоко на такие пустяки? Добро бы еще речь шла о треске…
Свежая селедка есть пища легкая, вкусная, перевариваемая без труда и подходящая всем желудкам без исключения. Совсем другое дело сельдь соленая: с ней могут справиться лишь люди могучие; для остальных кушанье столь острое – самая настоящая отрава.
Декабрь
О «матроске»
Рассказывая о мартовских кушаньях, мы ничего не сказали о блюде под названием «матроска», хотя его почти всегда готовят в середине поста,– а потому можем доставить себе удовольствие вернуться к нему сейчас. «Матроска» ничуть не менее вкусна и во время Рождественского поста, а поскольку погода в Париже в конце осени всегда лучше, чем в начале весны, многие люди предпочитают поститься в декабре и отправляются с этой целью на набережные Рапе и Большого Валуна160. Таким образом, люди эти дают своим желудкам отдых после бурных радостей Дня святого Мартина и готовят их к не менее бурной ночи перед Рождеством.
«Матроска», приготовленная на набережной Рапе,– аппетитнейшее и вкуснейшее из всех блюд, какие может сделать человеческая рука из речной рыбы. Самый умелый повар, как бы долго он ни учился, как бы превосходно ни овладел своим искусством, какие бы первосортные припасы ни закупил, никогда не сумеет приготовить такую «матроску», какую делают на набережной Рапе.
Мы не станем пытаться угадать, чем вызвана эта странность, скажем только, что дело тут безусловно не в желании развлечься вдали от дома и не в аппетите, какой пробуждает прогулка в кабачки на окраине города. Мы изучили с превеликим тщанием «матроски», приготовленные на набережной Рапе (оставляющие далеко позади те, какие готовят на набережной Большого Валуна, хотя «Французское экю» госпожи Барбье и пользуется среди Гурманов неплохой славой); мы сравнили их с рагу того же названия, которое приготовляют в лучших домах Парижа, известных безупречностью своей кухни, и убедились, что «матроскам» с набережной Рапе равных нет. С ними дело обстоит так же, как с цыплячьим фрикасе, которое в скромных харчевнях тоже всегда вкуснее, чем в богатых особняках.
Итак, если вы желаете отведать сочную «матроску», приготовленную по всем правилам искусства и такую вкусную, что чем дольше вы ее едите, тем сильнее у вас разыгрывается аппетит,– тогда ступайте на набережную Рапе: в любом другом месте денег вы издержите гораздо больше, а «матроска» окажется гораздо хуже.
Между тем на набережной Рапе никто не делает тайны из рецепта приготовления «матроски», и повара госпожи вдовы Гишар161 и господина Куртуа, преемника госпожи вдовы Рена́, занимаются своим делом не таясь. На набережной Рапе точно так же, как и в центре Парижа, в «матроску» кладут рыбу-усача, карпа, угря – и десяток раков неошпаренных и без клешней. Там точно так же, как и в центре Парижа, рыбу, еще живую, режут на части, добавляют маленькие белые луковицы, полусваренные-полуподжаренные, и шампиньоны, нарезанные кубиками; там точно так же поджаривают муку на коровьем масле и разбавляют добрым бульоном (с той лишь разницей, что на набережной Рапе масло свеже́е), кладут в этот соус рыбу с пучком душистых трав, подливают красного вина, подсыпают соли и перца и ставят на очень сильный огонь, а на стол подают вместе с поджаренными хлебцами.
Вот из чего составляется обыкновенная «матроска». Вдова Гишар и господин Куртуа нисколько не отклоняются от этого рецепта. Отчего же, не устаем мы вопрошать, отчего же их «матроски» так восхитительны, а «матроски», приготовленные в других местах, так посредственны? Решение этого вопроса мы предоставляем гурманской мудрости. Если когда-нибудь откроется в Париже Национальный поваренный институт, этот вопрос будет, вне всякого сомнения, первым предложен его почтенным членам и станет предметом конкурса на соискание кухмистерской премии. Он заслуживает рассмотрения гораздо больше, чем многие другие академические вопросы – куда более праздные и куда менее полезные.
Впрочем, мы легко могли получить ответ на наш вопрос без промедления. Одна особа, утверждающая, будто разгадала загадку, во-первых, с помощью простого здравого смысла, во-вторых, посредством химических формул и, в-третьих, благодаря опытам, была готова продать нам этот ответ, и даже сравнительно дешево. Мы, однако, не сочли возможным принять это предложение, хотя оно и было сделано в письме чрезвычайно любезном; ведь предлагаемый секрет наверняка заинтересует не одного богатого Гурмана, которому вполне по карману за него заплатить, а посему мы спешим оказать услугу нашим зажиточным Амфитрионам и сообщаем адрес изобретателя – с его собственных слов.
Итак, тот, кто обратится к господину М.Б., проживающему у госпожи Леклерк в доме 23 по улице Сены в Сен-Жерменском предместье, сможет узнать способ – доселе неизвестный – изготовить у себя дома «матроску», ничем не уступающую тем, какие готовят на набережных Рапе и Большого Валуна.
Мясо животных дворовых и диких, рыба и живность в декабре так же хороши, как в последующие два месяца, а потому декабрь ничуть не меньше, чем январь или февраль, достоин зваться месяцем объедения. Но конец года – это пора банкротств и развязки многих дел, посему многие люди в декабре заняты более трудами, нежели развлечениями, и собираются для наслаждений гастрономических реже, чем сразу после Нового года. Несколько дней воздержания служат подготовкой к новогодним визитам, а те в свой черед служат прелюдиями к пиршествам, в ходе которых восстанавливается согласие между родственниками. Ибо те, кто вместе отобедал, не вправе больше друг на друга дуться, и гармония, непременно возникающая во время вкусной трапезы, должна продлиться не меньше полугода, если участники этой трапезы – люди порядочные. Точно так же обстоит дело с признательностью к хозяину дома: в течение шести месяцев следует запретить себе всякую мысль о злословии на его счет. Подобная сдержанность может быть названа долгом Гурмана – тем более священным, что за ним стоят разом и благодарность за прошлое, и надежда на будущее.
Посему следует быть крайне осмотрительными в сношениях с Амфитрионами и не позволять себе необдуманные высказывания насчет тех, кто дали нам убедительные доказательства своей благосклонности. Прежние вельможи, привыкшие столоваться у богатых финансистов, слишком часто пренебрегали этим правилом. Между тем смеяться над великодушным хозяином, который кормит вас великолепными яствами и поит превосходными винами, значит попирать все правила гурманской общежительности.
О томатах 162
Овощи в декабре те же, что и в январе, только лучше, потому что свежее. Правда, томаты, именуемые в народе любовными яблоками, а в ученых кругах – lycopersicum, редко дотягивают до Дня святого Фомы163. Больше того, они начинают портиться уже в самом начале января, так что мы почитаем своим долгом сказать о них несколько слов прямо сейчас.
Этот овощ – или фрукт, каковое название, возможно, больше ему пристало,– добрался до Парижа из Испании через Лангедок и Прованс, но еще полтора десятка лет назад был в нашей столице почти никому не знаком. Томат прижился в Париже лишь благодаря выходцам из полуденной Франции, которые наводнили столицу во время Революции и составили здесь себе состояние (потому что у них достало ума поддерживать друг друга и всегда выступать заодно). Вначале томаты были очень дороги, но затем сделались товаром самым обыкновенным, и если прежде ими торговал один лишь Маниво, то в минувшем году на Центральном рынке их было множество, и продавались они целыми корзинами.
Для изысканной кухни томаты – настоящий дар Небес. Из них делают восхитительные соусы, которые идут к любому мясу, даже жаренному на вертеле; особенно же хороши томатные соусы с мясом вареным: в этом случае они заменяют горчицу, которую иные люди почитают неуместным пускать в ход до наступления зимы (хотя не у места горчица может быть только после ужина), и сообщают пленительный вкус даже кушанью самому посредственному. Томатное желе добавляют в скоромные супы с рисом, которые от этого приобретают тот тончайший и приятнейший кисловатый оттенок, что известен в медицине под именем grata aciditas.
Впрочем, любовные яблоки способны играть роль не только вспомогательную, но и главную. Из них делают восхитительное преддесертное блюдо: удалив семена, набивают их замысловатым фаршем или просто-напросто колбасной начинкой, причем к двум третям фарша прибавляют одну треть черствого хлебного мякиша, а также дольку чеснока (служащего любовному яблоку непременным спутником), петрушку, песчаный лук и эстрагон мелко изрубленные; затем каждый томат одевают в редингот из толченых сухарей и запекают в малой печи на решетке или – что предпочтительнее – в форме для круглого пирога-турты. Лимонный сок, выжатый на томаты прямо перед подачей на стол, когда они еще не покинули формы, довершает приготовление этого преддесертного блюда, которого, сколько ни сделай, никогда не хватает. Блюдо это для Парижа новое и ни в одной поваренной книге не описанное, а потому мы надеемся, поместив этот рецепт в нашей книге, умножить ее ценность и заслужить признательность наших сограждан-Гурманов. В пору выхода двух первых изданий нашего альманаха мы знали только этот способ готовить томаты (подходящий также и для баклажанов, другого лангедокского овоща, редко еще встречающегося в нашей столице); с тех пор нам стало известно, что в Италии их с успехом запекают в заварном тесте и что господин Леблан, долгое время трудившийся в Парме, располагает использовать томаты в пирожном деле, которое совершенствует он с такою славою. Судя по первым испытаниям, Гурманов ожидают на этом неизведанном поприще открытия самые чудесные; мы нисколько не сомневаемся, что если мастера поварского искусства обратят на томаты должное внимание, сей прелестный плод подарит Гурманам великое множество замысловатых наслаждений.
О рождественской трапезе
Оставим эрудитам решение вопроса о том, в какое именно время возник у христиан обычай устраивать пиршество в рождественскую ночь; скажем лишь, храня верность предмету нашего сочинения, что пиршество это удивительно и неповторимо хотя бы потому, что не является ни завтраком, ни обедом, ни полдником, ни ужином, ни трапезой на привале; это рождественское пиршество, оно же сочельник, и ничто иное; поэтому устраивают его один-единственный раз в году, в ночь на Рождество Христово, иначе говоря, 25 декабря между двумя и тремя часами пополуночи.
Пока Францией правили якобинцы и наследовавшая им Директория, рождественская месса, а с нею и рождественское пиршество находились под запретом, к великому сожалению жарильщиков и колбасников, которые с восторгом приняли революцию 18 брюмера VIII года, ибо она, позволив религии возродиться, воскресила разом нравы, порядок и сочельники.
Рождественская трапеза призвана подкрепить силы верующих, истощенные четырехчасовой церковной службой, и освежить их уста, утомленные молитвенными песнопениями. Песнопения эти, псалмы и гимны следуют до и после полуночной рождественской мессы такой густой чередой, что всякий, кто смог их одолеть, благословляет обычай праздновать Рождество за пиршественным столом: ведь ничто так сильно не возбуждает аппетит, как долгая работа легких, освященная молитвой.
О пулярках с рисом
Первейшее место в рождественской ночной трапезе, которую следовало бы называть не рождественской, а возрождающей, занимает пулярка с рисом, которую, впрочем, позволительно заменить каплуном и которая замещает суп, в эту ночь никогда на столе не являющийся. Причет ее составляют четыре дополнительных блюда, а именно: жгучие сосиски, упитанные свиные колбасы, белая кровяная колбаса со сливками и черная кровяная колбаса без жира. Всему этому приходит на смену язык копченый либо одетый по-зимнему – «в чехле», а с ним дюжина свиных ножек, начиненных трюфелями и фисташками, и большое блюдо со свиными котлетами. На углах стола выставлены две тарелки с пирожным – круглыми пирогами-туртами и тарталетками и две тарелки со сладкими преддесертными блюдами – кремом и английским яблочным пирогом-фланом. Завершают рождественскую трапезу девять тарелок с десертом, а подкрепив свои силы всеми перечисленными яствами, верующие возвращаются в церковь и там истово предаются молитвам первого и третьего часа. После этого они отправляются домой немного соснуть, чтобы затем натощак или после легкого завтрака воротиться на дневную мессу и молитву шестого часа164. Вот так празднуют нынче Рождество богомольные Гурманы.
Как видим, в рождественском пиру свинье отведена главная роль, поскольку ни одна из двух подач не обходится без ее участия. Свинья преуспела не случайно; надо думать, первые христиане, дабы отделиться от иудеев, которым Ветхий завет запрещает есть свинину, решили приветить это благодетельное животное, в котором не видели решительно ничего нечистого, и оно в ответ наградило их столькими гастрономическими наслаждениями, что ни один Гурман никогда не променяет веру Христову на веру Моисееву, точно так же как ни один пьяница никогда не подастся в турки. Таким-то образом гурманство приходит на помощь вере и служит интересам морали.
О рождественской ночи
Улицы Парижа накануне Рождества и в самую рождественскую ночь представляют зрелище, равно приманчивое и для желудка, и для глаза. Колбасные лавки освещены, точно бальные залы. Ресторации набиты битком; жарильщики крутят вертела, и едва ли не все, кто имеет отношение к кухне, на ногах и при деле. Количество съестного, поглощаемого в эти дни, превосходит все ожидания, а поскольку, на какой бы день ни пришелся праздник Рождества, все едят скоромное, почтенные свинки в эту ночь, как ни в какую другую, обречены жертвовать своей жизнью ради нашего блага.
Мы перелистали страницы «Календаря снеди»; если мы коснулись этого увлекательного предмета только походя, то потому, во-первых, что читатель охотно становится соавтором читаемой книги, а значит, надобно что-нибудь оставить на долю его воображения; во-вторых же, потому, что, когда бы мы вознамерились описать тонкости поварского искусства все до единой, избрали бы мы для такого трактата рамки несравненно более широкие.
Теперь же мы, как и обещали, совершим небольшую прогулку по столице в обществе Гурмана, который благодаря великой опытности и неисчерпаемым познаниям проведет нас по всем вкусным уголкам столицы, которым наши читатели отдали уже должное165. Любителям вкусной снеди прогулка эта пролила свет на многое, что дотоле было им неведомо; она открыла им глаза на существование многих мастеров своего дела, о которых они прежде и не слыхивали, и вследствие таковых открытий аппетит их разыгрался не на шутку; мы же раззадорим его еще сильнее указанием на те новые заведения, о которых сами узнали только в истекшем году166, ибо мы не жалели ни сил, ни времени, лишь бы помочь неведомым талантам и свести искусного мастера с богатым потребителем, к вящей пользе обоих.
Замечание
Прежде чем повести речь о прославленных магазинах, где продают вкусную снедь всякому, кто заплатить способен, было бы правильно помянуть добрым словом те дома, где эта же снедь, и притом великолепная, предлагается даром, иначе говоря, рассказать об Амфитрионах, в лице которых обретают Гурманы своих Меценатов.
Однако Революция так сильно уменьшила их число, что нам стоило бы большого труда их разыскать; вдобавок говорить о них смогли мы бы только с чужих слов, ибо уединение, на которое обрекают нас наши труды, склонности и состояние кошелька, отдаляет нас от баловней века сего. Тем не менее нам предъявили бы справедливый упрек, когда бы умолчали мы о доме второго консула Камбасереса, где гостям, по свидетельству ученейших знатоков, подают обеды самые изысканные, самые вкусные и самые затейливые из всех, какие в Париже готовятся167. Мы должны прибавить, что этот государственный муж, знающий правила учтивости так же хорошо, как и правила гастрономические, принимает гостей с любезностью беспримерной и за своим столом забывает о том, что является вторым лицом в Республике, ради того чтобы по приветливости сделаться первым. В этом нелегком деле помогает ему прославленный господин д’Эгрефёй, которому наши похвалы, разумеется, не прибавят известности, но который своим аппетитом, манерами и познаниями издавна снискал звание Короля Гурманов168. Эту роль играет он без устали и с редкостным благородством.
Гастрономический путеводитель, или Прогулка Гурмана по кварталам парижским 169
Предварительное рассуждение
Возможно, званием столицы мира, которую чужестранцы посещают с наибольшим удовольствием и в которую возвращаются с наибольшей охотой, Париж обязан не только великолепию своих памятников, совершенству своих ремесел и старинной учтивости своих жителей, но и вкусности своих столовых припасов. Париж, вне всякого сомнения,– город, где больше всего вкусной еды и превосходных поваров, которыми столица ссужает все цивилизованные нации мира. Сам Париж не производит ровно ничего, ибо здесь не созревает ни единого колоса, не рождается ни единого ягненка, не вырастает ни единого кочана цветной капусты, однако ж сюда стекается провизия из всех концов света, ибо здешние жители лучше всех умеют оценить свойства всякого съестного припаса и обратить всякую вещь в источник чувственных наслаждений. Ежедневной дани, доставляемой из всех стран мира, Париж обязан изобилием и даже, в известной степени, дешевизной съестного, ибо Париж – город яств не только самых изысканных, но и сравнительно недорогих. В Париже превосходный обед доступнее и дешевле, чем в других местах.
Потребление съестного в Париже
Поскольку Парижу (население которого, хотя и меньше лондонского, все же очень велико170) потребно огромное количество столовых припасов, все дороги, сюда ведущие (и зачастую непроезжие, хотя и взимаются непомерные суммы на содержание их), забиты телегами с провизией самого разного рода и бесчисленными стадами самого разного скота; все это проваливается в бездну всепоглощающую. Меньшая часть выныривает из этой бездны в новом виде, но большинство, назначенное в пищу, исчезает без возврата. На жалкие несколько сотен паштетов из ветчины или пулярки, которые Париж продает на сторону, приходятся тысячи паштетов из гусиной печенки, куропаток, уток, жаворонков, тунца, барабульки, нормандской телятины, хрустанов и проч., которые поедаются самими парижанами. Аппетит столичных жителей ненасытен, и от провинциалов ожидают они только одного – корзинки с провизией, за доставку которой заплачено вперед.
Неудивительно, что изобретательность свою парижане пустили на усовершенствование всего, что до еды касается. Нет другого города в мире, где бы так размножились торговцы съестным171 и фабриканты, это съестное приготовляющие. Здесь на одного книготорговца приходится сотня рестораторов, а на одного механика – тысяча пирожников.
Однако за последние несколько лет получило поваренное искусство в Париже размах особенный, прежде неслыханный. Наши предки ели для того, чтобы жить, их потомки, кажется, живут для того, чтобы есть. Все новоприобретенные состояния тратятся на животные наслаждения самые несомнительные и самые основательные: деньги наших миллионщиков нескончаемым потоком текут на Центральный рынок.
Расписание трапезам
Нам не пристало ни хвалить, ни хулить этот новый образ жизни. Если искусству беседы он пошел во вред, искусству гастрономическому, напротив, принес большую пользу. Конечно, обеды начинаются нынче не раньше шести вечера, а в девять уже заканчиваются. Однако такому обеду предшествуют два завтрака, из которых второй, именуемый завтраком с вилкой в руке, отличается завидной основательностью; больше того, в домах многих новых французов за этим вторым завтраком следует трапеза, именуемая смешанной172, которая, хотя и начинается уже в два часа пополудни, содержит кушанья весьма сытные. Право, чтобы так жить, желудки нужны поистине луженые. Неудивительно, что томные красавицы исчезли вместе со Старым порядком: нынешние исполинши составляют достойную пару самым тучным чревоугодникам и управляются за завтраком с крылышками пулярок и ломтями ветчины так же проворно, как их предшественницы – с чаем173 или липовым отваром.
Такой порядок вещей, при котором все помыслы обращены к одной лишь кухне, а всеми парижскими честолюбцами владеет желание иметь в своем доме прекрасный стол, неизбежно должен был способствовать рождению нового искусства. Прежде повара были простыми ремесленниками: служа горстке богатых придворных, откупщиков или судейских, они упражняли свои полезные таланты в безвестности; немного находилось и тех, кто способен был оценить плоды их труда. Революция посадила всех прежних богачей на диету, а искусных поваров выбросила на улицу.
Происхождение знаменитых рестораторов 174
Тогда, чтобы способности их не пропадали втуне, они принялись торговать вкусной снедью под именем рестораторов175. До 1789 года таковых в Париже насчитывалось не больше сотни; знатоки помнят, что первую парижскую ресторацию на улице Пули́176 открыл искусник по имени Шан д’Уазо всего за два десятка лет до начала Революции, в 1770 году177. Сегодня число этих заведений в Париже достигает шести сотен. Их владельцы: Мео и Робер, Роз и Вери, Леда, Бриго, Легак, Бовилье и Ноде, Тайёр и Николь – из безвестных поварят выбились в миллионщики.
Еще два обстоятельства способствовали этой кухонной революции и преуспеянию ловких рестораторов: во-первых, страсть к подражанию английским нравам (англичане ведь, как известно, столуются в тавернах с превеликой охотой), а во-вторых, стремительное умножение числа бесприютных законодателей, которые, став заодно и законодателями мод, своим примером увлекли всех парижан в трактиры178. Добавим, что новые богачи, стыдясь внезапно свалившегося на них богатства и стремясь его скрыть, поначалу не осмеливались устраивать роскошные обеды у себя дома. Итак, именно эти революционные грибы помогли превосходным поварам, от Революции пострадавшим, снова стать на ноги. Теперь же, когда новые толстосумы уже приучили публику к своему богатству, а время, заставив замолчать завистников, сделало это богатство столь привычным, что все забыли о его происхождении, господа эти, к великому неудовольствию рестораторов, вновь начинают задавать роскошные обеды, и тот, кто две трети жизни играл роль Созия179, нынче неплохо справляется с ролью Амфитриона.
Любовь к изысканным яствам постепенно распространилась среди всех сословий; кто прежде питался одним сыром, у того нынче на столе трюфели и ортоланы180, а посему умножилось в Париже не только число людей с новыми аппетитами, но и число торговцев съестными припасами. Прежде известен в Париже был только Американский дом181, теперь торговцев съестным не перечесть. Из десяти новых лавок, открывающихся в Париже, три торгуют нарядами, а четыре – снедью.
Многое еще могли бы мы добавить на сей счет, но и сказанного довольно, чтобы понять: если прежде путешествие Гурмана по Парижу окончилось бы, едва начавшись, нынче не уступит оно в продолжительности путешествию вокруг света.
Выставки съестных припасов
Каждый стремится выставить свой товар с превеликой роскошью – соперничество, прежде немыслимое. Вместо огромных оловянных чанов, загромождавших некогда лавки пирожников, предстают теперь взору прохожего соблазнительные выставки печеных творений, устроенные с таким изяществом, какого не знали не только кондитеры, но даже ювелиры старого времени.
До Революции никому не пришло бы в голову выставлять под стеклом паштеты, бриоши и бисквиты. Колбасники больше не вешают над дверями своих лавок яркие медные лампы, освещающие всю улицу, но зато за окнами сквозь позолоченные решетки виднеются аппетитнейшие пирамиды из сосисок, свиных и кровяных колбас, не говоря уже о связках разнокалиберных сарделек, иные из которых подозрительно напоминают гигантские фаллосы, и огромных шматах сала, концы которых вываливаются на тротуар и грозят запачкать одежду прохожих. Рестораторы не уступают в искусстве заманивать посетителей ни корифеям пирожного искусства, ни свиных дел мастерам. На подоконниках разбросаны, будто бы по оплошности, говяжьи или заячьи, а то и куропаточьи филейные части; впрочем, оплошность эта мнимая: все они нашпигованы с заранее обдуманным намерением и по первому же требованию отправлены будут на вертел. Вообразите себе бедняка, у которого ничего нет за душой и который вынужден постоянно обольщаться подобными картинами, – и вы легко поймете, что сему новому Танталу потребна для исполнения десятой заповеди182 добродетель поистине сверхъестественная.
Впрочем, не будем осуждать эти выставки, ведь именно им большая часть торговцев обязана постоянными покупателями. Трудно устоять от искушения, когда имеешь возможность ему поддаться, и гораздо больше Гурманов, чем кажется, наружными сими соблазнами пленяются. Впрочем, мы обязаны отдать должное самым прославленным рестораторам и сказать, что они, почитая подобные средства ниже своего достоинства, никогда к ним не прибегают; вдобавок тем, кто расположился в просторных особняках и не держит лавок в нижних этажах, выставлять свой товар на обозрение прохожих довольно затруднительно. Ни Мео, ни Роз, ни Леда, ни Робер, ни Легак, ни Вери никогда не улавливали оголодавших прохожих в подобные сети. Завсегдатаи этих господ – все сплошь Крезы; кого попало в такие заведения не пускают.
Эти общие соображения призваны объяснить, отчего парижские улицы переменились за последние тринадцать лет так сильно, что человек, покинувший французскую столицу в 1789 году, нынче, пожалуй, ее бы не узнал… Меж тем пора нам наконец двинуться в путь по приманчивому этому городу; многие читатели, должно быть, устали дожидаться конца нашего долгого предисловия, которое не способно ни разжечь аппетит, ни его удовлетворить.
Прогулка по парижским улицам
Мы совершим эту небольшую прогулку в обществе записного Гурмана, в высшей степени достойного носить это звание, которое дается не всякому. Его острый нюх возместит недостаток наших познаний и приведет нас во все те заведения, где самые лакомые кусочки изготавливаются и продаются.
Господин Бено
Начнем же от Ворот Сент-Оноре и двинемся по улице, носящей имя этого святого183; первым делом надобно остановиться у дома 55, где обосновался господин Бено, пирожник еще не слишком известный, но достойный внимания публики благодаря чрезвычайной легкости своих савойских бисквитов, совершенству своих меренг и нежности своего печенья. Он открыл секрет, как из четырех унций картофельного крахмала и десяти яиц изготавливать прекрасный савойский бисквит, который даже выздоравливающим от тяжелой болезни не во вред, тогда как прежде и обладатели самых могучих желудков его страшились.
Господин Берли
После задержимся ненадолго на Вандомской площади у господина Берли, разом и ресторатора, и лимонадчика184, который пользовался большой славой в прежние годы, а нынче держится слабыми ее отзвуками. Выставки у него богатые, зала – одна из красивейших в Париже, женушка изящна, приманчива и мила, но вот посетителей что-то не видать. По чести сказать, мы не слишком одобряем тех, кто совмещает в одном лице два ремесла слишком различные в средствах и результатах и потому друг другу препятствующие, тогда как каждое из них, если предаться ему всецело, способно даровать мастеру бессмертную славу.
Господин Вери
Войдем в Тюильри через пассаж Фельянов – если, конечно не помешают работы, которые ведутся там ныне и которые заставляют нас с сожалением взглянуть на великолепный портал здешней церкви, обреченной на уничтоженье185,– и, ступив на одноименную террасу, полюбуемся на ресторацию господина Вери, которой красное дерево и зеркала, мрамор и бронза снискали репутацию одного из роскошнейших заведений парижских. Мы нисколько не сомневаемся, что кухня этого заведения не уступает великолепием ни роскоши портика, ни блеску посуды и оправдывает непомерную стоимость кушаний; впрочем, уверенность наша стала бы еще большей, когда бы ресторация эта могла похвастать каждодневным скоплением завсегдатаев. К несчастью, число тех, кто способен заплатить луидор за обед, еще не так велико, чтобы великолепные эти залы ломились от посетителей186. Тому же господину Вери принадлежит исключительная привилегия на продажу посетителям сада Тюильри холодных ликеров, сорбетов и мороженого, впрочем, весьма посредственного; палатка его, разбитая у подножия террасы и ярко освещенная в течение всего лета, часто полна гостями; однако любителям пива туда входа нет, их господин Вери смиренно просит проследовать к нему в погреб.
Господин Легак
Кстати о гостях, если желаете увидеть их во множестве, ступайте к соседу господина Вери господину Легаку, ибо у того вечно толпа клубится; быть может, в настоящее время едва ли не все богатые и серьезные любители вкусных столов стекаются к этому ресторатору, хоть и жалуются беспрестанно на неучтивое и невнимательное обращение с ними здешних слуг, которым следовало бы во всем брать пример со своего хозяина. Залы ресторации господина Легака ничем не примечательны, зато кухня, надо думать, превосходна, вина изысканны, а цены умеренны – иначе чем объяснить то обстоятельство, что в этой ресторации ежедневно собирается общество самое многочисленное и что именно ее уже давно облюбовало для своих собраний любезное Общество Среды187, члены которого издавна славятся острым умом и разборчивым вкусом.
Господин Одио и господин Симон
Пойдем дальше по улице Лестницы, по дороге бросим восхищенный взор на стоящую при пересечении улиц Сент-Оноре и Фрондёров188 роскошную лавку Одио, первого парижского ювелира189, который без устали создает элегантнейшую посуду для самых богатых буфетов и самых великолепных столов и по этой причине заслуживает благодарности истинного Гурмана, а затем остановимся на пересечении улиц Святой Анны и Англадa190 перед роскошной выставкой мясника господина Симона, предоставляющего покупателям превосходнейший выбор разных мяс, в особенности же понтуазской телятины, чья белизна слепит глаза. Товар у господина Симона недешев, и в этом убеждается каждый, кто пересекает порог его заведения, однако богатого Гурмана этим не остановишь.
Господин Бьенне
Напротив лавки господина Симона располагается заведение жарильщика, могущего поспорить с самыми блистательными собратьями из Долины. Жарильщик этот по праву считается первым в Париже; к нему стекаются все те, кто не имеет возможности покупать товар в Долине, однако ж хотят иметь провизию первосортную. К нему посылает за припасами сам господин Руже – и этим все сказано. Посему мы не станем доверять анонимному письму, в котором нас уверяют, будто господин Бьенне любит пускать пыль в глаза, а живность у него жестковата191.
Минуем поскорее тесный и грязный рынок Трехсот192 (на котором не станем задерживаться, ибо, подобно всем второстепенным парижским рынкам, он есть не что иное, как скверная копия рынка Центрального) и, пройдя двором Святого Гийома193, выйдем на улицу Ришелье; повернем направо – и мы почти тотчас окажемся перед домом господина Руже.
Господин Руже
В течение двух десятков лет господин Руже пользовался заслуженной славой первого парижского пирожника, особенно известного своими преддесертными блюдами и своим пирожным, как то: сладкими пирогами-туртами, тарталетками, миндальным печеньем и слоеными пирожными с кремом, меренгами, бриошами и всеми теми бесчисленными легкими сладостями, которые следуют капризам моды и составляют украшение и отраду нынешних чайных столов. Бисквиты господина Руже славились во всех концах Европы, и, как знаем мы из надежного источника, сам китайский император изволил сожалеть о том, что не может их кушать тотчас по выходе из печи. С тех пор господин Руже продал свою лавку, и лишь невзгоды революционной поры заставили его снова взяться за дело. Нынче он опять водворился на прежнее место, и заведение его, вследствие произведенных перемен, сделалось прекраснейшим во Франции, чтобы не сказать во всей Европе; оно просторно, удобно, устроено с умом и достойно внимания истинных ценителей. Здесь, с помощью почтенного своего сына, которому достало мудрости променять выгодное чиновничье место на скалку и передник, господин Руже доказывает нам, в опровержение славного греческого философа, что в одну и ту же реку можно войти дважды. Господин Руже отнюдь не чужд тем усовершенствованиям, какие претерпело пирожное искусство, пока он был не у дел; напротив, он, кажется, идет дальше своих собратьев. Он изготовляет все, что сам изготовлял прежде, только еще лучше. Он изготовляет все, что изготовляют сегодня другие, только еще прекраснее. Его пирожные скалы и печеные утесы суть образцы вкуса; живописный вид выдает в их творце художника, а лакомые детали обличают мастера пирожного дела. Достаточно сказать, что бургундские булочки-рамекены (новейшее его изобретение) достойны гения и стола господина Камерани194; смесь сыров пармского и грюйерского, какую хранят они в своей утробе, настолько драгоценна, что одна могла бы составить славу пирожника, но господин Руже этим не ограничивается; он предлагает покупателям итальянские лапшевники и макаронники, и эти чужестранцы также выходят из его рук во всем своем блеске. Пирожные глазированные, воздушные, обсахаренные – все, что делает господин Руже, пленяет глаз и ласкает вкус. Поэтому, нимало не опасаясь обвинений в преувеличении, мы вправе назвать его лавку одной из самых лучших, самых красивых и самых лакомых во всем Париже. Уйти из нее нелегко, особенно тому, кто не попробовал ни паштетов с луком-резанцем, ни кенелей, ни божественных овощных паштетов, какие и не снились ни одному картезианскому монастырю195, ни телятину, запеченную в тесте и ветчиной нашпигованную, ни неракские паштеты, ни паштеты с треской под соусом бешамель, ни английские яблочные пироги-фланы, ни многое-многое другое; но, увы, нам пора в путь.
Госпожа Дюбур
Вернемся на улицу Сент-Оноре и пойдем по ней влево; неподалеку от поворота на улицу Валуа располагается бакалейная лавка госпожи вдовы Дюбур, богатая товарами из Прованса; полюбуемся мимоходом на ее выставку, а затем, миновав поворот на Ораторианскую улицу, направим наши стопы прямо в Американский дом.
Американский дом
Мы уже упоминали это заведение, издавна пользующееся доброй славой; впрочем, успех развращает, и про господина Лабура говорят, что он утратил былую аккуратность, что товары у него уже не так превосходны и не так свежи, как прежде, цены же по-прежнему высоки и отпугивают покупателей, так что хозяин магазина нередко скучает в одиночестве среди окружающей его великолепной снеди. Это тем более досадно, что знатоки помнят, с каким усердием прежний хозяин, господин де Лавуапьер196, привозил из всех концов Франции все, способное возбудить чувственность Гурманов, и очень сожалеют о том, что от преемника его не могут дождаться ни прежней предупредительности, ни прежних лакомств. Горе домам, которые держатся лишь былой славой; это запас, который рано или поздно приходит к концу, и деятельная изобретательность тех, кто еще только ищет известности, как правило, радует публику куда больше, нежели беспечное самодовольство тех гордецов, что поднялись высоко, но обречены отныне на упадок и забвение197.
Пале-Руаяль
Покинем улицу Сент-Оноре, где ничто более не манит ни взор, ни аппетит, и направим наши стопы в прославленный Пале-Руаяль, где соблазнители и соблазнительницы всех родов атакуют все человеческие чувства разом198.
Среди многочисленных торговцев съестным, которые населяют здешние галереи и которых с каждым днем становится все больше, внимания нашего достойны трое: господин Ирман, господин Шеве и господин Корселле.
Господин Ирман
Дольше всех торгует здесь господин Ирман, чья лавка располагается на углу новой галереи, позади театра Республики199. Пирамиды его товаров имеют вид весьма привлекательный; самые разные паштеты соседствуют здесь с ликерами, уксусами и горчицей от Майя; галантины200
