Жены Матюшина. Документальный роман
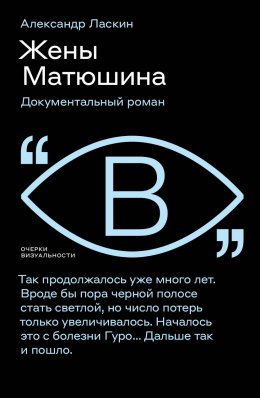
УДК 929 Матюшин М. В.
ББК 85.03(2)6-8Матюшин М. В.
Л26
Редактор серии Г. Ельшевская
Александр Ласкин
Жены Матюшина: Документальный роман / Александр Ласкин. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Очерки визуальности»).
Михаил Матюшин, художник и музыкант, одна из ключевых фигур русского авангарда, на протяжении своей жизни был женат на трех женщинах – Марии Патцак, Елене Гуро и Ольге Громозовой. Книга Александра Ласкина – это документальный роман о женах Матюшина, в котором, впрочем, основное внимание автора отдано двум последним: Гуро – символу и воплощению Серебряного века; и Громозовой – советской писательнице, которой покровительствовали Александр Прокофьев и Всеволод Кочетов. Прослеживая и художественно реконструируя сложные биографические маршруты этих женщин, А. Ласкин показывает, как в них отражается история всего двадцатого столетия в его движении от Серебряного века к советскому периоду с коротким перерывом на эпоху авангарда, представленную в книге Матюшиным и его друзьями. Александр Ласкин – ученый и писатель, доктор культурологии, профессор Российского государственного института сценических искусств, автор многих книг документальной прозы.
ISBN 978-5-4448-2824-3
© А. Ласкин, 2025
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Елена Гуро
- Слушай, ты, безумный искатель,
- мчись, несись,
- проносись, нескованный
- опьянитель бурь.
Бедная красивая барышня – она не умела летать!..
Елена Гуро
Часть первая
До. 1906–1917
Глава первая
Петербург
Все начинается – век, жизнь Ольги Громозовой. Много лет назад для таких барышень Петр создал Петербург. Уж очень ему хотелось, чтобы они удивлялись. Не только прямым улицам и прекрасным зданиям, но буквально всему, что встречается на пути.
Кто-то впервые увидел автомобиль, а Ольга узнала, как выглядит помидор. Сперва она решила, что это сорт капусты. Когда разобралась, представила натюрморт. Вот бы красное смешать с белым и зеленым! Прежде чем съесть, хорошо бы это нарисовать.
Приятно думать о помидорах и знакомстве с художниками, но сейчас это не главное. В Петербург Громозова приехала не развлекаться, а поступать в Женский медицинский институт.
Институт даст ей ощущение своих прав. Только земский врач и Государь Император могут сказать: «Это не совет, а приказ». При этом так сверкнуть глазами, что все покорно опустят головы.
Все бы так и было, если бы Ольгу приняли. Лучше бы ее экзаменовал Петр! Его бы устроило ее неведение, а у комиссии возникли вопросы. Ей предложили позаниматься еще и поступать на следующий год.
Раз ты оказалась в Питере, то как расстаться с этим городом? Не повезло с одним, может выйдет с другим? Почему бы ей не попробовать добиться счастья для всего человечества?
Да, так и только так. Вот бы еще дальние цели совместить с ближними! Хотя бы с самым скромным жалованьем. Чтобы что-то есть и где-то жить, Громозова поступила продавщицей в книжную лавку.
Впрочем, не только для этого. Лавка – это практически библиотека. Читаешь целыми днями. Ненадолго отвлечешься на покупателя, а потом опять зарываешься в книгу.
Так Ольга проштудировала все медицинские издания и еще с десяток философских. В некоторых из них рассказывалось, как можно поучаствовать в истории.
Опять ей что-то мерещилось. Разве она хуже Гавроша, да и прилавок – чем не баррикады? Тут проходит граница, отделяющая мир, принадлежащий книгам, от мира, где они составляют меньшинство.
Вскоре у нее появились новые знакомые. Сперва они к ней присматривались, а потом дали задание. По городу разбросано много явок, и ей поручалось их контролировать.
Выглядело это так. Приходит покупатель, разглядывает новинки. Для большего правдоподобия может что-то купить. Затем они остаются наедине, и она сообщает адрес конспиративной квартиры.
Дальше сценарий известный. Надо незаметно войти в дом и так же тихо его покинуть. Стать усатым извозчиком или бородатым торговцем фруктами и какое-то время существовать в этой роли.
В общем-то, рисковали все. Ольга не меньше, чем тот, кто изображал покупателя. Он мог оказаться тем, кто скрывается от полиции, и тем, кто в полиции состоит.
Громозову раздражало, что все происходит медленно. Революционеров много, но революция все время откладывается. Чтобы ускорить события, Ольга перешла к более действенным средствам.
Теперь она заворачивала не книги, а нечто пообъемнее. Да что тут сравнивать! Книгочей еще не дочитает страницу, а карета со всем содержимым уже взлетела на воздух.
Заметьте, все это один человек. Ольга беседует о литературе, помнит десятки явок и делает гремучие смеси. Совсем некогда посмеяться и пококетничать. Имеет она право улыбнуться лишний раз? Хотя слово «революционер» мужского рода, но невидимые лучики ей к лицу.
Тюрьма и после
Громозовой представлялось что-то вроде брюлловской «Гибели Помпеи». Входишь в картину и оказываешься среди голых торсов и воздетых рук. Вот почему, когда ее арестовывали, в голове мелькнуло: это то самое!
Видно, что-то не разглядела. Из-за этого не распознала шпика, а тот сообщил куда следует. Взяли ее прямо у прилавка. За минуту до этого она расхваливала покупателю новую книгу Горького.
Опасно политическому оказаться вместе с уголовниками. Неровен час распропагандирует. Поэтому ее определили в одиночку. Монологи тут произносить не перед кем, а фантазируешь вволю. Представляешь, как к власти приходит кто-то из покупателей лавки.
Времена, конечно, не лучшие, но не самые злостные. Находящиеся под надзором могут покидать Петербург. После тесной камеры хочется простора. Вот почему Горький начал пьесу в Петропавловке, а заканчивал в Ялте.
Кстати, пьеса называлась «Дачники». Что только не придет в голову заключенному! Возможно, Алексей Максимович сперва представил летний день, себя в компании отдыхающих, а затем прибавил сюжет.
Пока Ольга не пишет и писать не намерена. Да и для чего еще одни «Дачники»? Лучше отправиться в Уусиккирко и почувствовать себя горьковской героиней.
Финляндия – небольшая страна, но здешних далей хватит на всех. Куда ни посмотришь – края не видно. Даже лес тут не темный, а светящийся, весь пронизанный солнечными лучами.
Уусиккирко – давняя любовь семейства Гуро. Елена еще не приехала, но здесь ее старшая сестра Екатерина. Она решила «прогулять» Ольгу, а заодно кое-что с ней обсудить.
Дело в том, что Екатерина тоже тяготеет к острому и обжигающему и недавно посидела в тюрьме.
Часто не знаешь, что найдешь. После тюрьмы Екатерину сослали в Вятку, а здесь жила Громозова. Вряд ли библиотекарь читальни при Кожевенном заводе уже думала о революции, но старшая Гуро ей все объяснила. Подготовила к работе в подполье и последующему аресту.
Обычно после зимы отдыхающие редко улыбаются, но девушки были настроены позитивно. Такое, согласитесь, выпадает не всем. Несколько месяцев за решеткой – это уже биография.
В Уусиккирко позволено то, что запрещено в Петербурге. На Невском не покричишь, а тут – пожалуйста. Да и темы любые. Моды и скандалы их не интересуют, а о революции они говорят с воодушевлением.
Что это за зверь такой, пока не очень ясно, но это не мешает разговаривать громко и бурно жестикулировать.
От всех прочих «идейные» отличаются тем, что мыслят слишком прямо. Ничто, даже финские красоты, их не отвлекут от главного. Сейчас они хотят понять, что будет через ритуальные чеховские «сто, двести лет».
Как уже сказано, Ольга из мечтательниц. А тут еще чистый воздух, голоса птиц, всюду мелькающие белочки. Они не отделяют себя от людей. Можно протянуть руку и погладить коричневую шкурку.
Сразу представляешь новую жизнь. Вот же она – не где-то на горизонте, а, подобно лесу и воздуху, буквально везде.
Появление Елены Гуро
Пропустим шесть лет и окажемся в апреле двенадцатого года. Теперь Ольга и Екатерина живут в Териоках. Впрочем, пейзаж тот же. Да и разговоры не изменились. Словно в Уусиккирко они начали говорить, а сейчас продолжают.
Итак, революцию обсудили и уделили внимание белочкам. Чего ждать еще? Барышни скучают и собираются в город.
Тут приезжает Елена. О том, что Ольга и Катерина мыслят себя революционерками, знают несколько человек, а о ее прозе и живописи отзывались Блок и Вячеслав Иванов. В последнем номере «Трудов и дней» Иванов пишет о ее второй книге «Осенний сон»: «Тех, кому очень больно жить в наши дни, она, быть может, утешит».
Им бы тоже хотелось, чтобы их хвалили, но обычно в эти моменты рядом никого нет. Все же одно дело – сказанное наедине, а другое – опубликованное в журнале. Поэтому рецензии они воспринимают пристрастно. Примерно так думают: почему одним все, а другим ничего?
Муж у Елены тоже не такой, как у их приятельниц. Его официальный статус – первая скрипка Придворного оркестра, а неофициальный – ни на кого не похожий художник. В одном случае он играет по нотам, а в другом – все делает не по правилам.
Кстати, и с революцией у них свои отношения. Екатерина и Ольга ее только замышляют, а Матюшины в этом преуспели. Ведь перевороты могут совершаться как в глобальном масштабе, так и в скромном пространстве страницы и холста.
Как тут не позавидовать? С появлением Елены в усыпляюще-ровной дачной жизни возникает драматургия.
Драматургия предполагает взрывы. В новой драме они случаются на ровном месте. Вот и сейчас Ольга раскачивается в гамаке и укоряет подругу: «А как же общественные темы? Простые люди тебя интересуют меньше, чем природа».
Ссора назревает – и сходит на нет. Была у Елены такая манера, подмеченная одним знакомым. Она так смотрела на собеседника, словно видела его с другого берега. Один такой взгляд, и вопросов больше не возникало.
Близорукие видят даль сквозь туман, а дальнозорким не разглядеть близкое. Не надо быть глазным врачом, чтобы убедиться: Елену волновало то, что рядом, а сестру с подругой – то, что далеко.
Действительно, в природе всегда что-то происходит. Только успевай заметить и дать этому имя. Вот дерево «с тяжелой кудрявой головой», а это стрекоза «голубей неба»…
Ни одна из дачниц не красавица, но, пожалуй, Елена – самая некрасивая. Рост небольшой, нос картошкой, скулы выступают. Легко представить ее не за письменным столом или мольбертом, а где-нибудь на сенокосе.
Елена француженка по отцу и русская по матери, а уродилась чуть ли не коренной жительницей Финляндии. Если у нее есть что-то особенное, то только глаза.
О ее взгляде мы еще скажем, а пока упомянем, что она все время торопится. Казалось бы, куда ей спешить, а она тормошит подругу. Посмотрела на рисунок, что-то быстро о нем сказала, перевела взгляд на ручей. Прямо-таки потребовала: «Бежим посмотрим».
Сотни таких вспышек не оставили следов, а эта запомнилась обеим участницам. Лучше всего их описала Гуро в рассказе «Щебет весенних».
Сперва набросала контур рубашки с тонкими бретельками. Затем, еще парой штрихов, «молоденькие, тоненькие, некрасивые» косы. Когда вырисовался портрет, она ее назвала. Имя – Олли, а по сути – «найденная, наше сокровище».
Сказала – и опровергла себя. Найденная – значит «определившаяся», а Ольга всегда в движении. Только мы ее разглядели, а бретельки с косами растворились в луче света.
Ты пушковатый скромный луч мой – Олли! Когда ты выскользнула на балкончик, видна стала на рыжей двери, и смотрела в изумруд ветвей.
Лучу не поспеть за ручьем, а ручью не угнаться за автором. Описывая его, Елена говорит о себе – сразу представляешь, как она волнуется, успокаивается и вновь начинает сначала.
На ручей побежали, – пишет Гуро, – суровый и бешеный, и в мокрых хлопьях, и в вихре просырели… Сумасбродство же, ей-богу!
Еще о Гуро и минуте
Иногда проза открывает то, чего никогда не признаешь в авторе, но тут удивляет сходство. По ее произведениям представляешь маленькую женщину, которой интересно все. Вряд ли с таким темпераментом напишешь роман. Самое большее – текст в две-три страницы.
Как говорится, мал золотник – да дорог. В Уусиккирко, Мартышкино или Териоках в этом убеждаешься на каждом шагу. Все, чего бы не заметил в городе, тут становится важно. Нагибаешься или поднимаешь голову, и ты уже приобщен.
Читаешь Гуро и представляешь дачную жизнь. В ней нет ничего обязательного. Взглянула в окно – и вот вам рассказ. Если бы сейчас пошла в сад, написала бы о другом.
Фраза немного расслабленная, часто уводящая в сторону. Кстати, линия ее рисунка столь же быстрая и легкая. По словам Матюшина, Елена не разделяла литературу и живопись. Начнет с наброска карандашом, а на том же листе возникает история. Бывало наоборот. Запишет свои ощущения, а итог подведет в картинке. Получится, что одно объясняет другое.
Неизменно одно: ее проза и картины говорят о чем-то большем. Да и сама жизнь, с ее точки зрения, представляет что-то большее. В реальности природа не одушевлена, а у нее звезда «теплая», калоши «гордые», «лошади стали ночнее».
Этот мир не только живет и чувствует, но участвует и даже рассказывает. Вот она рисует полосатую кубышку, и у нее выходит портрет. Не нечто, а некто. Полный такой субъект, буквально надутый ощущением превосходства.
Кстати, этот толстяк проник и в ее прозу. Гуро называет «пузатых кубышек с яркими полосками, груды овощей с черных огородов, и веселых, добрых детей, которые гладят пушистых кроликов». Это и есть «мир умираний, страданий, горя, концов и начал…», и в нем для всего, тут перечисленного, есть свое место.
Гуро умеет тайное сделать явным. Казалось бы, разве можно изобразить вкус? На ее рисунке он стал светом и образовал что-то вроде нимба.
Перед нами опять портрет. Не просто яблоко, а, так сказать, яблоко «с человеческим лицом». Его можно съесть, но лучше рассматривать. Столько в нем красоты и искусства.
С предметами и плодами все ясно, а что люди? Вот Матюшин повернулся к окну. В поднятых руках у него горшок с цветами. Он его не столько держит, сколько предъявляет, как самый главный свой аргумент.
Гуро не раз рисовала своих героев спиной к зрителям. Их положение не мешало ей рассказать о них – и о себе. Вот так же с бочонком и яблоком. Можно не показывать лицо, но при этом лицом быть.
В искусстве и в жизни Елена вела себя одинаково. В некотором смысле отворачивалась. Кто-то говорит о себе прямо, ничего не скрывая, а она на примерах.
Мы видим бочонок, а на самом деле – кого-то из ее знакомых. Яблоки на холсте свидетельствуют о неземном свечении. Напряженная спина мужа подтверждает связь с белесым небом за окном.
Как говорилось, для Гуро жизнь состоит из мгновений. На ее картинах и в рассказах запечатлен след минуты. Если это так, то надо спешить. Отвлечешься, и впечатление испарится. Предстанет искаженным воспоминанием.
Она вообще недоверчива ко всему длительному. Это относится и к публикациям. Как-то не вяжется нечто вспыхивающее и гаснущее с твердой обложкой и хорошей бумагой.
Это потом она поняла, а сперва поступала, как все. Ходила по редакциям и с волнением ждала ответа. Несколько журналов написали что-то обтекаемое, а «Русская мысль» ответила грубо. Даже не хочется повторять. Что-то о том, что хорошо бы почитать классиков и поработать над стилем.
Тут-то ей все стало ясно. Она решила печататься только с единомышленниками. Ради этого они с Матюшиным создали издательство «Журавль».
В других местах все чужое, а тут свое. Редакционное совещание не отличается от встречи друзей. Тем более что все происходит в их столовой при участии пепельницы в виде галоши.
О пепельнице еще будет речь, а пока скажем, что между пережитым и запечатленным расстояние было столь же коротким, как между написанным и изданным. В первом случае – увидела и сразу это записала. Во втором закончил книгу, а уже через пару дней держишь ее в руках.
Скорость обеспечивалась тем, что книги, как гравюры, печатались литографским способом. О дистанции говорило только название. Впрочем, в последних изданиях Матюшин вернулся с неба на землю и переименовал «Журавль» в «Дом на Песочной».
Глава вторая
Гуро + Матюшин =
Пока место Матюшина в нашем рассказе такое, как на упомянутом полотне. В это время Елена жила на даче в Териоках и старалась угадать, чем муж занят в городе. Наверное, так думала: сейчас он смотрит на небо, а небо глядит на него.
Наконец (уже не на холсте, а в этом тексте), Михаил Васильевич поворачивается к дачницам. На нем кожаный шлем, его мотоцикл извергает клубы дыма… Вот он, «бог на машине»! Даже рядом с революционно настроенными барышнями муж Елены выглядит радикальней.
Такие впечатления не забываются. Ольга еще не разглядела Матюшина, но уже признала в нем футуриста. Ведь футуристы воспевают скорость и движение, а он в эту минуту был скорость и движение, буря и натиск.
С Гуро эта картина не очень вяжется. Впрочем, рядом с ней лишним казалось многое. Особенно слова. Сколько бы ты их ни произнес, она ответит одним или двумя.
Ее взаимопонимание с мужем определяли более важные вещи. Разговор о взгляде впереди, а пока упомянем кривую. В этой семье считали, что прямая – дань общему мнению, а индивидуальна только волнистая линия.
Это верно как для творчества, так и для жизни. Чтобы встретиться с Гуро, Матюшин должен был свернуть в сторону, обзавестись семьей и детьми. Впрочем, женщину, похожую на Гуро, он рисовал задолго до знакомства. Значит, мечты не требуют подтверждения. Если что-то мерещится, то это уже есть.
Когда они стали жить вместе, Михаил Васильевич так ее и нарисовал – как воплощенную грезу. Светлую не только платьем и шапочкой, но всем существом. Не просто стоящую на фоне леса, но живущую с ним заодно.
Немного о жизни до Гуро
Если Елену Матюшин рисовал много, то первую жену, Марию, лишь несколько раз. Дело в том, что они очень разные. Одна хрупкая, а другая целиком погружена в реальность. Нежные и прозрачные краски, которые любит Михаил Васильевич, ей не очень подходят.
При всем почтении к легкости и воздушности отдадим должное прочности и постоянству. Пока Матюшин не встретился с Гуро, его жизнь была совершенно понятна. Детей четверо, положение уверенное. Казалось бы, чего желать еще? Вроде все состоялось, и можно просто радоваться жизни в кругу близких людей.
К достижениям Михаила Васильевича надо прибавить то, что он – лицо, приближенное к императору. Если государь сидит в первом ряду, а он в оркестре, дистанции почти нет. Дело не в расстоянии, а во внимании. Когда что-то говорили министры, царь слушал вполуха, а его скрипке буквально внимал.
Все же вернемся к женам. Чем они непохожи, Матюшин объяснил сам. Вернее, нарисовал. Вот Елена – белое пальто и белая шапка в лучах света, идущего от сосен. А это – Мария. Летняя панама, румянец во всю щеку, свежесть во взгляде и настроении.
Елена вписана в пейзаж, чуть ли не стала его частью, а Мария существует сама по себе. Как отделить самодостаточность от самонадеянности? Она тоже знает, что судьба удалась, и это уже навсегда.
Так бы и продолжалось, если бы не странный поворот к живописи. К той жизни, что уже состоялась, Матюшин прибавил еще одну. Мария и с этим справилась. Не отговаривала, не жаловалась подругам, а только спросила: «Что я могу для тебя сделать?»
Казалось бы, вот – идеальная жена, но тут действовало то же правило кривой линии. Чтобы понять, что было дальше, можно не уподобляться школьникам, подсмотревшим ответ в конце задачника. Тот, кого считали хозяином в доме, стал гостем – не очень частым и не больно ожидаемым.
Впрочем, прежде чем подойти к этому итогу, надо еще о многом рассказать.
Перемена участи
Следует ненадолго вернуться назад. Как уже ясно, семья образцовая, что подтверждается таким документом1. Через пять лет после женитьбы на Марии Ивановне канцелярия оркестра потребовала у Матюшина разъяснений. Все же не у всех жены француженки, да еще австрийские подданные.
Спрашивали не прямо, но, судя по всему, были поняты. В ответе сообщалось, что Мария перешла в православие и стала Матюшиной. Чего не сделаешь ради семьи! Если они состоят в браке, у них все должно быть общее. Как вера, так и фамилия.
Тем удивительней измена профессии. Это же угроза всему, что создавалось столько лет! Мария согласилась с таким поворотом, но при этом думала: а что, если не получится? Наконец, он нарисует лошадь, а потом узнает, что в этом умении нет ничего особенного.
Посомневавшись, Мария все отлично придумала. Путь оказался короче, чем можно предположить. Так бывает в игре в шахматы. Достаточно сделать точный ход, и ты, считай, победил.
Художники редко выбираются на концерты, но у нее глаз-алмаз. Она углядела в зале академика живописи Крачковского. Если ему нравится, как Матюшин играет на скрипке, он не откажется посмотреть его рисунки.
Так она поступала каждый раз. Находила выход. Или подводила к нему мужа. Некоторое время он колебался, а потом признавал ее правоту.
Был ли он ей благодарен? Тем более что детей у нее не четверо, а пятеро. Хотя Михаил Васильевич и взрослый, но хлопот с ним не меньше, чем с маленькими.
Как положено ребенку (пусть даже пятому), Матюшин все время спорил. Наверное, у них с женой были хорошие минуты – ведь дети иначе не рождаются, – но чаще он был недоволен. Не раз говорил, что ощущает себя «холодным человеком» и счастья ей не принесет.
Хорошо, что Мария такая хозяйственная, но ему хотелось другого. Если опять вспомнить о прямой линии, тут все было слишком ровно. От жизни, как и от искусства, Матюшин ждал резких акцентов и поворотов.
Все же лучше не заноситься в далекие дали, а честно исполнять свои обязанности. Воспитывать детей, служить в оркестре. Делать все то, что уже неоднократно приносило ему успех.
Так будет двадцать, сто лет, но когда-нибудь закончится. На том свете тебя спросят: «Было ли у вас что-то яркое?» – и ты поймешь, что ничего. Все, как у всех: семья и работа. Ни на что больше времени не оставалось.
Достаточно того, что он и так многое пропустил. Например, слишком поздно пришел к рисованию. Все же сорок с небольшим – это не двадцать. Если бы музыкой и живописью Матюшин занялся одновременно, результат был бы другим.
Утешает то, что так не только у него. Русское искусство тоже запаздывает. Ему куда больше лет, а оно продолжает копировать себя. Какого художника ни возьми, он или передвижник, или – еще хуже! – академист.
Правда, появляется новая поросль. Их мало кто знает, да они еще не раскрылись, но это дело времени. Один из них – Михаил Васильевич. В оркестре его свобода ограничена композитором и дирижером, а у мольберта он сам по себе. Никто – даже старый Стасов или молодой Бенуа – не запретит ему рисовать так, как он считает правильным.
Ученик и учителя
В названии «Школа общества поощрения художеств» смущает слово «школа». Сразу возникает мысль о начальных классах и буквах алфавита. Тем более странным казался новый студент.
У сокурсников Матюшина едва пробиваются усы, а к нему обращаются по имени-отчеству. Одни иронизировали по этому поводу, а другие относились с почтением и одалживали деньги на обед.
Наверное, правильнее было бы одеваться попроще, но Михаил Васильевич решил выделиться. Завел брутальные усы, золотой перстень и трость. Поведение тоже было не рядовое. Обычно в студентах ценят послушание, но он не хотел быть, как другие.
Сперва Матюшин ходил на занятия к Крачковскому, а затем стал заглядывать к Ционглинскому. Менять учителя, правда, не спешил. Если однажды тебя назовут перебежчиком, то ты так и останешься с этим клеймом.
Кстати, Мария Ивановна тоже просила не торопиться. Все же это она нашла Крачковского, а он отнесся к ней внимательно. Долго смотрел работы, – то издалека, то приближая к глазам, – а затем сказал: беру!
Да и можно ли изменять своему первому учителю? Это же все равно, что неверность в браке.
О том, чтобы изменить семье, он пока не думает, а предпочтения у него меняются. Если позволено выбирать между музыкой и живописью, то и учителей у него может быть несколько. Правда, объявлять об этом необязательно. Лучше пойти не прямо, а в обход.
На Литейном Ционглинский вел частную студию. В начале дня он подчинялся руководству Школы, а в конце был первым лицом. Бывало, выслушает то, что от него требуют утром, а про себя думает: вечером все сделаю наоборот.
Ян Францевич хотя и преподавал, но разговаривать не любил. Зачем что-то декларировать, если за тебя это делает искусство? Любая его работа подтверждала, что он видел себя импрессионистом. Те, кто еще не привык к этому слову, называли его «впечатлистом».
Вот достойная цель. Воспитывать новое поколение – и учиться самому. Не только запечатлевать интересные виды, но стараться смотреть больше. Где только ему не довелось побывать! Даже там, где не ступала нога русского художника.
Вернется, к примеру, из Африки, соберет друзей. Они рассказывают, сколько продали картин и в каких пирушках поучаствовали, а он – о том, как охотился на львов и совершал восхождения на гору.
При этом никакого «делай, как я». Зачем домоседа звать в дорогу, а кубиста агитировать за импрессионизм? Не лучше ли учить не готовым приемам, а собственно творчеству – умению делать что-то свое?
Ционглинский такой же перебежчик, как Матюшин. До Петербурга он учился в Варшаве на медицинском, а потом на физико-математическом факультетах. За этой переменой последовала еще одна. Преподаватели в Академии утверждали, что нам не по пути с французами, а он их не послушал.
Еще учителя сближает с учеником то, что они оба музыканты. Правда, Ян Францевич не метил ни в первые скрипки, ни даже в последние пианисты. Устанет от того, что его не слышат, и садится за фортепиано. Шопен возвращал его в тот город, в котором он начинал рисовать, но еще не думал преподавать.
Так жил Ционглинский. Путешествовал и музицировал. В живописи тоже открывал что-то вроде музыки и новых путей. Так что в любом своем качестве он делал примерно одно.
Если живопись – это музыка и дорога, то главное не сюжет, а все то же впечатление. Даже чистый лист заставляет тебя трепетать. На нем еще ничего нет, но ты уже что-то предчувствуешь. «Поймите, какая красота – белая поверхность, – говорил он. – Вы должны сделать так, чтобы она стала еще красивее».
Умер Ционглинский так, как и надлежит серьезному живописцу. Защищая то, что он считал самым важным в искусстве.
Среди его воспитанников был один сезаннист. В честь своего кумира молодой человек даже отрастил бороду. Как-то Ян Францевич заговорил с ним о кубизме. Сначала ученик возражал, но вскоре аргументы у него закончились. Тогда он взял первый попавшийся холст и надел учителю на голову.
Студийца увезли в лечебницу, а Ционглинский слег в постель и через несколько месяцев умер. Больно серьезной была обида. Пострадавшая картина была импрессионистической, а это обижало не только его, но и любимых мастеров.
Гуро, Матюшин и выбор пути
Тепло… холодно… горячо… Так и будем двигаться. Начнем с того, что среди студийцев только Матюшин и Гуро чувствовали себя независимо. Один состоял на службе в оркестре, а у другой отец был генералом.
Генерал Гуро был настолько нужен начальству, что квартиру ему предоставили в Генеральном штабе. Путь из дома до кабинета занимал минут десять. Тут его ожидала никогда не уменьшавшаяся гора бумаг. На каждой следовало написать: «Отказать» или «Разрешить».
На службе Генрих Степанович был строг и требователен, а дома добр и снисходителен. Возможность исполнять прихоти дочерей он считал своей привилегией.
Можно вспомнить и других родственников Елены. Никто не нажил богатств, но жизнь у всех была насыщенная. Жаль, никто о себе не написал. Слишком много у каждого было дел.
Дед со стороны отца, Этьен Гуро, был сержантом наполеоновской армии. В отличие от своего императора он не бежал из России, а поселился в ней навсегда. Назвался Степаном Андреевичем, но остался французом – преподавал язык своей родины и составлял французские словари.
Второй дед, Михаил Борисович Чистяков, редактировал «Журнал для детей», сочинял сказки и стихи. Не чуждалась литературы и его жена Софья Афанасьевна. Так что первые книги, прочитанные внучкой, написали самые близкие ей люди.
У всех были свои занятия, но каждый имел в виду высшую цель. Степан Андреевич не изменил родному языку, а Михаил Борисович – детям. Генрих Степанович визировал рапорты и донесения и этим способствовал порядку в армии.
Предки Гуро известны до четвертого колена, а у Матюшина близкие наперечет. Какой может быть род, если его мать начинала в крепостном звании? Правда, род был у отца, но отца он почти не знал. Существовал кто-то сильно пьющий – принесет сласти, а потом пропадает надолго.
Причастность родственников к литературе еще до рождения определила участь Гуро. Матюшину приходилось рассчитывать только на себя. Вот почему его путь – словно в подтверждение теории о кривой линии – оказался непоследовательным.
Ранние годы прошли в Нижнем Новгороде. Если бы тогда ему сказали, что где-то есть искусство, он бы пожал плечами. В жизни хватало разного, но музыки и рисования в ней не было совсем.
Рядом недоедал и подворовывал Алеша Пешков. Вряд ли будущий писатель пересекался с будущим художником, но среда у них была одна. Улица научила их не сдаваться. Лупят тебя, а ты так же сильно бьешь в ответ.
В детстве Михаила подстерегал первый выбор. Избери он неправильную дорогу, не было бы в его жизни скрипки с мольбертом.
Как положено «типам Горького», Матюшины пьянствовали. Лет в семь Михаил почувствовал себя взрослым, и тоже стал прикладываться. Делал он это не без расчета на впечатление. Особый шик заключался в том, что пил он не дома, а в кабаке.
Кабатчик почти плакал, но наливал. Во-первых, заплачено, а во-вторых, это не Общество трезвости, и не ему перевоспитывать граждан.
Как удалось бросить? Скорее всего, градус искусства оказался сильнее. К тому же к этому времени у него появилось чувство пути. Он знал, что, если оно что-то подсказывает, ему не надо перечить.
Сестра отца, актриса Сабурова, звала в Петербург, но мать воспротивилась. Уж как непросто ей было бегать с работы на работу, да еще приглядывать за шестью детьми, но она не хотела торопить события.
Через многие годы Михаил Васильевич признал, что все было правильно. Не хорошо и не плохо, а так, как должно быть. «…Я радуюсь… решению моей матери, – писал он. – Я бы ни за что на свете не поменялся ни с кем жизнью».
Окажись он в Петербурге раньше, все сложилось бы иначе. Без Придворного оркестра, женитьбы на Марии Ивановне и встречи с Гуро. Звали бы его так же, но это была бы другая судьба.
Цветаева писала, что есть художники с историей и художники без истории: «Первых можно представить, как круг, а вторых, как пущенную стрелу». Иначе говоря, одни самодостаточны, замкнуты на себе, а другие открыты всем ветрам.
Матюшин был «художником с историей». До знакомства с Гуро он уже многое пережил. В отличие от него Елена обошлась без «истории». Главные для нее события происходили на глубине, у мольберта и за письменным столом.
Неслучайно Михаил Васильевич стал не солистом, а музыкантом в оркестре. Он любил шум и разноголосицу. Елена была тишайшая. Представьте, что в большую компанию чудом попало небесное существо. Все перебивают друг друга, а она молчит. Сядет в дальний угол, и весь вечер его не покидает.
Как уже понятно, до поры до времени в жизни Матюшина шума было немного. Если не считать вечно кричащих детей. Казалось, теперь все так и будет: домашние заботы, походы семьей в гости, радость от того, что Коля подрос, а Маша стала вышивать.
Интересно, как это тогда называлось? А что, если тоже текучкой? Мелкие события проходили, как рябь по поверхности, но, по сути, ничего не менялось. Все ограничивалось оркестром, в котором он играл на скрипке, и домом, где он играл с детьми.
Живешь спокойно, хорошо ешь, много спишь, как вдруг все переворачивается. Как говорится, «бес в ребро». Сам себе удивляешься: странно в его возрасте стать художником, но еще рискованней влюбиться в Елену Гуро.
Что-то такое он чувствовал у мольберта. Все вроде получилось, но не хватает акцента. Хотя бы красной капельки в центре холста. Долго не понимаешь, зачем она нужна, а потом смотришь: а ведь это точка! Не в том смысле, в котором запятая, а в том, в котором незаконченное становится целым.
О свойствах зрения
Есть практики, а есть теоретики. В Матюшине это соединялось. По крайней мере, его теории были не бесплодны. Каждый раз это был повод для новых картин.
Для Серебряного века в этом нет ничего необычного. Сколько раз в эту эпоху сперва возникало предположение, а затем все происходило как по писаному.
Рассказывая о разговоре Гуро с Блоком, Михаил Васильевич написал, что поэт «не мог долго оторваться от Лены». Такая же мера внимания и погружения, с его точки зрения, отличала других гениев. Бетховен «сливался… с воздухом, ветром», а Лермонтов «напитывается… пространством».
Если ты отдаешь себя кому-то или чему-то другому, то какое может быть ячество? Вот чем Матюшин отличался от друзей-футуристов. Художник для него – это тот, кто способен отречься от себя.
Хорошо, что великие с ним заодно. Смотрят в оба, впитывают, проникают… Как бы он радовался, если бы его позиции разделяли не только люди с портретов, но и кто-то близкий.
Наконец это произошло. Матюшин открыл дверь в учебную мастерскую и увидел маленькую тихую барышню. Он бы прошел мимо, если бы не ее глаза. Она не просто смотрела, а превращалась в предмет своего интереса. Присваивала его своим зрением.
Вспоминаю, как я впервые ее увидел, «нашел» ее, – рассказывает Матюшин. – В тот день работающих было мало, и вдруг я увидел маленькое существо самой скромной внешности. Лицо ее было незабываемо. Елена Гуро рисовала «гения» (с гипса). Я еще никогда не видел такого соединения творящего с изображаемым. В ее лице был вихрь напряжения, оно сияло чистотой отданности искусству. Закрывая дверь, я мысленно порицал себя за то, что не сразу обратил на нее внимание. С тех пор я постоянно наблюдал за ней и всегда поражался напряжению ее ищущих глаз.
Что это было? Наверное, «любовь с первого взгляда». На сей раз это не преувеличение и метафора, а ровно то, что случилось. Она смотрела – и этот взгляд решил все.
Матюшин тоже глядел во все глаза. Гуро поглощала «гения», а он не отводил взгляд от незнакомой девушки. В эту минуту они уже были вместе. Все, что случится после, к этому ощущению прилагалось.
Помните, как в знаменитом романе? «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!» С этого момента для него закончилась спокойная жизнь. Только что он не строил никаких планов, а вдруг понял, что выхода у него нет.
Случившемуся Матюшин дважды подвел итог. В дневнике он написал, что ее дар проникаться увиденным имеет отношение не только к искусству. «Это было золото моей жизни, мой сладкий сон, мои единые мечты всей моей жизни, и я этого не знал еще тогда. Эту прелестную мечту сменила чувственная». Последняя фраза в этой записи подчеркнута жирной чертой.
Второе объяснение более сложное. Чтобы это событие стало понятней, ему пришлось придумать новую меру времени:
В моей биографии лежит совершенно новое понятие о встрече художника с чем-либо, впервые поражающем его воображение, – писал он. – Эти моменты, останавливающие целиком на себе внимание художника, я называю «шоками».
Значит, судьба движется невидимыми посторонним событиями? О том, что с ним произошло, пока не знала даже Елена. Ведь он с ней еще не познакомился. Да и потом долго наблюдал издалека.
Позже Матюшин увидит ее рисунки и прочтет рассказы. Впрочем, это было уже не так важно. Та, кто так смотрит, непременно создаст что-то значительное. Возможно, она сравнится с теми, кому дано «сливаться… с воздухом» и «напитываться… пространством».
Сейчас самое время перевести взгляд от Елены на Марию. Как сказано, первая жена была добрая и хозяйственная, но зрение имела обычное. Чрезмерная пристальность хорошей хозяйке вредна. Если она будет вглядываться, то ничего не успеет.
Михаил Васильевич уважал Марию за преданность и корил за то, что, кроме дома, ее ничто не интересует. Представьте, она не знает о четвертом измерении! Впрочем, зачем ей четвертое, когда столько сил уходит на первые три?
Со временем его теория оформилась. В ее основании лежали «взгляд» и «шок». С помощью этих понятий объяснялись не только любовь и обретение, но суть нового искусства.
От мыслей о взгляде – прямой путь к «расширенному смотрению». Эта идея предполагала, что художник видит все. То, что впереди, сзади, слева и справа. На его холстах мир предстает разъятым – и собирающимся воедино. Что-то такое делает «шок» в судьбе человека. Он приводит к разрушениям – и просветлениям, переворачивает жизнь – и вносит в нее смысл.
Сосредоточенность и рассеянность, поражение и победа
Матюшин столько размышлял на эти темы, – и вдруг читает, что «видимый мир… представляет собой нечто весьма малое, быть может, даже несуществующее по сравнению с огромным невидимым миром». Выходит, незнакомый ему Петр Успенский прочел его мысли? Скорее, похожие идеи приходят в голову сразу нескольким людям.
Наверное, кто-то из них был первым, но это не так важно. Главное, что теперь каждый не сам по себе.
Представляешь, как московский философ Петр Успенский едет из Москвы в Петербург. За чаем с пирогами они спорят о том, чего вроде нет, а на самом деле есть. Пытаются навести мосты между «четвертым измерением» и «расширенным смотрением».
К этим терминам мы еще вернемся, а пока упомянем, что у художника есть преимущество перед философом. То, о чем один догадывается, другой может увидеть и нарисовать. Для большей ясности Матюшин придумал термин «метапредмет». Так именуется «сверхтело, растущее в пространстве другого измерения».
Как говорится – два пишем, три в уме. Рисуем относящееся к трем измерениям, но подразумеваем четвертое. Так что не обманемся сходством. Предмет может быть похож на настоящий, но он уже принадлежит искусству, а значит, в реальности его нет.
Матюшин был куда ближе к материальному, чем Гуро. Он ездил на мотоцикле, умел столярничать. При этом понимал, что не всякий вопрос должен иметь ответ. В этом отличие школьной задачки от того, что можно назвать метазагадкой.
Если есть «метапредмет» и «метазагадка», то есть и «метавзгляд». Одни смотрят, другие уясняют. Видят не первое, не второе, а последнее. Поэтому отношения Елены с бытом не складывались. Ведь для того чтобы понять главное, все прочее следует пропустить.
Особенно досаждало Гуро железное и стеклянное. Прямо никакой управы! Посуда предательски билась, часы терялись, а затем обнаруживались в самых неожиданных местах.
Почему-то вспоминаются лебеди. На земле они забавно переваливаются и вытягивают шеи. Взмах крыльев делает их красавцами и покорителями стихии.
Так, Елена за работой чувствовала себя уверенно, а в жизни терялась. Увлечется ползущим жуком и забудет, о чем думала. Или настолько уйдет в свои мысли, что ничто другое ее не будет интересовать.
Ее подруга Ольга не без пристрастности отмечала такие промахи. При этом не забывала сказать, что все могло закончиться совсем плохо, если бы ее не было рядом.
Подымаясь на дюну, я увидела под ветвистой сосной Елену Гуро, в белом платье и полотняном картузике с большим козырьком. Она то опускалась на колени, то вставала, медленно делала несколько шагов, стараясь разглядеть что-то.
«Что она тут колдует?» – подумала я.
Гуро направилась ко мне.
– Опять ключ потеряла. Вечно со мной так получается! Давно уже ищу и, должно быть, только глубже в песок заталкиваю. У тебя, Олли, глаза зоркие. Поищи, пожалуйста.
Гуро назвала подругу лучиком. Так и видишь, как лучик перескакивает с одного на другое и находит то, что искал. На сей раз это не понадобилось. Ключ висел у нее на шее, да еще подпрыгивал при каждом шаге, словно говорил: «Я здесь!»
Другой случай еще выразительней. Как-то Елена опрокинула чашку с кофе. Любая хозяйка пошла бы за тряпкой, а она замерла, как перед начатым холстом. Потом изменила пальцем контур лужицы. Всего несколько уточнений – и темное пятно превратилось в картину.
Посмотри, Мика, вот мостик, а здесь – цветущая яблоня, – передает ее слова Ольга. – А это длинноногий рыцарь, он собирается вскочить на коня!
Скатерть отправили в стирку, а значит, лужа недолго имела отношение к искусству. Вряд ли это огорчило Гуро. Даже на минуту заглянуть в вечность – это, согласитесь, немало.
Вообще к вещам она была снисходительна. Сейчас они валятся из рук, а потом проявят радушие. Чуть ли не поприветствуют того, кому они интересны. Именно так повел себя серебряный крестик. Его уже считали потерянным, как вдруг, по словам одной знакомой Елены, он «…спрыгивает с высоты гардеробного шкафа… и падает почти к моим ногам».
Громозова верила в причинно-следственные связи, в то, что называют петелькой-крючочком, а выходит, есть иная логика. Такие мысли она выбрасывала из головы. Если о чем-то не думать, может показаться, что этого нет.
Летом на природе вообще не до размышлений. Тяжелая одежда отправлена на антресоли и заменена на легкие сарафаны. Всякая серьезность вызывает смешки. Впрочем, один поступок был явно не по погоде. Казалось, бедная девушка из провинции что-то доказывает пресыщенной генеральской дочке.
Дело в том, что стирала Ольга. Сама вызвалась это сделать. Сперва хозяева не придали этому значения, а когда поняли, что это не просто так, скатерть сушилась во дворе.
Громозова хотела показать Елене, чем они отличаются друг от друга. В то время как одна придумывает и воображает, другая спасает от ее фантазий их семейный быт.
Другие черты Елены
Ко всему прочему прибавим ребячливость Гуро. Хотя она была на восемь лет старше Ольги, но в этом союзе чувствовала себя младшей.
Как Елена реагировала на поучения подруги? Казалось бы, ей следует посмотреть «словно с другого берега», но она терялась и опускала глаза.
Да и что ей было сказать? Вот на бумаге она могла быть откровенной. Особенно если писала от другого – да еще мужского – лица.
Я очень даже неловок, я – трус. Я вчера испугался человека, которого не уважаю. Я из трусости не могу выучиться на велосипеде… Я вчера доброй даме, которая дала мне молока и бисквитов, не решился признаться, что я – пишу декадентские стихи, из мучительного страха, – что она спросит меня, где меня печатают? И вот сказал, что главное призванье моей жизни с увлеченьем давать уроки. Сегодня я от стыда и раскаяния – колочу себя…
Примечателен список опасностей. От детских (боюсь учиться ездить на велосипеде) до еще более детских (стихи пишу, но не признаюсь, что их не печатают). Не случайно в этот ряд попали бисквиты. Если ребенку дать что-то вкусное, он забывает о своих страхах.
Елена всегда занимала сторону маленьких. Да и она сама, как уже сказано, не очень от них отличалась. Взрослые в ее рассказах – это те, кто сам не фантазирует и не советует это делать другим.
– Ах, отстань, не все ли равно. Это сказка, Леля, Дон Кихота не было никогда.
– А зачем же написали книжечку тогда? Мама, неужели в книжечке налгали?
– Ты мешаешь мне шить, пошла спать.
– Если книжка лжет, значит, книжка злая. Доброму Дон Кихоту худо в ней.
А он стал живой, он ко мне приходил вчера, сел на кроватку, повздыхал и ушел…
Был такой длинный, едва ногами плел…
– Леля, смотри, я тебя накажу, я не терплю бессвязную болтовню.
То, что Леля и есть Елена, подтверждает другой рассказ. В нем все это она повторила от своего имени. Различия незначительные. Тут – «ногами плел», а там – «дрыгал». Еще не пропустим слово «несомненно». Все, что говорит юная упрямица, оно вмещает в себя.
Несомненно, когда рыцарь печального образа летел с крыла мельницы – он очень обидно и унизительно дрыгал ногами в воздухе и когда упал и разбился, – был очень одинок.
Не зря «хитроумный идальго» стал героем Гуро. Оба не скрывали и даже демонстрировали свои странности. Легко представить, как рыцарь ищет ключи или разливает кофе. Не потому ли его – длинноногого, как журавль, – она увидела в луже на столе?
Вообще «журавль» и «Дон Кихот» – любимые герои Гуро и Матюшина. Возможно даже, это один персонаж. Так что издательство могло быть названо не в честь птицы, а в честь странствующего рыцаря.
Остается понять, почему «плел» она заменила на «дрыгал». Это объясняет сюита Матюшина «Дон Кихот». В ней нет плетения и ровной вязи, а есть синкопы и контрасты. Прямо-таки видишь рыцаря – он движется не плавно, а резко, не робко, а победительно.
Прежде говорилось, что между рассеянностью и сосредоточенностью нет противоречия. Затем мы увидели связь между странностью и вызовом, поражением и победой. Сделав эти выводы, перейдем к следующей главе.
Глава третья
Громозова – зритель и персонаж
Ольга тоже уносилась в эмпиреи. Ей грезилось не только будущее человечества, но и собственное. Впрочем, без того было ясно, что возможны варианты.
Вот, например, вариант Матюшина. Нельзя не восхититься тем, как он работает у мольберта, или – весь как божия гроза! – едет на мотоцикле. Вряд ли тут ей что-то обломится. Уж очень они с Еленой подходят друг другу.
Зато в компании футуристов у нее есть перспективы. Кто-то посетовал на то, что они перестали ругаться. Как-то это не по-футуристически! Если все за, кто-то должен быть против. Эта роль предназначалась Громозовой.
Она была вроде как народный глас. От имени своего родного города Слободского в Вятской губернии морщила лоб и раздраженно взмахивала руками.
Ольга выступала бы еще резче, если бы она не перепечатывала их тексты. Все же машинистка – своего рода соавтор. К тому же неловко брать деньги у тех, кого ты только что критиковал.
На людях приходится себя сдерживать, а наедине говоришь все. Прямо заявляешь, что знакомые слова тонут среди «зовав» и «минав». Почему бы вам, Виктор, не почитать Плеханова? Какие сложные вещи он объясняет, а никакого тумана! Да и чем загадочное «крылышкуя» лучше понятного «летит»?
Эти разговоры ничем не заканчивались. Хлебников улыбался чему-то, находящемуся за пределами комнаты. В конце концов, она решила представить, что это тарабарский язык. Нужно не разбираться, а печатать букву за буквой.
Вечной спорщице это непросто, но зато все довольны. К тому же дело не только в том, что пишут футуристы. Есть еще что-то, что ее в них привлекает.
Обычно в поклонниках у литераторов читатели, но Громозова – больше зритель. Впрочем, они сами видят себя актерами. Иначе как объяснить желтую кофту и редиску в верхнем кармане пиджака?
Пусть они повторяются, но Чаплин тоже все время попадал впросак, и это никогда не надоедало.
Легко представить Чарли в роли футуриста. О рассеянности Гуро говорилось, но Хлебников от нее не отставал. Как-то вместо булки он засунул в рот коробок спичек. Если бы это проделывал маленький человек с усиками, он бы округлял глаза и взмахивал тростью.
Иногда футуристы перебирали. Даже для Чаплина это было бы слишком. Городецкий читал стихи на арене цирка, сидя на лошади, а Бурлюк красил нос серебрянкой и писал фамилию на лбу.
Это обозначало, что к традиционному образу русского поэта – задумчивый взгляд и перо в руке, ямбы и хореи – эта компания не имеет отношения.
Громозова, как уже сказано, наблюдала. Мол, что еще они учудят? Она бы и дальше оставалась свидетелем, как вдруг стало не до того. После того как заболела Гуро, самые из них безбашенные сразу посерьезнели.
Вы не забыли, что Ольга хотела стать врачом? В институт она не поступила, но реакции у нее были, как у настоящей медички. Стоило ей услышать, что кому-то плохо, и она сразу спешила на помощь.
Это свойство связано не только с медициной. Есть такие люди, к которым все обращаются. Пусть даже она не поможет, но хотя бы скажет несколько утешительных слов.
Вскоре подопечных у нее станет больше, о чем мы узнаем из второй части, а пока Ольга существует в этом кругу. За него переживает и в каком-то смысле несет ответственность.
Елене в этом смысле принадлежало особое место. Она не только автор любимых книг, но родной человек. Тут никак нельзя оставаться зрителем. Следовало встать со своего места в зале, пробраться по ряду и оказаться среди действующих лиц.
Последняя поездка в Уусиккирко
В жизни наших героев много разных путей, но все они приводят к апрелю тринадцатого года. В этом месяце дача в Уусиккирко жила по расписанию процедур и приема лекарств.
Когда Гуро приезжала в эти места, у нее сразу прибавлялись силы. Вот и сейчас у них с Матюшиным был такой план. Если лекарства не помогут, можно прибегнуть к помощи леса и тающего снега.
Конечно, в этом решении таилась опасность. В городе есть врачи, а тут на много верст никого. Если природа не справится, то больше обратиться не к кому.
Как бы то ни было, обустроили для больной комнату и стали ждать чуда. Елене становилось только хуже. Может, дело в том, что целебный воздух перебивал запах лекарств?
Оставалось понадеяться на тишину. В городе постоянно что-то происходит, а тут новости сводятся к переменам погоды. Начинаешь верить в то, что, если дождь сменяется солнцем, а холод теплом, любые неприятности не навсегда.
Теперь о многом ей приходилось догадываться. Не только о чистом воздухе, но о лесе рядом с их дачей.
Когда Елена бывала в лесу, ей вспоминался Рембрандт. На его картинах время вечно длящееся, а потому его можно уподобить пространству. Тут не дни и недели, а тьма и свет. Да и возраст деревьев примерно такой, как у рембрандтовских стариков. Он измеряется не годами, а веками.
В эти часы Гуро убеждалась, что в реальности больше искусства. Такое соотношение было и в ее жизни. Когда она поняла, что сына у нее не будет, ей ничего не оставалось, как его придумать.
В своих текстах она называет его по-разному. Словно у него, как у всего, что сочинено, есть черновики и варианты. В ее прозе и стихах юноша предстает как Вильгельм Нотенберг, барон фон Кранц, принц Гильом и Бедный рыцарь.
Так у Елены появилась еще одна биография. Сына не существовало, но его путь она прошла до конца. Когда сюжет был исчерпан, назначила ему последние сроки и проводила в двух стихотворениях.
Существуют такие литературоцентричные авторы. Они состоят из прочитанных или написанных ими книг. Вот что значит строчка: «…и не надо жалеть о нем». Это говорит не мать Вильгельма, а его автор. Приступая к новому замыслу, она прощается с прошлой работой.
За то время, что выпало Вильгельму-Гильому, он вытянулся, возмужал, стал похож, как говорила Гуро, на ученика Матюшина Бориса Эндера. Ничто не предвещало ухода. Что это было – болезнь, гибель в бою, упавший кирпич? Скорее всего, Елена понимала, что умирает, а без нее он точно не сможет жить.
Гуро болеет
У одного жизнь длинная, как роман, а у другого короткая, как рассказ. Страничка-другая – и все кончено. Можно только удивляться, что ее любимый жанр оказался судьбой.
Прежде она не разделяла себя и свои тексты. Все, что с ней происходило, отражалось в рисунках и записях. Сейчас ей хотелось многое скрыть. Уж больно все по-настоящему – и боли, и кошмары, и кровь на подушке.
Рядом с медицинскими склянками лежит тетрадка. Кажется, решается вопрос: чья возьмет? Уж как она сопротивляется, но страдания оказываются сильнее.
У Елены и прежде случались приступы, но сейчас все было иначе. Ведь приступ – это то, что проходит. Нынешняя боль могла быть глуше или острее, но никуда не уходила.
Не хотелось никого видеть. Особенно футуристов. Они ведут себя, как на сцене: громко читают стихи и о них говорят. Вряд ли ей по силам этот напор. Да и врача надо слушаться. Он прописал тишину и присутствие рядом самых близких людей.
Елена зовет мужа или сестру, и кто-то из них появляется. Так и помогают в четыре руки. Все это напоминает детство. Когда в три года она заболела, их квартира сосредоточилась на лекарствах, сползшем одеяле и сказке перед сном.
Это родственники, а что остальные? Их всех следовало заменить Громозовой. Все же, в отличие от друзей-поэтов, она имела отношение к жизни, а не только к литерам в наборной кассе.
Через что только не прошла ее подруга! Книжная лавка, подполье, работа машинисткой… Все это перемешалось, и на свет явился «пушковатый скромный луч мой – Олли».
Разберем эту фразу на слова. «Луч» говорит о ясности и прямизне, «пушковатый» – о тепле и мягкости. «Мой» подтверждает, что она воспринимала Ольгу как часть себя.
После первого письма Громозовой показалось, что замысел удался. Вместе с природой на помощь пришел деревянный дом. Поучаствовали не только стены, но даже половик.
Боже, как здесь хорошо! Как в сказке!.. Мне все понравилось: стены бревенчатые, а потолок – медовый. Я давно о таком мечтала. И узенькая полоска половика, и только что выкрашенный пол, и три большие светлые комнаты. Я выбрала угловую, с окнами на юг и на запад.
Я буду здесь здорова. Я должна быть здорова. Правда, Олли?
Вот такая эта барышня. Ее сверстницы заглядывались на серьги и кольца, а она – на потолок. Правда, потолок был вроде как медом намазан. Цвет и запах свежего дерева обещали спасение.
О болезни сказано в конце. Сперва Елена говорит, сколько у нее сторонников. Потолок, пол, половик. Это не считая мужа и сестры. Если все, что есть в доме, объединится, она должна поправиться.
Только Ольга порадовалась, что болезнь отступает, как пришла телеграмма.
Лене очень плохо, – писала Екатерина Гуро. – Хочет вас видеть. Приезжайте немедленно.
Не станем останавливаться на том, как Громозова добиралась. Она и сама этого не заметила. Если сказано «немедленно», думаешь только о том, чтобы успеть.
Наконец, Громозова в Уусиккирко. В доме темно и пахнет лекарствами. Михаил Васильевич и Катерина побледнели и исхудали, но делают вид, что надежда есть.
Глава четвертая
Придворный оркестр
В кино есть такой прием. Называется «А в это время…». Монтаж переносит нас в новое пространство, и мы видим ситуацию объемно – с одной и с другой стороны.
Хотя основные события происходили в Уусиккирко, но Петербург тоже поучаствовал. Хотя бы потому, что всякую отлучку Матюшин согласовывал с канцелярией.
Не зря оркестр прежде подчинялся военному ведомству. Скрипки и валторны не стреляли, но в строгости не уступали армейским. Отпуск запрещался, а работа на стороне приравнивалась к сдаче врагу.
Жили музыканты в казармах Конюшенного ведомства. Все подчинялось одному. В спальне стояли в ряд железные кровати, а прямо за стенкой располагался концертный зал.
На фото коронования императора Николая оркестранты в сборе. Мундиры делают их похожими друг на друга. Различаются они усами, бородами и количеством орденов. Одни получены за служение искусству, а другие – их больше! – за храбрость в боях.
В одном документе руководитель оркестра барон Штакельберг назван «начальником в строевом и хозяйственном отношении». Значит, оркестр – это не только хозяйство, но и строй. Действительно, музыканты на сцене выглядели красиво, как войска на построении.
К 1897 году оркестр переподчинили Министерству двора. Общее руководство связало его с Ботаническим садом, театрами и дворцовой полицией. Учреждения эти очень разные, но без каждого из них не представить географию жизни царской семьи.
Многое осталось, как прежде. Штакельберг не только назывался начальником, но продолжал расти в чинах. Вот он на фотографии – грозный, но справедливый – в форме генерал-лейтенанта. Ноты у него в руках подтверждают, что он всегда помнит о службе.
Со временем военного становилось меньше, а художественного больше. Впрочем, единообразие сохранялось. Правда, мундиры заменили костюмами егерей времен Елизаветы Петровны. Так что войско было скорее потешное.
Потешное – значит, предполагающее перевоплощение. Надел мундир – и принял условия игры. Снял – и опять сам по себе. Матюшина такие метаморфозы расстраивали. Почему другие могут быть собой всегда, а он – время от времени?
После того как Матюшин почувствовал себя художником, оркестр стал его тяготить. Впрочем, сразу уходить не хотелось. После двадцати пяти лет службы ему полагалась пенсия. Следовало немного потерпеть – и он больше не будет раздваиваться.
Все это подтверждала бумага. На языке, принятом во всех канцеляриях, в ней разъяснялось: «…в сентябре сего года вы окончите службу в Придворном оркестре».
Михаил Васильевич не только рассчитывал на освобождение, но к нему готовился. Издательство «Журавль» выпустило книги жены и друзей. Это были первые шаги в новую жизнь, которую он посвятит футуризму и футуристам.
Не пора ли вступить медным? – ими по праву гордился Придворный оркестр. Вот они заиграли туш в честь предстоящих перемен, но как-то враз замолчали.
Даже громкоголосые инструменты обладают тонкой организацией. Иногда они чувствительней скрипок. Впрочем, в сочувствии Матюшину объединились все. Когда кто-то хотел его о чем-то спросить, ему говорили: лучше не надо, Елена Генриховна тяжело больна.
Матюшин обращается в канцелярию
Сперва проситель получает разрешение. Причем не устное, а письменное. Затем набирается терпения. Наконец, в правом углу листа появляется закорючка. Значит, тебя заметили и удостоили резолюцией.
Матюшин никак не мог взять этого в толк. Почему его прошения движутся не экспрессом, а обычной скоростью? Называется это «бумагооборот».
Ситуацию осложнял его характер. Зачем обращаться в инстанцию, практически не имеющую лица, со своего рода письмом? Впрочем, по-другому он не умеет. Даже рисуя, обращается. В цветке или дереве угадывает нечто живое.
За годы, проведенные за мольбертом, ему стало ясно, что живопись дышит. Сочетания красок – все равно что вдох и выдох, понижение и повышение голоса. Может показаться, что картина сама себя спрашивает и себе отвечает.
Чтобы написать заявление, об этом надо забыть. На конкретный вопрос получаешь конкретный ответ. При этом обе стороны должны быть непроницаемы. Словно диалог ведут не люди, а шкафы или стулья.
Матюшин никак не мог отстраниться. Как он ни старался себя сдерживать, но за текстом слышалось: «После того как заболела моя Лена, я уже не живу».
Что будет дальше, он только догадывается, но «Дело артиста Михаила Матюшина» знает все. Оно ясно и недвусмысленно говорит о финале. Даже не об одном, а о нескольких.
Начинается папка с паспорта Марии, а заканчивается паспортом Елены. Это вроде как пролог и эпилог. Обе его жены скончались, и их документы разорваны надвое.
В промежутке – его нынешняя жизнь. Прямо-таки видишь, как он мечется между оркестром и женой. Это вам не то же, что выбирать между музыкой и живописью. Тут не две возможности, а необходимость и совершенная невозможность.
Матюшин просит у начальства отпуск на десять месяцев, а значит, все еще надеется. В то же время сомневается. Иначе он бы не писал о «крайне обострившейся болезни» и «настоятельности быстрого отъезда».
Его высокопревосходительству г-ну Старшему Капельмейстеру
Придвор. орк. Гуго Ивановичу Варлиху.
Ввиду крайне обострившейся болезни жены моей и настоятельности быстрого отъезда из С.Петерб., предписанного врачом г-ном Брунсом и г-ном Штернбергом и удостоверенном нашим врачом г-ном Булавинцевым; покорнейше прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать перед Его превосходительством Начальником оркестра необходимый мне, для сопровождения моей жены и пребывания с ней, десятимесячный отпуск от самого ближайшего срока.
5 апр. 1913
С истинным почтением
арт. Пр. орк. Мих. Вас. Матюшин
На другой стороне листа это комментирует доктор М. Булавинцев. Да, подтверждает он, все так. Может, даже хуже, чем думает муж.
Честь имею донести Вашему превосходительству, что жена артиста Матюшина больна злокачественной формой малокровия и быстро прогрессирующей ввиду тяжелого положения необходимо пребывание за городом на свежем воздухе и усиленное лечение и питание общее состояние настолько тяжелое что за ней требуется усиленный внимательный и постоянный уход.
Доктор пишет одно, а думает о другом. Уж очень ему хочется продлить жизнь пациентки. Поэтому, вопреки печальному итогу, фраза продолжается. Не считается с тем, сколько раз следовало поставить точку.
Одно дело надежды, а другое – обязанности. Доктор сделает все, что в его силах, а если не выйдет, подготовит родственников к ее уходу. Об этом говорит заключение. О «лечении» в нем написано раз, а «усиленный» повторено дважды. Это значит, что микстуры важны, но поможет только покой.
Гуго Варлих все так и понял. Все же у него музыкальный слух, а слух – это чутье. Прибавьте сердечность, без которой не сыграешь Рахманинова и Скрябина.
Концертмейстер не пропустил просьбы о девяти месяцах. Какие такие сроки при этом диагнозе! Посомневавшись, он опять доверился слуху. Подумал, что это не в его власти. У него нет возражений, а уж как оно будет, решать не ему.
Когда Гуро вскоре умерла, стало ясно, что еще хотел сказать доктор. Он понимал, что это не отъезд, а побег. Пациентка и ее муж хотели выйти из круга сочувствующих и остаться наедине с неизбежным.
Глава пятая
Гуро умирает
Для музыканта нет пространства, а есть только время. Зато живописцу небезразлично место действия. Даже если речь о портрете. Человека на первом плане он должен соотнести с фоном.
В данном случае музыканту помогал художник. Первый не думал об обстановке, а второй все замечал. Не пропустил закрытых штор и теней по стенам… В комнате Елены весь день сумрачно. Может показаться, что время остановилось.
Год назад Гуро тоже приезжала в Уусиккирко. В это время начались ее приступы, и она слегла. Матюшин раздвинул шторы на веранде, и из окон хлынул свет. Он был такой силы, что в нем растворились лицо и подушка.
Вспоминал ли Бенедикт Лившиц эту картину, когда описывал «излучавшуюся на все окружающее, умиротворенную прозрачность человека, уже сведшего счеты с жизнью»? Как бы то ни было, все это тут есть. Елена уходит туда, откуда идет свет. Не только она, но и комната им пронизаны – все темное рядом с ней так истончилось, что чуть ли не засияло.
После того как мы увидели ее на этом холсте, попробуем понять, что она чувствовала. Конечно, близкие о многом догадывались, но больше всего было известно дневнику.
Как мы знаем, проза Гуро говорит о мгновениях. Случится что-то ее задевающее, и она сразу достает тетрадь… Сейчас рассказывать было не о чем. Все повторялось, начиная приступами и заканчивая процедурами.
Когда в настоящем удивляться нечему, обращаешься к прошлому. Правда, болезнь и тут вмешивается. Пишешь про «рай любви и таланта», а буквы подпрыгивают на линии строки. Напоминают, что все хорошее было когда-то и уже не повторится.
Чтобы писать внятно, нужны силы, а у нее их все меньше. Прежде впечатлений было сколько угодно, а теперь остались только стены и потолок. Как на экране, на них возникают разные картины.
Все замечать – ее обязанность литератора. Так поневоле мы стали свидетелями. Вот Елена ощутила себя полой емкостью, заполненной ужасом до краев. Или червяком – скользким, корчащимся под ботинком. Представив это, она написала: «Раздавленная, я ползла».
Чем хуже она себя чувствует, тем больше тумана. «Мне хотелось кровопролития, чтобы под трупами спасти своих людей (своих единомышленников)». Неужто это об утраченных смыслах? Слова тут потеряли значение, а значит, пали в этой битве.
Тем удивительней появление света (уж не начал ли действовать морфий?) в соседней записи. Пространство расширилось, и она увидела не готовый опуститься ботинок, а огромное небо.
Я уходила все дальше в пустое поле под нависшими тюремными мыслями… – писала она. – Это абстрактная сторона одиночества, до чего я дойду… подумала я и отчаянно напрягла мысли… Звала людей, звала товарищей, чтобы не быть одной. «Я верю в вас», – кричала я мыслями, которые соединяют народы, чтобы не быть одной.
На последней фразе боль вернулась, и слова опять попадались не те. Добавляешь обезболивающего, и в воображении возникает пейзаж:
Кругом в голубоватом старом поле стоял дождь. Во всю сторону перевалом уклонами ширилось поле.
Так мы движемся от одной записи к другой, от острой боли к короткому просветлению. Откуда-то выплывают «чашки… китайской синьки, кофейник друзей и ананас радости». В эту триединую формулу счастья вписываются «состояние созерцания, белая дача, август». Завершают эту картину «золотистые белокурые волосики, по которым ласково проводит солнце».
Запись называется не «Диагноз», не «Близкий конец», а «Творчество». Ведь только работа может ее спасти. Кажется, сейчас их двое – первая очень больна, а вторая смотрит на себя со стороны и пытается описать.
Последней умирает не надежда, а способность к созиданию. Гуро видит, как опухоль переходит все границы и хозяйничает в доме. «Уже половинки со стульев, шкафа, стола съедены изжелта-мутным же. Уже половина головы отпадает…» В финале она не выдерживает и едва не кричит: «Сжалься, сжалься над жалким! Болит у меня мое – и не виновато оно в том, что было: если виновата, то я».
Словом, существуют «я» и «мое». Почему тело должно отвечать за сознание? Если наказывать, то не плоть, а дух. По крайней мере, не придется так мучиться.
В апреле плоть совсем сдалась, но дух еще держался. Елена опять попросила поднять шторы. Как год назад, когда муж нарисовал ее лежащей в постели, наступила весна, и из окон шел свет.
Елена умирала, но продолжала сочинять.
Ручеек прозрачный из-под ворот по красным и синим мостовинам бежал, – писала она, – и было видно сразу, что камни мостовой были невинны от городских грехов. А над воротами прозрачней юного ручейка чирикала птичка.
Вот что навсегда. Поле с дождем – и живой комочек, призывающий к чистоте и независимости. Ее не станет, но дождь будет идти, а птичка петь.
Когда Матюшин это читал, рядом с некоторыми записями он пометил: «Дневник из ран». Значит, раны – это не только кровь и боль, но это чириканье. Его можно расслышать в тех фразах, в которых перекликаются: «ейк» – «чир» – «птич».
Последняя запись помечена двенадцатым апреля. Только домашние знали, что происходило в оставшиеся ей полторы недели.
К домашним присоединим кота Бота. Как рассказала Громозова, он понял, что происходит что-то непоправимое, и почти не вылезал из-под шкафа.
Интересно, почему его так назвали? Бот – небольшое парусное судно, а botte по-французски – сапог. Возможно, тут оба значения. Передвигался кот быстро, как парусник, а, растянувшись на полу, длиной и чернотой не уступал голенищу.
Еще раз оценим способность Елены отражаться. Судя по фото, сделанные ею куклы в эти дни прятались в тени. С куклами были солидарны фарфоровые собачки на тумбочке. Они и прежде грустили, а сейчас на их мордочках прочитывался страх.
Это я отвлекал вас от главного. Не хочется говорить об этом, но придется. Обычно Матюшин старался в быт не погружаться, но тут ничего не пропустил. «Усиленный, внимательный и постоянный уход», прописанный доктором, не исключал и последней заботы. Елена умерла у него на руках.
Глава шестая
В опустевшей квартире
Больше всего Матюшина угнетали подробности. Как освободиться от взбиваемых подушек и дурнопахнущих лекарств? Еще его мучил ее дневник. Он открывался на тех страницах, которые пока лучше не перечитывать.
Трудно Михаилу Васильевичу. На этой кровати, почти не вставая, она провела последние месяцы… А эти фарфоровые собачки еще не сняли траура… Не правильней ли послушаться кота Бота и в ее комнату не заходить?
Следует вернуться в оркестр, но пока Матюшин не пришел в себя. Может, ему помогут новые виды и разговоры на непонятном языке? Если ты устал от слишком знакомого, надо лечиться чем-то совсем чужим.
Он снова пишет заявление, и опять выходит что-то вроде письма. Зачем жаловаться на усталость, если много месяцев ты не был на службе? По крайней мере, в канцелярии к этому относились именно так.
Ввиду постигшего меня большого горя, потери близкого друга и жены, я чувствую себя настолько физически и духовно разбитым и угнетенным, что покорнейшее прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать мне перед его Превосходительством начальником военного так как в настоящем моем состоянии я ни на что решительно активное не способен и чувствую страшную усталость. …1913. Мая 3-го.
Такую задачку задал Михаил Васильевич. Чтобы определиться с ответом, понадобилось четыре резолюции. Трое сомневались, а последний высказался уверенно.
В том, что четвертый писал карандашом, было что-то неформальное. Все равно, что стукнуть кулаком и сказать: «А кто не устал? Я бы тоже поехал в отпуск, но не могу бросить оркестр».
Оставался единственный вариант. Пойти в обход или, говоря иначе, к врачам. Если заручиться нужным диагнозом, этот вопрос будет решен.
Булавинцев писал на заявлении пациента, а у доктора Купчика был собственный бланк. В правом верхнем углу значилось: «Министерство двора» и «Врач придворной капеллы». Этот шрифт украшает бумаги начальника оркестра и даже самого императора.
Так доктор подчеркивал, что он – первое лицо. Как с упомянутыми высокими чинами, с ним лучше не спорить. Если он придет к какому-то выводу, это будет вердикт.
Ввиду крайне обострившегося общего болезненного моего состояния, – обращался Матюшин в канцелярию, – плохое сердце, болезнь почек, сильный катар желудка и общее тяжелое ухудшение душевного состояния вследствие недавней утраты, по заключению врачей, меня лечивших, а также и нашего придворного врача Николая Ивановича Купчика; требуется неотложная поездка за границу, так как промедление может серьезно ухудшить состояние моего здоровья. Я покорнейше прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать перед Его Превосходительством г-ном начальником Придворного оркестра, мне столь необходимый отпуск за границу сроком на два месяца…
Заключение Купчика похоже на то, что писал Матюшин, но с уточнениями. Имеет место нервное расстройство, осложненное «хроническим воспалением почек и перенапряжением мышцы сердца», что позволяет сделать вывод:
Крайне нуждается в основательном лечении при полном моральном и физическом покое, в отъезде за границу в один из санаториев Германии.
На иерархической лестнице каждый считает себя первым. На самом деле, это лестница в небо. Поднимаешься на ступеньку – и получаешь право оказаться на следующей. Мнение доктора важно, но только для того, чтобы двинуться дальше.
Прилагая при сем докладную записку Его Сиятельства доктора Купчика, – написано на оборотной стороне листа, – честь имею ходатайствовать перед Вашим Превосходительством о разрешении ему заграничного отпуска по лечению болезни.
Сперва мы обманулись шрифтом, а теперь доверились роскошным усам начальника оркестра. Они тоже говорили об особых возможностях. Тут выясняется, что он сам ничего не решает, а может только обратиться в следующую инстанцию.
Артист вверенного мне оркестра Михаил Матюшин, – пишет Штакельберг, – просит об увольнении его в отпуск за границу сроком на 1 месяц и 28 дней. Донося о сем Вашему Сиятельству, испрашиваю прошение на увольнение помянутого артиста в просимый отпуск.
Это последний документ, связанный с просьбой об отпуске. Сложно сказать, что было после. Если даже отпуск разрешили, Матюшин остался в городе. Может, ему стало ясно, что на поездку нужны силы, а они у него кончились.
К тому же Михаил Васильевич нашел другой выход. Теперь он общался с Еленой с помощью спиритических сеансов. Вряд ли санаторий мог ему в этом помочь. Надо, чтобы все знали ту, кого вызывают, и она – тех, кто хочет с ней пообщаться.
Приятельница назвала Елену человеком «очень оккультного склада». То же можно сказать о Матюшине. Да и как могло быть иначе? Тот, кто верит в четвертое измерение, непременно захочет вступить с ним в контакт.
Медиумом он сделал Громозову. Для него было важно, что Елена говорит через нее. Твердый голос Ольги в эти минуты становился мягче. Словно от масляных красок она переходила на акварель.
На Матюшина сеансы действовали успокаивающе. Называешь Елену, а она тут как тут. Словом или фразой поддерживает собравшихся. Вскоре он отказался от крутящейся тарелки и присутствия посторонних. Достаточно было остаться одному, и они уже разговаривали.
Происходило это примерно так:
Вчера 24 августа ясно почувствовал Елену около себя… – рассказывает запись тринадцатого года. – Я совершенно ясно ее ощущал у себя на плече. Она была очень весела и довольна и давала на все ясные ответы. Опять она говорила, что мы с ней вместе будем много работать, и это так было весело. Затем на овраге она меня повела за руку, и я, повинуясь ей, точно слепой, закружился и остановился около очень молоденькой, очень маленькой прелестной елочки, такой трогательной своей ребяческой нежностью и ясностью.
Кажется, Матюшин совершенно спокоен. Если есть четвертое измерение, эти контакты в порядке вещей. Как всегда, его удивляет только Гуро. В очередной раз она его куда-то вела, а он ей подчинялся.
Благодаря этим разговорам, кружениям и остановкам Михаил Васильевич приходил в себя. Без немецкого санатория голос стал тверже, а зрение четче. После того как она сказала: «Мы… вместе», он опять стал рисовать.
Так воскресают. Медленно, но неуклонно. Только что он не хотел никого видеть, а вдруг его потянуло к друзьям. Как вы там, Казимир и Алексей? Не хотите ли поучаствовать в моем возвращении к жизни?
Выезд на природу получил название Первого съезда баячей будущего. Провести его решили в Уусиккирко. В зависимости от места – дача, поле или озеро – каждому предстояло стать докладчиком, президиумом и залом.
Конечно, Уусиккирко. Где еще? Здесь близость Гуро ощущалась особенно – 24 августа, когда Матюшин «ясно почувствовал Елену», не меньше, чем 18, 19 и 20 июля, когда состоялся съезд.
Съезд
Из участников нашей истории цельность отличала только Гуро. С остальными было по-разному. Если Ольгу это не волновало, то Матюшин свою раздвоенность преодолевал. О том, что он думал на этот счет, говорил автопортрет.
О сходстве нет речи – работа изображает не человека, а призму. Так он понимал художника и конкретно себя: каждая сторона противостоит другой, а все вместе образуют единство. Это, конечно, больше мечта. В реальности грани конфликтовали. Как уже сказано, самым трудным был выбор между работой в оркестре и свободным творчеством.
Когда Матюшин оказывался вне строгих служебных рамок, он мог позволить себе все что угодно. Вот так, как на фото, где он снялся вместе с Малевичем и Крученых. Получилось что-то вроде картины, или, как сказали бы сегодня, инсталляции.
Известен вкус питерских ателье. На рисованном заднике – колонна, полка с книгами, занавес. Все говорит о необходимости тянуть спину и смотреть прямо перед собой. Как видно, эту обстановку выбрали для того, чтобы над нею весело посмеяться.
Малевич и Матюшин сидят, а между ними прилег Крученых. Один держит его ноги, другой голову. Посредине – перевернутый стул. Он вроде как укрепляет положение автора «дыр бул щыла».
Рука Казимира Севериновича лежит на ноге Крученых. Его лицо при этом настолько серьезно, словно он произносит: «Отказать!» или клянется в верности императору.
У Матюшина своя игра. Он оберегает товарища от падения – и сердечно его обнимает. Крученых чувствует симпатию и из этой неудобной позиции по-пушкински выкидывает руку вперед.
Все это похоже на провокацию, «сапоги всмятку» и «мир с конца». Съезд вышел таким же шутейным, как фото. При этом продуктивным. Между купаниями и походами за грибами задумали оперу «Победа над солнцем».
Начали не откладывая. На все про все ушло не больше месяца. Сложность оказалась только одна. Действующих лиц было столько, что пришлось на помощь призвать поклонников.
Вот и повод для Громозовой показать себя. Впрочем, как это сделаешь, если актеров закрывают фигуры из картона? Так что от тебя остается только голос. От имени героя ты должен прокричать что-то малопонятное.
Не везло Ольге. Никак у нее не получалось выйти на первый план. Сейчас прав у нее еще меньше, чем у машинистки. Тогда она высказывала свое мнение, а сейчас приходится говорить чужими словами.
Вот почему собой она была не очень довольна. Зато все остальное ее впечатляло. Шум, волнение, невероятные гости… Пришел подвыпивший Блок. Видно, он подготовился. Решил отклоняться от реальности вместе со спектаклем.
Об этой премьере в шестидесятые годы рассказала Екатерина Гуро. Перед ней стояла чудо-машина «Яуза-5», бобины крутились, пленка шелестела… Все это было так удивительно, что ей никак не удавалось сосредоточиться.
Времена путались, и Екатерине Генриховне показалось, что спектакль она смотрела вместе с Еленой. Ясно представилось, как они выходят из театра «Луна-парк» на Офицерской улице, а сестра говорит: «Тебе не кажется, что мы парим?»
К концу тринадцатого года Елены уже пять месяцев не было на свете, но эту фразу она вполне могла сказать. Странно поклоннице четвертого измерения перемещаться только по земле. Тем более что в фантазиях, как уже сказано, она чувствовала себя уверенней, чем в обычной жизни.
Потихоньку кто-то идет в воздухе и любит все живое… Мимо всех вещей, сквозь все вещи, идет не замечаемый никем. И никто его не видит и не знает о нем. Пробирается во все живое, как тепло весны и благословение.
В этом отрывке она вся. С одной стороны, немыслимое («кто-то идет в воздухе»), а с другой – привычное («тепло весны»). То она выпадает из привычных связей, то вновь возвращается обратно.
Такое мерцающее существование. Вот и после смерти Елена попеременно отсутствовала и присутствовала. То вычиталась из числа ее товарищей, то опять была с ними. Об этом говорит название книги «Трое», которую участники съезда посвятили ее памяти.
Эта цифра тоже мерцает. Если эти трое – Матюшин, Крученых и Малевич, почему нет Хлебникова и Гуро? Если речь о Гуро, Хлебникове и Крученых, где Матюшин и Малевич?
