Жизнь – боль. Манифест заядлого пессимиста
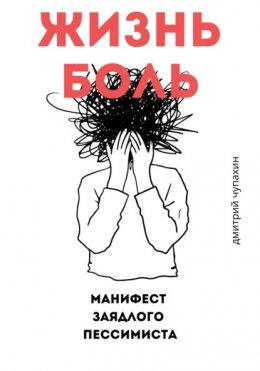
Введение
До 1983 года в католической церкви существовала должность, которая называлась "адвокат дьявола". Функция человека, назначенного на эту должность, заключалась в следующем. Если какого-то праведника хотели причислить к лику святых, "адвокат дьявола" должен был собрать и привести все возможные аргументы, которые могли бы помешать канонизации. Верил он или нет в то, что праведник достоин называться святым – дело десятое. Цель его работы состояла в том, чтобы обострить дискуссию и вынудить оппонентов приводить более сильные и обоснованные доводы в пользу канонизации.
В науке есть похожий прием, он называется "доказательство от противного" – это когда тот или иной тезис доказывается путем опровержения антитезиса. Предположим, вы подозреваете, что больны гриппом. Ваш врач мог бы убедить вас следующим аргументом: если бы вы действительно были бы больны, то у вас была бы повышенная температура, заложенный нос, озноб и другие симптомы. Если же таковых симптомов не наблюдается, значит, вы здоровы.
Антитезис – это очень удобная точка для старта дискуссии. Сложно построить доказательную базу своей версии с нуля. Сподручнее отталкиваться от потенциальных возражений, как бы заранее их опровергая. Если вы с коллегами не можете определиться, куда пойти на обед, и спор зашел в тупик, то попробуйте предложить что-нибудь абсурдное вроде поесть беляшей на вокзале. Аргументы "против" отыщутся в доли секунды: ехать далеко, это нездоровая пища, непонятно, из чего или кого эти беляши производят, и так далее. Так присутствующим будет проще определиться, чего же они на самом деле хотят.
В креативных дисциплинах это называется метод обратного мозгового штурма, а в психологии – метод парадоксальной интенции. Его разработал Виктор Франкл с целью борьбы с фобиями. В его практике был такой случай: один человек очень стыдился того, что сильно потеет в присутствии других людей. Страх потоотделения, который появлялся, например, в компании коллег, еще больше усиливал потливость. Возникал порочный круг: чем больше он потел, тем больше испытывал страх, а чем больше боялся, тем больше потел. Франкл предложил разорвать этот порочный круг, не избегая потоотделения, а наоборот, изо всех сил пытаясь его усилить, то есть пациенту при встрече с людьми требовалось вспотеть как можно сильнее, прилагая для этого все возможные усилия. Как нетрудно догадаться, у него ничего не получилось. Для освобождения от фобии, которой человек страдал десять лет, хватило одного сеанса.
Эта книга написана адвокатом дьявола. В том смысле, что в ней я сделаю все возможное, чтобы доказать: жизнь бессмысленна, болезненна, пуста и не стоит того, чтобы ее жить. Люди вокруг ужасны, глупы, жестоки и не годятся вам в подметки. Или вы не годитесь в подметки им. Вы сами – космическая пыль, статист, винтик в системе, которая даже не заметит вашего исчезновения. Вы бесполезны, а все ваши попытки состояться – это борьба с ветряными мельницами. Рано или поздно вы исчезнете, и очень скоро о вас никто не вспомнит. Мы живем в худшем из миров, и для нас было бы проще не рождаться вовсе, потому что единственное, что нас ждет – утомительная борьба за выживание, которая, конечно же, будет нами проиграна.
Аргументы будут разделены по главам для вашего удобства, но не более того. Контраргументов не ждите. Их вам предстоит сформулировать самостоятельно и тем самым опровергнуть доводы адвоката дьявола. Единственная поблажка – это контрольные вопросы после каждой из глав, их цель – натолкнуть вас на размышления, упростить процесс обратного мозгового штурма.
Однако у этих вопросов нет правильных ответов. Цель книги не в том, чтобы вы стали более жизнерадостным, спокойным или человеколюбивым. Она в том, чтобы наладить процесс внутренней дискуссии с представлениями, которые, безусловно, беспокоят всех нас: кто мы? зачем мы? почему вокруг так много жестокости и несправедливости? почему нас не понимают? почему так часто нам бывает страшно, одиноко, грустно? как пережить потерю близкого? а как быть со своей собственной смертью, которая по вселенским меркам не за горами? что мы оставим тем, кто будет после нас? и обязательно ли оставлять хоть что-то?
Если нет желания связываться с этими вопросами, или они кажутся вам неподходящими, то ответьте хотя бы на один: согласны ли вы с тем, что написано в этой книге? Но "да" или "нет" будет недостаточно. Аргументируйте свою позицию, и если заметите в ней слабые места, подумайте, как их можно укрепить.
В целом, тактика чтения должна базироваться на снисходительном отношении к прочитанному. Перед вами – теория пессимистического заговора, если бы она существовала. Как и любая теория заговора, она многословна, порой подозрительно достоверна, но имеет свои недочеты. Ваша задача – обнаружить их, и если не стать оптимистом, то хотя бы не впасть в зависимость от этой теории, не обратиться в ее последователя и популяризатора. Подобранные вами контраргументы станут вашим собственным манифестом. Манифестом реалистичного и здравого отношения к жизни, которая, хоть и болезненна, но стоит того, чтобы ее прожить.
Глава первая. Страдай
Вам было плохо сегодня? А вчера? Наверняка вы страдали. Из-за коллег, ссоры с партнером, "двойки", которую ребенок принес из школы, проигрыша любимой команды. Набор ежедневных "страданий" у всех примерно одинаков. Мы расстраиваемся и падаем духом из-за того, что более стрессоустойчивые люди считают пустяками. Но вероятнее всего, они тоже страдают, просто умело это скрывают.
Мы страдаем, как только открываем глаза утром: ранние подъемы – всегда испытание, мы бы многое отдали, чтобы оставаться в постели, чтобы поспать еще часок-другой, но нужно взять себя в руки, приготовить завтрак, отправить детей в школу, а самим отправиться на работу, где нас встретят такие же невыспавшиеся люди, и мы с ними объединимся в нашем общем страдании, чтобы трансформировать его в коммерческие предложения, бухгалтерские отчеты, рекламные тексты, планы продаж, двухчасовые совещания… Настрадавшись на работе, мы возвращаемся домой, страдая от усталости и дальней дороги по пробкам. Вечером нам предстоит еще немного страданий в семейном кругу и наконец-то можно с чистой совестью заснуть. При условии, что вы не страдаете от бессонницы. Спокойной ночи. Завтра вас ждут новые страдания.
Слышали выражение "страдать фигней"? Так вот это не про компьютерные игры, безделье или хобби в духе авиамоделирования. Это наша жизнь. Она настолько фиговая, то есть несущественная, что именно это нас и достает. Другие-то фигней не страдают. Допустим, Нельсон Мандела провел за решеткой 27 (из 95) лет своей жизни. Потом вышел на свободу – и разобрался с бесчеловечным режимом апартеида в Южно-Африканской Республике. Кажется, что все эти 27 лет он и не страдал вовсе, а копил, аккумулировал свои навыки, знания и желания, чтобы в ответственный момент броситься на выручку обществу. Вот бы у наших страданий тоже был такой высокий смысл, тогда, быть может, они бы не показались нам столь невыносимыми. Но Нельсон Мандела страдал ради "завтра" (в смысле, будущего), а мы – лишь ради завтра (в смысле, завтрашнего дня).
И это лишь полбеды. Ежедневные, фоновые страдания иногда сменяются "настоящими", пиковыми, страшными страданиями. Смерть близких, неизлечимые болезни, потеря сбережений, разлука, предательство, увольнения. Наша ежедневная практика страданий почему-то не закаляет нас, мы все равно предстаем полностью безоружными перед лицом внезапных обстоятельств. Нас уверяют, что время лечит, вот только забывают добавить, что чем больше времени пройдет, тем вероятнее, что нас настигнет новая беда, еще более неожиданная и страшная.
Изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие. Мы здесь, чтобы испытать весь спектр разочарований и утрат, настрадаться вдоволь, на две, три, десять жизней вперед. И никто, никто и никогда не сможет этого избежать. Миллиардеры и обнищавшие смотрители маяков, короли и чистильщики их обуви, коучи по достижению счастья в личной жизни и те, кто заплатил им последние деньги, писатели и читатели, африканцы и американцы (и даже швейцарцы), – всем, абсолютно всем суждено страдать. Да, в разной степени, да, кто-то сможет отдать круглую сумму, чтобы страдать меньше, но у всех, поголовно всех, если они прожили достаточно долгую жизнь, сердце будет разбито вдребезги, и воспоминания о расставании с университетской любовью или то, как он/она везли своего пса в ветеринарную клинику на усыпление, не видя ни зги сквозь пелену слез – эти воспоминания всегда, с неизбежностью прилива будут окатывать человека глухой болью, и он испытает все как прежде, и не будет спасения, ни в чем и ни в ком.
Такова наша жизнь, а вы не знали? И если вы надеетесь на мораль, то ее не будет ни здесь, ни в других главах. Просто страдайте.
***
Зачем (ради чего) вы страдаете?
Изменились ли вы после пережитых несчастий? Как?
Может ли произойти что-то (ну, кроме смерти, конечно), чего вы не переживете?
Глава вторая. Счастье? Не, не слышали
Окей, мы умеем страдать. Но ведь это не вся наша жизнь, так? Есть еще гармоничные отношения, рождение детей, путешествия, секс, выигрыши в настолки. Ну да, ну да. Легко доказать, что мы не созданы для счастья, точнее, оно нам не сдалось.
Представим, что некий человек хотел получить работу мечты и добился этого. Теперь он замначальника чего-нибудь, с окладом, который позволяет ему не бедствовать. Что испытывает этот человек? Эйфорию. Он востребован, его заслуги признаны, жена в восторге, начальник отдела жмет руку уважительно и напутствующе, хоть и с подозрением, потому что опасается, что зам его когда-нибудь подсидит. Человек вгрызается в должностные обязанности с размахом, работает по 12 часов, его ставят в пример. Отдыхает он тоже с размахом, а что, может себе позволить. Вскоре он матереет, его отпускает фанатизм, он становится неосознанно компетентен. И хоть он так и не подсидел начотдела, его ставят в пример, выписывают премии, к его мнению прислушиваются. Затем приходит скука и выгорание. Он уже привык к должности, зарплате, восхищению жены. Да она уже и не особо восхищается. Он – вот это странность – чувствует себя примерно также, как чувствовал себя до того, как его сделали замначальника. Ездит на работу и возвращается домой на новом авто, пересматривает фото из двухнедельного отпуска во Вьетнаме, на планерках высказывается веско и ультимативно, висит на доске почета, но все как будто бы как прежде. Все приелось. Надоело.
А ведь это вообще неудивительно. Есть даже еще более яркие кейсы, демонстрирующие, что долгожданное счастье мы видали в гробу. Согласно исследованиям, люди, выигравшие в лотерею значительные суммы денег, сообщают о немедленном краткосрочном счастье. Но в долгосрочной перспективе их уровень счастья не повышается. Проще говоря, мы неспособны наслаждаться тем, чего добились, и особенно, тем, что у нас изначально было.
Но зато если нас этого лишить – вот тогда начнутся настоящие проблемы. Мы будем жалеть, что проводили мало времени с семьей (если кто-то умер или заболел), слишком много работали и не ходили на пробежки (если сами при смерти), были расточительны и не инвестировали (если нас поперли с должности), не занимались воспитанием детей (если дети устроили подростковый бунт и сбежали из дома) и так далее. Честно говоря, мы умеем ценить счастье только постфактум, когда у нас его отняли. Мы умеем быть несчастными, но не счастливыми. По крайней мере, долгосрочно.
Да, мы профессионалы несчастья. Боль и страдания интенсивнее приятного спокойствия, также как голод интенсивнее чувства сытости. Мы долго помним плохое и быстро забываем хорошее. Не можете уснуть, потому что придумываете, как нужно было ответить тому дорожному хаму на перекрестке пять лет назад? Ноль процентов осуждения. Когда вы в последний раз засыпали, убаюканные приятными воспоминаниями о первом свидании с женой или о ваших спортивных успехах в университете? Никогда? Сто процентов понимания.
То есть даже наше мышление по какой-то причине запрограммировано помнить плохое и игнорировать хорошее. У нас это в крови, в мозге костей. Счастье? Да на кой оно нам?
***
Случалось ли с вами что-нибудь плохое, что вы не хотите забывать?
Какой была бы ваша жизнь, если бы вы могли исправить абсолютно все ошибки, совершенные в прошлом?
Как часто вы вспоминаете прошлое? Влияют ли эти воспоминания на ваше настоящее?
Глава третья. Мечты сбываются (а лучше бы не сбывались)
Ты можешь все. Это правда. Разбогатеть? Запустить стартап? Изменить мир? Изобрести лекарство от рака? Спасти тысячи бездомных котиков? Как два пальца, даже не обсуждается – посмотри на тех, кто уже сделал это: кто-то не закончил универ, другой торговал водкой, третий сидел, четвертый инвалид, пятый сирота, с шестым ты учился в одной школе. Они разные. Но они смогли. Выбились, преодолели. Да, не спали ночами, да, иногда нарушали закон, да, не умеют ничего другого, да, им просто повезло. Но неужели ты не можешь пройти тем же путем? Всего-то и нужно: слепая вера в себя, настойчивость, адаптивность, обучаемость. Серьезно, это несложно. Ну ведь не зря такое количество мотивационной литературы на полках книжных магазинов. Кто-то ведь это читает. Кто-то ведь в это верит. Внедряет атомные привычки, думает и богатеет, находится в состоянии потока, использует силу подсознания. И наконец-то добивается всего, чего хотел.
И вот тут… Как мы помним из предыдущей главы, музыка не будет играть долго. Человеку или захочется большего, и он снова запрыгнет на гедонистическую беговую дорожку и впишется в очередные крысиные бега, или не захочется ничего, потому что он уже всего добился – и тогда он окажется в глубочайшей депрессии, по уши в экзистенциальном кризисе.
Почему так? Все просто. Человек уже отдал всего себя: лебезил перед начальством, отказывал себе в удовольствиях, каждое утро вставал через силу. Другими словами, он слишком долго страдал, чтобы стать счастливым. Он инфицирован страданием, пропитан им, как губка, он привык к нему и не представляет, что может быть иначе. Счастье не бесплатно. Его нужно выстрадать. Но выстраданное счастье отравлено воспоминаниями о его достижении, и тоже никому не уперлось.
А случается и еще того хуже. Человек женится на любимой женщине, которую добивался несколько лет, но брак оборачивается сущим кошмаром: скандалы, интриги, полусумасшедшая теща подливает масла в огонь, вот это все. А другой человек скопил наконец-то средства на переезд в другую страну, но что-то не рассчитал, что-то пошло не так, и спустя пару лет он обнаруживает, что каждый день – это борьба за выживание, но на эту борьбу нет ни сил, ни денег. Человек выглядывает из окна своей плохо отапливаемой каморки на шумную улицу, где никто не говорит на его родном языке, и у него возникает странное чувство, что он движется поперек или даже наперекор этой жизни.
За подобными муками интересно и удобно наблюдать со стороны. Не бывает книг и фильмов, у героев которых все хорошо. Напротив, чем сложнее живется герою, чем мрачнее его существование, чем больше врагов, чем неизлечимее болезнь, чем безнадежнее мечта, тем любопытнее за этим наблюдать. Неужели выкрутится? Неужели осилит? Но когда главный герой – это ты, когда осиливать и выкручиваться нужно в одиночку, ничего интересного в этом нет. Только страдания, страх, тревога, сожаление, неудовлетворенность, понимание, что тебе не хватает чего-то большего.
Мечты сбываются, факт. Вот только нужно лечь костьми, чтобы они сбылись. А когда они сбудутся, то превратятся в ад. По крайней мере, это не исключено, и к этому надо быть готовым. Нужно инспектировать свои мечты на предмет второго дна, обратной стороны. Нельзя доверять мечтам. Но тогда какие они после этого мечты? Это лишь гипотезы, благоприятные прогнозы: если сделаю то-то и то-то, то будет мне счастье. Может быть. Предположительно.
И вообще. Ну, разбогатеешь, ну, изменишь мир, ну, изобретешь лекарство от рака. Но ведь это ненадолго, понимаешь, о чем я? Кто тебя вспомнит через 50, 100, 200 лет? Хоть один человек вспомнит? А если вспомнит, то тебе-то что с того? Ну, помнят сейчас Пушкина: ленивые дети, не понимая половины слов, зубрят его старомодные стихи, – Пушкину от этого ни жарко, ни холодно, он давно в гробу и даже в нем не вертится. Смерть и время сравняют с землей все, что ты сделал. Что бы ты не сделал. Хоть город построй, хоть сто книг напиши. Все уничтожат, переврут, обратят против тебя. В лучшем случае на тебя всем будет плевать. В худшем – твое наследие станет оружием массового поражения. Альфред Нобель реально верил, что динамит будет незаменим в горной промышленности. Наивный. Надеюсь, вы не повторите его ошибок и не станете уповать на интеллект потомков?
***
Куда приводят мечты? Есть ли смысл мечтать?
О чем вы мечтали сегодня? Оно вам действительно надо?
О чем вы будете мечтать в самом конце своей долгой жизни?
Глава четвертая. Табу на несчастье
Героиня сериала "Карточный домик" Клэр Андервуд, жена эксцентричного президента, в одном из эпизодов произносит фразу: "Меня не интересует счастье". В том смысле, что ее больше интересует политика, интриги, борьба, – а все это едва ли совместимо с чувством полноценного удовлетворения собственной жизнью. Человек, отдающий себя сложному и порой бесперспективному делу, должен быть готов к тому, что будет чувствовать себя жалко.
Но одно дело – признаваться в готовности пожертвовать счастьем, и другое – быть несчастным публично. Если вы собираетесь демонстрировать упадок духа на людях, ходить везде с кислой рожей, писать депрессивные посты, признаваться родным и близким, что у вас все плохо, то вы должны брать в расчет последствия. В психушку вас, может, и не упекут, но вы станете изгоем, отрезанным ломтем. С вами перестанут общаться, а если не перестанут, то разговоры будут начинаться с обеспокоенных ноток в духе "ну как ты сегодня? полегче?". Продвижению по службе ваше состояние тоже не будет способствовать. Ваш скепсис и негатив воспримут в штыки, назовут занудой, лишат рычагов влияния на проекты. Личная жизнь пойдет крахом. Кому нужен молчаливый и слезливый индивид? Разве что производителям антидепрессантов. Короче, готовьтесь к худшему. Мало того, что вам будет плохо, так еще и общество будет тыкать в вас палкой, сморщив нос: "Смотрите, ему плохо, фу, разлегся тут!"
Как так вышло, что тревога, неудовлетворенность и даже плохое настроение оказались под строгим запретом? Сейчас в этом модно обвинять позитивную психологию, которая в конце 1990-х годов с подачи Мартина Селигмана стала продвигаться как наикратчайший путь к личному и общественному благополучию. Посыл был такой: положительные эмоции делают восприятие мира человеком более открытым и позволяют исследовать и находить новые решения проблем. Кроме того, положительные эмоции делают человека более дружественным, а с увеличением количества друзей человек получает лучшие шансы эволюционного выживания. Критики в ответ говорят, что позитивная иллюзия искажает реальность и не слишком-то способствует личностному росту. А вот легкий негатив, напротив, может сыграть важную роль в динамике человеческого процветания.
