Сказки Сфинкса
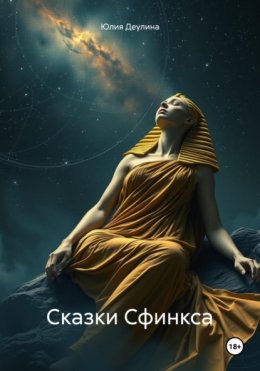
Тогда
Рецепт
Она пахнет лимоном, перцем,
Шиповником.
Торгует на рынке специями
По вторникам.
Посмотрит терпко и сладко,
Жгуче.
Но влюбляйся в неё с оглядкой
Лучше.
Как-то взял у неё господин
Бадьяна.
Длинные ночи потом бродил
Как пьяный.
Её имя выбил на медном
Браслете,
А на утро пропал бесследно
В рассвете.
Говорят, у неё не глаза —
Бельма,
Да только рецепт подсказала
Ведьма.
Нужно взять одно влюбленное
Сердце
И смешать его с кардамоном
И перцем.
Это слухи, конечно, бредни
И сказки…
Но её я видел намедни
В повязке.
Среди льдов
Не вглядывайся в толщу льда,
там лишь холодная вода
и тюлени
трутся серыми спинами,
променяв человечьи тени
на звериные.
У тёмной проруби не стой:
не солнце бьётся под водой —
белуха,
с чёрным пятном-увечьем —
добыча лунного духа,
не человечья.
На чаячий холм не ходи
ни с собаками, ни один
на охоту,
там в сердце холма
под землёй бродит кто-то
впотьмах.
В воде не оставляй каяк,
открытая иль полынья,
а всё одно —
залезет в лодку из воды
и притаится водяной,
и жди беды.
Не вглядывайся в толщу льда —
там лишь холодная вода
в сердцах китов,
давно там сгинула весна,
и где пропала среди льдов —
то не узнать.
Сирена
О кораблях, ушедших под воду, о потерянной свободе, о любви нетленной, но на дне смиренно лёгшей в ил, плачь, сирена.
Плачь о тех, кто тебя любил.
Вопреки советам расхожим,
что слезами ничем не поможешь,
не заглушишь в сердце боль,
плачь, сирена,
плачь и пой.
Пой, как бы пели птицы и ветер, расправляй певчие сети у этих скал, чтобы каждый узнал, как сладко, когда любим.
На девятый вал каждый станет твоим.
Не изменишь природы своей,
не поднимешь со дна костей,
не прервёшь череду неудач,
а поэтому пой,
пой, сирена, и плачь.
Плачь, как жёны, убитые горем, о мужьях, сгинувших в море, о слезах детей, а всего страшней о душах, ушедших ко дну.
Плачь, сирена, твой Одиссей уже оседлал волну.
Два осколка
Королева
Он станет моим на три дня, потом вернётся к тебе:
Велика ли за жизнь цена? Думаю, что вовсе нет.
Велика ли цена за то, чтобы слышать его смех?
Всего три ненужных дня проведёт он в морозном сне.
Всего три невзрачных дня, и увидишь его лицо.
Ведь я поднимала, смеясь, и не таких мертвецов.
Оставь его тут, на камнях, ступай скорее домой.
Всего три ужасных дня – и он будет снова лишь твой.
Девочка
Он составляет слово из льдинок, не понимая смысла.
Он думает, что любит зиму, и что это его мысли.
Он не смотрит совсем мне в глаза, его смех острее ножа.
Он хочет мне что-то сказать, но губы его мелко дрожат.
Я хотела, чтобы он ожил. Велика ли за жизнь цена?
Но я чувствую всей кожей – меж нами ледяная стена.
Хотела быть девочкой сильной? Теперь терпи, привыкай.
Не забыть бы сейчас его имя… помню… его зовут…
…
Кай?
Лесное
Вьётся мышиным горошком
По ручкам, по ножкам
К горлышку страх.
Не закрывать глаза.
Не разжигать костра.
То ли хотела мать?
Да.
Что-то мелькает злое
Там, за осенней листвою.
Оно пришло не за мною?
За мною.
Глаза – два рубина,
В пасти рябина
Краснее красного.
Так ли ужасно?
Ужасно.
Тянет руки – голые ветви.
Месяц бледной поганкою светит,
Это там воет волк или ветер?
Ветер.
Хотя, всё равно.
Пока не стала травою-полынью,
Золотом солнца, небесною синью,
Пока сердце моё не остыло,
Его напою вином.
Пей, злое,
Пей, рябиново-красное,
Мы одной крови, мы одного роду,
Ты – моя сестра неназванная.
Я пришла за тобою.
Я принесла свободу.
…
Вьётся мышиным горошком, по ручкам, по ножкам…
Не вьётся – бежит
Кровь краснее рябины,
Кровь чернее лесов.
И потухают рубины.
Под ними – моё ли лицо?
Моя ли жизнь?
Колдун
Красавица какова, какие шелка, да меха, да каменья, как походка легка. Да только крадётся тенью следом беда. Только волосы белы, как старухины космы, только кожа бледна…
Гадала у студёной воды, на золе да песке, на крови, венок в реку бросив. Нагадала суженого, ряженого, он явился на черной лошади, в бороде седина, на поясе лента повязана, красная с червонным золотом. Молвил:
– Дорогая, хорошая, я устал колобродить в жару да в метель. Накорми, уложи в постель, согрей!
А глаза у него ночи черней, как у ворона, а ладонь его бледная да холодная. Обмерла вся, дрожит, а он улыбается. Шепчет:
– Какая же ты красавица…
Пригласила гостя в дом, напекла хлеба, а он цокает языком:
– Милая, кровушки мне бы.
Поднесла на блюдце расписном ему куриной крови, выпил, смеётся:
– Вот у птицы доля! Ни летать не может, ни петь. Посадил её в клеть – мол, терпи, пока с топором не встретишься.
А по бороде струйки текут красные. Испугалась, плачет, просится на волю, где ветер, где светит солнышко ясное.
– Да разве держу я тебя, милая? Дом твой, сама пригласила. Сама гадала на крови, искала любви, просила луну. Услышал тебя колдун… А так-то, не сдержу тебя и силою.
А она стоит – не шагнуть за порог. Птица без крыльев под топором, напевшая себе беду. И стонет душенька, надрывается, и щемит сердце, и шепчет колдун:
– Какая же ты красавица… Я тебя одену в шелка, в меха, в каменья, будет походка твоя легка, будешь молода года и века!
В глазах её страх и сомнение. Но сама гадала на студёной воде, на крови, звала суженого, ну что ж теперь говорить…
– Милая, никому не нужен я. На порог бы меня не пустили. У меня глаз дурной, и черным-черно на душе, как в могиле. Раз пожалела – чего горевать. Уложи в постель, согрей, невелика беда. Ну пойдёт молва, что приютила чёрна ворона, пса бездомного, колдуна безродного. Да плевать! А кто скажет слово дурное в глаза, уж больше не сможет ничего сказать.
Бороду вытер, глядит, не стесняется:
– Какая же ты красавица…
Красавица какова, какие шелка, да меха, да каменья, как походка легка, да пояс из красной ленты с червонным золотом. Только веет от неё бедою да холодом. Только волосы белы, да ступает смело под тенью ворона…
Ворожея
Что ж ты, девочка, не время горевать,
пусть и выветрились все слова,
пусть и вызверилась толпа,
пусть идёт на тебя охота.
Что ж ты, милая, не время плакать,
зачерпни ковшом из колодца мрака,
отрубай скорее птичью лапу,
вырывай волчий коготь.
Складывай косточки в нужном порядке,
складывай камушки чёрные, гладкие,
твори ворожбу без всякой оглядки
на то, что будет следом.
Не бойся, он тенью встанет к плечу,
не бойся, дыханьем задует свечу,
не бойся его, он не страшный ничуть,
ему самому страх неведом.
Когда он придёт, ему расскажи,
как раньше жилось не в этой глуши,
зачем променяла сытую жизнь
на домик в заветной чаще.
И как не хотела за князя идти,
как о другом сердце билось в груди,
и как ты бежала, мороча пути,
по ручейкам звенящим.
Он молча послушает речи твои,
кивнёт – ничего больше не говори,
исчезнет с заката и до зари,
вернётся в когтях с добычей.
Подкатится прямо к твоим ногам
княжья оторванная голова,
а ты раздевайся тогда донага,
как и велит обычай.
Что ж ты, девочка, не время горевать,
за тобой идёт злая толпа,
и в этой толпе каждый твой враг
кричит: «Чародейке смерть!»
Складывай косточки, связывай мраком,
связывай кровью, связывай страхом,
только сама не вздумай заплакать
и их не смей пожалеть!
Обсидиановая бабочка
Цокают коготки по камням
речным,
по костям,
по лучам
луны.
Коготки на руках, на ногах,
за спиной – крылья бабочки.
Неотвратимость судьбы
в её шагах.
Крыльев взмах —
обсидиановые ножи.
Хочешь – беги,
но
не убежишь.
Не так.
Сначала покажи
сердце вперёд души,
кожу порежь об её язык
обсидиановый,
пусть
распробует вкус
жизни твоей.
Пей воду, что принесла в ладонях, пей!
Каждую каплю, всё – тебе.
Слушай, как стонут ручьи,
как стонут звёзды,
когда пальцами с ними
играет богиня.
Смотря ей в глаза —
молчи.
Но.
Отвернуться не поздно,
и сказать,
что зря молчал,
что хочешь любви,
хочешь войти
в Тамоанчан.
Если тебя коснётся —
Входи.
Охота
Нет сил бежать, но ты беги,
Не будет сил и умереть.
Вокруг тебя враги, враги,
Вокруг тебя вьюнки, вьюнки,
Деревья, травы, а на них
В венце Охоты пляшет смерть,
И у неё глаза черны,
Но плащ его черней.
Нет драться сил, но ты дерись,
Не будет сил свалиться с ног.
Хватай и рви, сам рвись и ввысь
Стремись и расправляй крыло
Чернее ночи над собой,
Но плащ его черней.
Нет сил вдохнуть, но ты дыши,
Не будет сил не говорить.
Вой псов звенит в лесной тиши,
Они бегут и ты бежишь,
Туда, где с белых гор вершин
Ручья спасительная нить
К тебе протянется во тьме,
Но плащ его черней.
…
А глубоко в лесу, где пьяные от крови земли, раскинулся терновый куст, и из его ветвей у всадника венец на голове, и плащ у всадника из тени того куста, и у собак в глазах его плоды… А под кустом корней сплетенье и бьющихся живых сердец. Там будет и твоё, ну а пока плутай, запутывай следы и из последних сил беги, Беглец!
Не на птиц
Приморозил сердце холодок.
Если не подняться на крыло,
То быстрей беги.
Глаза его – снежника плоды,
Он читает в инее следы
И ставит силки.
Не на птиц.
Хрустит под ногами первый снег.
Кажется, будто охотник слеп,
Только бьёт метко.
Пойманных уже давно не счесть,
У охотника в чертогах есть
Несколько клеток.
Не для птиц.
Не ищи, не найти верных троп,
Все ведут в овраги или в топь,
Не найти тут край
И границы.
Этот охотник неутолим,
Будет идти по следам твоим.
Но не забывай —
Ты не птица.
Ты и мы
Огонь погас.
Глядим из тьмы
Тысячью глаз
Мы,
Мы,
Мы.
Мы красивые, мы бесстрашные,
Рождённые кровавой луною,
Выращенные в высокой башне,
На шпиле которой солнце злое
Горит неустанно глазом бога.
Не бойся, что нас так много.
Будем ласковы, послушны, немы
Мы,
Мы,
Мы.
Просто покажем пути через лес
К реке, оттуда к граду златому,
Где ждёт тебя господин и отец,
Просто покажем дорогу к дому,
Поможем пройти и через холмы
Мы,
Мы,
Мы.
Будешь его женою тысячной,
Самой любимой, самой желанной,
Златом увенчанной, высеченной
Сотнями лиц прекраснейших в камне.
Будешь заместо родной нам сестры
Ты,
Ты,
Ты.
Ты красивая, ты бесстрашная,
Рождённая морскими ветрами
В странах далёких, в мире не нашем.
Девочка, ну же, ступай за нами!
Тебя обласкает солнце злое,
Тебя искупаем в тёплой крови!
Мы знаем – желала той теплоты
Ты,
Ты,
Ты.
За плечами
Горят мосты.
Идёшь с нами
Ты,
Ты,
Ты.
Сёстры
Мелькают в тенях белые лица – это сёстры мои, мои сёстры-птицы. Не певчие – хищные, не сводные – кровные. Моя родня, но я им не ровня. Прячутся по лесам, рыщут средь тумана, ищут крови тёплой, ищут крови пряной.
Когти будто из стали, зубки – стеклянные сколы. Тот, кто встретит их стаю, не успеет сказать и слова, не вернётся к своим дорогим, не зажжёт уже очага…
Я не знаю рецептов других, только крепко сжимать в руках твои руки с когтями птичьими, только гладить поникшие плечи, делать вид, что мне всё привычно, что мы справимся – время лечит, вытирать с твоих губок алое, а потом лишь беззвучно молиться. Я устала, я так устала, я сама скоро стану птицей.
Ты ночами кричишь, сестричка, перья чёрные рвут твою кожу. Я смотрю в глаза твои птичьи, я сжимаю в ладони свой ножик… Только мне не ступить навстречу, сердце льдом застывает в груди. Мне помочь тебе, милая, нечем, и за это меня прости.
Мелькают в тенях белые лица – это сёстры мои, мои сёстры-птицы. Не певчие – хищные, не сводные – кровные. Не помнят дома, меня не помнят. Рыщут средь тумана, прячутся по лесам.
Где бы я ни пряталась – я слышу их голоса.
Бедовая
Чуть только на небо вспрыгнет луна – бежит через лес в пшеничное поле, и там до рассвета всё бродит одна, у барыни-ночи чего-то всё молит.
– Что молишь-то, Мила? – и сколь ни спроси, всё скажет одно:
– Любви.
– А что ль тебе мало в деревне парней?
Плечом поведёт – те все не по ней.
– А кто тебе нужен-то, девка-беда?
– Я буду ночного княжича ждать.
Растрёпаны волосы, глазки горят.
– Придёт он за мной, как зардеет заря. Приданое я уж давно собрала.
И держит в руках два птичьих крыла.
– У княжича есть золотая игла, он крылья пришьёт, чтоб летать я могла! Тогда поднимусь с ним в златые палаты, где люди живут от рожденья крылаты.
– Да ну тебя, Мила, ты бредишь никак. Такие мечты доведут до греха. А вдруг он и явится – княжич ночной…
– Я знаю, придёт, говорил он со мной!
– Да что ж с тобой, Мила? Отнялся уж разум от этих прогулок да бабкиных сказок. Давай-ка тебя отведу я домой.
– Смотри-ка, спускается княжич ночной!
На небо взглянуть – глаза ли не врут? – и правда пришёл он за ней поутру. Верхом на коне, что ночи черней, и в княжьем венце из лунных камней. На землю спустился, и схлынула мгла.
– Мой княжич ночной, я тебя так ждала! Приданое всё принесла я с собой – два птичьих крыла и брат мой родной.
Чуть только улягутся в доме все спать, уходит она в пшеничное поле, и горько рыдает под звёздами мать, вернуть ей детей у княжича молит.
И плачет сильнее, заслышав про плату.
Ей шепчет луна: приведи в поле брата.
Анахет идёт назад
Пою я песни пустыне
иссушенными губами,
твоё повторяю имя,
пусть унесут ветра.
О, брат мой, я помню ясно,
что приключилось с нами,
как солнце моё погасло,
и как я умерла.
О, брат мой, о, брат мой, зачем я умерла?
Меня хоронили змеи
в горячих песках сопрятав,
и чёрные скарабеи
копались в теле моём.
О, брат мой, я помню ясно —
это моя расплата,
к писцу воспылала страстью,
сгорели мы с ним вдвоём.
О, брат мой, о, брат мой, зачем сгорели вдвоём?
Ты обещал, что выйду
я замуж лишь полюбовно,
но не стерпел обиды,
когда полюбила я.
О, брат мой, смогла я ясно
эти слова запомнить,
но ты, облечённый властью,
решил не держаться клятв.
О, брат мой, о, брат мой, зачем не держался клятв?
Бежали с любимым ночью,
вином напоивши стражу,
собак отравили ловчих,
чтобы нас не нашли.
О, брат мой, я точно знала,
что ты нас казнить прикажешь,
что толку молиться мало
о милосердии.
О, брат мой, о, брат мой, о милосердии!
Потом бежали в пустыню,
и долго по ней плутали,
утихла во мне гордыня,
когда поняла – умру.
О, брат мой, хочу я верить —
терзали тебя печали,
душили тебя, как змеи,
когда вспоминал сестру.
О, брат мой, о, брат мой, ты вспоминал сестру?
Пою я песни пустыне
иссушенными губами,
твоё повторяю имя,
пусть унесут ветра.
О, брат мой, не знает Солнце,
что будет, когда настанет
тот день, в который вернётся
с пустыни твоя сестра.
О, брат мой, о, брат мой, вернётся твоя сестра!
Старый рыбак и Чёрный герр
Море холодное, скудный улов,
Лодка худая, а невод не нов,
Сам уже тоже к могиле готов
Всё плачет старый рыбак:
«Как получилось, что стал я так стар?
Слабые руки, плохие глаза,
Если бы раньше про это я знал,
Жизнь бы я прожил не так!»
Ветер несёт его плач над волной,
Тут же ответом приносит прибой
Голос холодный, такой молодой:
«Тебе помогу я, рыбак!
То, что ты стар – для меня не беда,
Мог бы я молодость вновь тебе дать,
Мог бы забрать все седые года,
Ценою всего в четвертак!
Если согласен, скажи: Чёрный герр,
Взываю к тебе, взываю к тебе!»
«Согласен на всё, на всё, Чёрный герр!
Взываю к тебе, взываю к тебе!»
Снова рыбак молодой и хмельной,
Но манит его лазурной волной,
Море, и шепчет о чём-то прибой,
Сердце стучит будто в шторм.
К Чёрному герру взывает снова:
«Герр, капитаном хотел суровым
Стать я и быть храбрее любого,
Быть покорителем волн!»
«Что же, рыбак, и это не горе!
Станешь таким капитаном вскоре,
Брось четвертак в закатное море —
И будет корабль тебе.
Парус его не боится ветров,
Мачты из крепких сосновых стволов,
Вместо команды достаточно слов,
Чтобы скользил по волне.
Если согласен, скажи: Чёрный герр,
Взываю к тебе, взываю к тебе!»
«Согласен на всё, на всё, Чёрный герр!
Взываю к тебе, взываю к тебе!»
И вот капитан парит над волной,
Море звенит и поёт за кормой,
И в пении голос слышен другой,
Как будто бы голос со дна:
«Смел и красив капитан корабля!
Прекрасна сладкоголосая я,
Как жаль, тебе меня в жёны не взять —
Навеки волне отдана».
Тут же на скалах в брызгах и пене
Видит её всего на мгновенье,
Прекрасна она как сновиденье!
Он Чёрного герра зовёт:
«Верни эту деву с морской глубины,
Мы с нею друг в друга так влюблены!»
«Ну что же, её подниму я из тьмы,
Готовь четвертак наперёд.
Если согласен, скажи: Чёрный герр,
Взываю к тебе, взываю к тебе!»
«Согласен на всё, на всё, Чёрный герр!
Взываю к тебе, взываю к тебе!»
Вдвоём на пустом корабле с женой,
Обвенчаны синей морской волной,
Под солнцем плывут, плывут под луной
К далёким краям и странам.
Не страшен им самый ужасный шторм,
Не нужен им отдых и сладкий сон,
Всё просто и славно, если влюблён,
И всё не кажется странным.
Как-то случилось – среди бела дня
Нагнали их два чужих корабля,
На солнце клинки матросов блестят —
Готовятся на абордаж.
Чёрного герра просил капитан:
«Хочу я стать сильным, как ураган!»
«Дам тебе силу, как молодость дал,
Коль ты четвертак мне отдашь.
Если согласен, скажи: Чёрный герр,
Взываю к тебе, взываю к тебе!»
«Согласен на всё, на всё, Чёрный герр!
Взываю к тебе, взываю к тебе!»
Вернулся домой с далёких морей
Рыбак-капитан с женою своей,
Только ему не откроют дверей —
Боятся хуже проказы.
Жена холодна и бледна как смерть,
На капитана всем страшно смотреть:
Два рога козлиных на голове,
В глазницах два жёлтых глаза.
К Чёрному герру он снова воззвал:
«Зачем мне рога твои и глаза?!
Верни мне лицо, верни, я сказал!
Вот, четвертак твой, держи!»
И капитан полез за монетой
Но понял – больше в кармане их нет.
«В море последнюю отдал ты мне,
Последнюю часть души.
Сказал мне, сказал мне, сказал: Чёрный герр,
Взываю к тебе, взываю к тебе!
Согласен на всё, на всё, Чёрный герр!
Взываю к тебе, взываю к тебе!»
Собака
Ой, ты же, девка, дура дурой,
Пошто пошла одна к кургану,
Зачем просила волчью шкуру
У старой знахарки упрямо?
Ой, ты же, девка, дура дурой,
Пошто тащилась через чащу,
Где повстречался знахарь хмурый,
У коего рогатый – пращур?
Ой, ты же, девка, дура дурой,
Зачем черпнула из колодца
Воды зеленовато-бурой,
Что мёртвой у людей зовётся?
Ой, ты же, девка, дура-дурой…
Зря полюбила волколака!
Сидишь с хвостом, одна, понуро.
А он к другой ушёл, собака.
Голоса
Без короля и мужа,
без пастыря, отца,
мы кружим, кружим, кружим,
вселяем ужас в души,
любовью жжём сердца.
…
Болят колени, устала спина,
кудри выбились из-под чепчика,
но так упорно молится она,
плачет о том, что была рождена
такой трусливой, слабой девочкой —
не слышит всё небесные гимны,
а слышит только их томный шёпот —
пугающий её и любимый,
рождающийся в тёмных глубинах
чащоб. И оседает как копоть
на сердце её молитва лесов,
молитва холодных от влаги трав,
молитва свободы – их главный зов,
звенящий погромче колоколов
в её голове. Пропадёт с утра,
затихнет он, и дневные труды
её займут до заката опять.
Муж нелюбимый ей до тошноты,
работа тяжёлая. Темноты —
манны небесной останется ждать
уставшей, разбитой, грустной, больной
и красоту потерявшей быстрей,
чем думалось ещё тогда, давно,
в детстве… И снова ночь, снова темно,
снова молиться, всё злее и злей,
чтоб голоса становились громче,
чтоб за собою звали и звали.
Она уже точно уйти хочет,
прямо сейчас, среди этой ночи,
лишь бы унять всю боль и печали.
Она напевает их песню. Как будто случайно.
Без короля и мужа,
без пастыря, отца,
мы кружим, кружим, кружим,
вселяем ужас в души,
любовью жжём сердца…
…
Поют ей голоса:
здравствуй, наша сестра!
Драуг
Я ушёл в мир Хель, Ингрид, навсегда —
я не человек теперь, но буду бродить по людским следам
быком без шкуры, лошадью с перебитой спиной, большой кошкой…
Может, во снах ты увидишь мою фигуру,
я так хочу, чтоб ты говорила со мной, хоть редко, хоть немножко.
Гляди на мой облик в тумане, но не подходи ближе,
пусть тебя не обманет мой голос, он стал тише и ниже,
будто из-под земли звучит, из-под камней.
Но не зови с собой, не ищи по следам, не рвись ко мне,
я сам приду, когда взвоет Гарм на весь Хельхейм.
Я буду драться не как эйнхерий.
Буду рвать зубами и когтями, зато тогда мне будет страх неведом.
А ты молись Фрейе холодными ночами, выходи из дома под взором её деда.
И, пока мы не враги с твоими родными,
пока Ясень ещё не в огне, просто вспоминай почаще моё имя.
Но не плачь по мне.
Девочки с клыками и без
Девочка как-то ушла в лес одна,
её кости нашли, как стаял снег.
Мать её видела потом во снах,
что за ней по следам шёл человек.
Ещё одна влюбилась в кузнеца —
он отрубил ей хвост, заковал в медь
и велел не сходить одной с крыльца,
а в сторону леса и не глядеть.
Сколько бывало таких неробких,
кого приманил огонь очага,
кто променял и клыки и когти
на тепло человечьих рук в руках…
Их не счесть, но
Послушай про девочку другую,
что ушла от людей поближе к нам.
Она плохо поёт и колдует,
совсем не умеет гадать по снам.
Она охотиться не умеет,
никогда не ест мясо сырое.
Но она, кажется, людей умнее
и не смогла с ними жить в неволе.
Она как человек ладит с огнём,
но волк ей всё же милее родни.
Она выживает здесь день за днём,
чтобы позлить человеческий мир.
Такие встречаются реже.
Ты засыпаешь, укрывшись хвостом,
другая же спит под одеялом.
Чёрные чащи тебе – милый дом,
ей до того избушки хватало.
Тебя манят ночью окон огни,
она считает, что стены – клеть.
Кажется, вас никак не сравнить,
только ведь…
только ведь…
Вы уйдёте в город или в леса,
видя безысходность в наших глазах.
Змейка
Кольца шуршат расписные будто во снах, только сны ли? Вьётся кольцо за колечком. В сумерках вышла на речку, кликнула эхом раскатным тварей ползучих закатных, топнула ножкой в сапожке – змейка уселась на ножке, глазки у змейки – рубины, шепчет наречьем старинным:
– Ах ты, старшая сестрица, что тебе ночью не спится? Ты для чего созывала братьев и сёструшек малых?
– Милая, ночью не спится, коль я не сжила убийцу. Крепко заснул он, не зная, что умирает родная. Я ведь ему говорила, что я нечистая сила, но, если шкурку я сброшу, стану девицей хорошей. Знал он – в такую девицу будет несложно влюбиться. Весело пробыли ночи… он полюбил меня очень. Молвил – мне ноченек мало, нужно, чтоб днём моей стала. Вырвалась, звонко смеясь – родненький, я же змея, быть не могу я женою, и не хочу, я не скрою. Взялся за горькие думы, знался со старой колдуньей, гадина та нагадала, что на губах моих алых страшное зреет проклятье, и от того не сказать мне, что я хочу быть женою, а не змеёю лесною. И подсказала управу. Срезала сонные травы, зелье сварила для дрёмы – и для меня мир стал тёмным… Слепо во сне я бродила, шкурку мою выжег милый! Нынче, малая сестрица, кольцами больше не виться, в чаще не ползать заветной, слабой я стала и смертной. Коли не сбудется чуда – я вас наутро забуду. Ты уж помочь мне не в силах, хоть за меня б отомстила!
Глазики змейкины алы – шух! – и нырнула во травы.
Кличет вослед ей сестрица, слово, что мёртвая птица падает в травы лесные, кольца шуршат расписные.
Вспомнить б лесное наречье, да льётся речь человечья…
Кольца шуршат расписные, будто во снах, только сны ли? Вьётся кольцо за колечком, змейка сидит под крылечком, змейка ползёт за порожек, змейка ложится у ножек, глазки у змейки – рубины… Будем прощаться, любимый.
Песня
Потухло солнце в ледяной воде
И растворилось без остатка
В чернильной глубине и темноте.
Мне страшно, в то же время сладко
Подняться к тонкой грани мира,
Откуда виден край эфира,
Олимпа пик, вокруг – созвездия,
Двенадцати богов приют.
Я выловила сферу Гестии
Под тем утёсом, где поют
Достойные ей жёны гимны.
И я запела, голос дивный
Пронесся над морской пучиной.
Я попросила у богини —
Хочу любить, любить мужчину,
Но на земле, не в волнах синих.
Молчал эфир, ни дуновенья,
Ни проблеска мне, ни виденья…
И я запела песнь морскую
Про красоту и глубину,
Про то, как без любви тоскую.
Но песнь моя зовет ко дну.
Не жажду я такой любви —
Мужчину юного обвив
Тяну его в пучины моря.
И холодеют губы быстро.
А чайки моей песни вторят.
Моя любовь – всегда убийство.
Как ни любила бы я страстно,
Моя любовь – всегда несчастна.
На охоту
Я душу зарыла под старой оливой,
Где шепчет ручей у корней.
А сердце своё трём собакам скормила,
Чтоб были быстрей и сильней.
Явился охотник на чёрном коне.
Явился за мной.
Ко мне.
– Идём на охоту, – мне всадник сказал,
– Ты видела зверя во снах.
Ты видела тысячи пастей оскал,
Две тысячи огненных глаз.
Ты видела Страх
И Смерть
И свет, что угас.
И я начала охоту за ним
Длиною в две тысячи лун.
Хитёр этот зверь и неуловим,
Следами его я иду.
И возвращаюсь
К старой оливе
В цвету.
Предсказание
Бросила тины, бросила ила —
спрятала солнце в омуте тихом,
волны звала и когтем крутила,
грозы напела, вызвала вихри —
всё, чтоб тебе и в море не выйти.
Рыбьему глазу, ракушкам в пене
пела вопросы, узнала судьбу.
Ждёт тебя смерть и ждут тебя тени,
ждут тебя вздохи с русалочьих губ.
Врут, что судьбу свою не изменишь.
Лучше растить ячмень и пшеницу,
лучше остаться в объятьях милой,
чем мертвецом на дно опуститься,
чтобы кораллы стали могилой.
Лучше в руке оставить синицу.
Только я зря накликала вихри —
ты так упрям, что не чувствуешь страх.
Лишь на мгновенье волны утихли,
в море уже ты уходишь с утра.
Плачет моя земная сестра.
Не дождалась тебя – умерла.
Бросила тины, бросила ила —
спрятала солнце в омуте тихом,
волны звала и когтем крутила,
грозы напела, вызвала вихри —
всё, чтоб тебе в том море погибнуть.
Медведица-принцесса
Стан девичий и руки девичьи… Так неправильно и непривычно быть без когтей и быть без клыков, слышать из горла крик, а не рёв. Я вырывалась – сил не хватило в теле девчонки тонком и хилом, будто засохшая старая ветвь. Взяли, скрутили, упрятали в клеть.
