Золотой век Бразилии. От заокеанской колонии к процветающему государству. 1695—1750
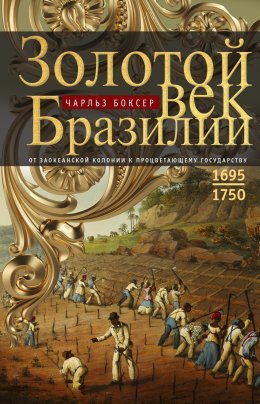
C.R. BOXER
The Golden age of Brazil
GROWING PAINS OF A COLONIAL SOCIETY 1695–1750
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2025
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2025
Глава 1
Империя Южной Атлантики
«Ад для черных, чистилище для белых и рай для мулатов» – так называли португальцы Бразилию во второй половине XVII в. Это саркастическое высказывание какого-то неизвестного острослова, произнесенное им то ли в шутку, то ли всерьез, все же в целом правдиво. Негры-рабы выращивали сахарный тростник и табак, которые легли в основу бразильской экономики. Труд рабов использовался повсюду: в домашнем хозяйстве, на плантациях, в шахтах и на приисках. Можно утверждать, что рабство повлияло на повседневную жизнь в колонизируемой Бразилии более широко и глубоко, чем любой иной фактор. Плантаторы и священники, офицеры и чиновники – в общем, все образованные люди сходились в одном: без притока рабов с Черного континента Португальская Америка была бы нежизнеспособной. Наш рассказ о лузитанской империи в Южной Атлантике времен начала правления Педру II, ставшего официально королем в 1683 г., правильнее всего начать с рассмотрения вопроса о взаимосвязях Бразилии с Западной Африкой, которая была обширным рынком черных рабов.
Португальский колонист из Мараньяна так писал в 1730 г.: «Не в обычае белых людей в этих краях или в любой иной из наших заморских колоний заниматься физическим трудом; в этом случае они обычно используют рабов, ставя перед ними конкретную задачу». Почти теми же словами несколько лет спустя монах-августинец, имевший большой опыт работы в полевой миссии в Замбии, выразил свое мнение, что «местным уроженцам не подобает видеть, как португальцы занимаются ручным трудом». И таких цитат можно было бы привести множество. Однако будет вполне достаточно еще одной. Архиепископ Баии сообщал в Португалию в 1702 г., что в его епархии насчитывалось около 90 000 душ, из которых большинство были черными рабами, и что «белые, их хозяева, только указывают рабам, что они должны делать». Идея величия труда не была распространена ни в те времена, ни на протяжении многих последующих лет, тем более в тропических колониях европейских держав. С первых дней колонизации Бразилии раба обычно называли «руки и ноги» хозяина (или хозяйки), и почти все белые, кроме, возможно, самых бедных, использовали труд рабов. «За исключением людей самого низкого социального положения, – писал Уильям Дампир[1] в 1699 г. после месячного пребывания в Байе, – редко кто не держит в своем доме рабов». Те, кто не мог позволить себе приобрести черных рабов из Африки, обратили свой взор на аборигенов-индейцев, особенно это касалось бедных и отдаленных областей, таких как Сан-Паулу и Мараньян. Американские индейцы были охотниками и рыболовами и также могли быть проводниками в джунглях и во внутренних засушливых районах страны, называемых сертанами[2]. Они продолжали жить в каменном веке и не были готовы перейти к оседлой жизни. Поэтому их было невозможно использовать в качестве рабочей силы в поселениях белых, располагавшихся вдоль всего побережья. К концу XVI столетия стало ясно, что без труда негров-рабов не обойтись. Они трудились на плантациях и на сахарных заводах, в домашнем хозяйстве плантаторов; они были плотниками и корабелами, сапожниками и каменщиками и владели другими профессиями.
Не португальцы придумали работорговлю, со временем их в этом обошли голландцы и англичане. Но они были первыми, кто применил рабский труд на плантациях, и зачастую в больших масштабах. Большую часть рабов из Заладной Африки первоначально покупали на побережье Гвинейского залива, и их набирали в основном из племен Западного Судана. Затем центр торговли переместился южнее, в королевство банту в Конго, а после основания Сан-Паулу-ди-Луанды в 1575 г. – в португальскую колонию Анголу, включая основанный позднее город-порт Бенгелу. В 1591 г. местный чиновник восторженно писал, как ему казалось, о неограниченных возможностях этого рынка «черной кости». Он уверял Лиссабон, что внутренние области Луанды так густо населены, что обильный поток рабов не прекратится «вплоть до скончания века». Однако менее чем столетие спустя власти уже жаловались на серьезное падение численности населения Анголы в результате внутренних войн, непосильного труда, отправки за океан рабов и частых эпидемий оспы.
Несмотря на уменьшение числа рабов на некогда самом большом невольничьем рынке Африки, португальцы в Бразилии продолжали завозить большую их часть из этого региона. Кроме всего прочего, для них было дешевле покупать рабов в Анголе, где они контролировали побережье и не имели соперников в лице иных держав. С побережья Гвинейского залива их со временем вытеснили голландцы, а из других мест – англичане. Португальцы все еще владели Кашеу и Биссау, которые были расположены напротив островов Зеленого Мыса, и могли торговать с Нижней Гвинеей, имея свои базы на островах Сан-Томе и Принсипи. Но их торговле в заливе препятствовала могущественная и агрессивная голландская Вест-Индская компания.
Рабовладельцы в Бразилии не были единодушны в оценке, какие рабы были самыми лучшими – родом из суданских племен в Гвинее или банту из Анголы. Спрос на рабов, как на любой иной товар, то повышался, то падал. Рабы-суданцы, как правило, были более сообразительными, физически сильными и работящими (когда они действительно хотели работать). Но в то же время были непокорными и менее расположенными мириться с рабской участью. Банту, наоборот, легче привыкали к своему зависимому положению, были более открыты в общении, но не были столь здоровы, чтобы легко переносить болезни.
У нас будет возможность обсудить в дальнейшем этот вопрос снова, но в итоге по экономическим и другим причинам рабы банту из Анголы и Бенгелы преобладали в Бразилии в конце XVII столетия. Известный иезуит падре Антониу Виейра в проповеди, произнесенной в 1695 г. в Байе, говорил риторически, но очень верно об Анголе, что «на скорбной крови ее черных жителей Бразилия возросла, живет и продолжает существовать».
В Гвинее португальцы и другие белые работорговцы покупали рабов у местных племенных вождей или через посредство своих агентов в европейских прибрежных торговых факториях. Совершенно другая система торговли существовала в Анголе. Часть рабов захватывали португальские карательные отряды, действовавшие против непокорных и взбунтовавшихся племен во внутренних областях страны. Рабов из мулатов и негров приобретали также бродячие торговцы – пумбейросы (pumbeiros). Они покупали рабов у местных вождей и доставляли их, закованных в цепи, отдельными партиями в Луанду. В каждой такой партии (которые назывались alimbambas или libambos) было от восьми до двенадцати человек. Им приходилось преодолевать сотни миль, прежде чем они прибывали в Луанду. Поскольку они были сильно истощены после длительного пути, их размещали в бараках на морском берегу и откармливали, прежде чем погрузить на корабли. В это время их массово крестили, что иначе как фарсом назвать было нельзя, потому что христианами они становились только по названию.
После того как рабы оказывались на борту, их сортировали согласно имевшимся стандартам, словно обычную вещь. Смертность среди рабов во время плавания через Атлантику была очень высокой, особенно на судах, отправлявшихся из Гвинеи. Они дольше были в пути из-за встречных ветров, так что эти суда заслужили прозвище tumbeiros, что в переводе означает «катафалки». В марте 1684 г., для того чтобы снизить смертность, был принят закон, регулировавший количество рабов на судне в соответствии с его водоизмещением. Судовладельцы и капитаны обязывались обеспечивать соответствующий рацион и питьевую воду для определенного числа рабов; это являлось элементарной предосторожностью, которую они часто игнорировали. Продолжительность плавания от Луанды до портов Бразилии должна была составлять: 35 дней – до Ресифи, 40 – до Баии и 50 – до Рио-де-Жанейро. Были также приняты правила, касавшиеся ухода за больными, количества провизии на борту, платы судовым капелланам и других вопросов. Этот закон распространялся только на корабли, отплывавшие из Анголы и Бенгелы, поскольку власти не могли осуществлять необходимый контроль над теми кораблями, которые отправлялись из Гвинеи. По-видимому, этот закон был не более эффективным, чем официальный запрет перегружать невольничьи суда, который был принят в 1664 г., но не имел конкретных результатов.
После прибытия в порт назначения выжившие рабы регистрировались и сортировались, как любой другой товар. Цена на них зависела, естественно, от их возраста, пола, физического состояния, а также от того, для каких работ они были предназначены. Судьба тех, кто работал в домашнем хозяйстве, описана в книге бразильского социолога Жилберту Фрейре «Усадьба помещика и жилище негра-раба» («Casa Grande е Senzala», 1933). Однако несколько слов необходимо здесь сказать о повседневной жизни большого числа рабов, кому выпало трудиться на плантациях сахарного тростника.
Во время сбора урожая, когда тростниковые стебли перемалывались в специальных мельницах, работа на плантации иногда продолжалась круглые сутки, в лучшем случае – от восхода до заката. В зимнее время или в сезон дождей рабочий день не был столь долог. Наиболее сознательные плантаторы не выгоняли своих рабов в поле до тех пор, пока солнце не поднималось достаточно высоко. Их кормили завтраком из «супа и меда, если он еще оставался». По воскресеньям и в дни памяти почитаемых святых рабам разрешалось потрудиться на своих крошечных земельных наделах после посещения церкви. Некоторые плантаторы пытались не дать им такой возможности, другие же, кроме этих дней, позволяли не работать и в субботу зимой, когда мельницы бездействовали. Клубни маниока и овощи были основными продуктами питания рабов, мясо и рыба были им недоступны. Все рабы должны были получать основы религиозного образования под руководством местного священника, исповедоваться раз в год и крестить всех своих новорожденных детей. На некоторых плантациях рабам разрешали, а иногда и поощряли, в праздничные дни и в минуты отдыха исполнять африканские племенные танцы под самобытную музыку. Однако священники смотрели на это с явным неодобрением и часто запрещали подобные развлечения. Надсмотрщик должен был ежедневно инспектировать жилище негров-рабов (senzald), чтобы удостовериться, что оно содержится в чистоте и порядке, выгонять всех до единого на работу, следить, чтобы рабы получали медицинскую помощь, и в случае опасного заболевания вызывать исповедника.
Районы работорговли португальцев в Западной Африке
Для поддержания дисциплины прибегали к суровым мерам, часто граничившими с садистской жестокостью, когда дело шло о телесных наказаниях. Некоторые плантаторы «из-за самых пустяковых нарушений бросали рабов живьем в печи или убивали их различными варварскими и антигуманными способами». Естественно, на плантациях с опытными управляющими старались избегать подобных варварских расправ. Обычно рабов секли. После экзекуции «им наносили порезы ножом или острой бритвой и в раны втирали соль, лили лимонный сок или мочу, затем их оставляли в кандалах на несколько дней». Женщин-рабынь обычно секли в помещении ради соблюдения приличий. Необходимо сказать, что, возможно, подобное жестокое обращение с рабами было свойственно не только португальским рабовладельцам. Так, французский путешественник Фроже, посетивший Баию в 1696 г. и описавший жестокое обращение с рабами, добавляет: «Хотя все это выглядит достаточно прискорбно, однако испанцы и англичане относятся к ним еще более жестоко».
Обращение с рабами, естественно, значительно различалось в зависимости от характера их владельца и от того, насколько он держал под контролем своего управляющего и надсмотрщиков, которые часто были мулатами и сторонниками самых жестких дисциплинарных правил. Там, где рабовладелец проявлял гуманность, где рабы были одеты и накормлены и могли заводить семьи, их быт был, возможно, не хуже, чем быт рабочего класса во многих странах Европы. Дети рабов, воспитанные на таких плантациях, в случае если их продавали во взрослом возрасте к более жестоким хозяевам, часто тихо угасали и умирали или сбегали. Там, где хозяин имел садистские наклонности, рабы-мужчины отправлялись в бега или совершали самоубийство, а женщины, забеременев, предпочитали делать аборты, чтобы не воспитывать своих детей в нечеловеческих условиях.
Спорный вопрос, насколько рабовладельцы были людьми гуманными, но случаи беспричинной жестокости были достаточно часты. Они вызывали не только протест таких деятелей, как Антониу Виейра, Бенчи, Антонил и маркиз Перейра, но и начали тревожить, хотя и несколько запоздало, совесть самого короля. Обращаясь в письме к генерал-губернатору Баии в феврале 1698 г., он приказал ему провести расследование о якобы негуманном обращении с рабами в Бразилии. Если подобные утверждения окажутся правдивыми, писал он, то генерал-губернатор должен пресечь все эти зверства при помощи самых решительных мер, однако стараясь, чтобы они «не вызвали возмущения среди белого населения и не привели в итоге к беспорядкам среди самих рабов, и тогда желанная цель будет достигнута». Высшие церковные власти также постоянно обличали жестокое обращение с рабами; но, судя по частоте, с какой повторялись подобные увещевания, к ним, видимо, не очень-то и прислушивались. Бразилия продолжала оставаться в общем и целом «адом для черных».
Что касается утверждения, что Бразилия была «чистилищем для белых», то оно было справедливо в основном для образованных придворных. Так, дон Франсишку Мануэл де Мелу прочувствовал смысл этой фразы только после ссылки в те края. Для большинства же его соотечественников это, наоборот, была обетованная земля, где во многих случаях их ожидала удача. Пьянящие «ароматы Индии» уже не кружили голову людям старшего поколения, как в прошедшие времена, когда «Золотое Гоа» было в самом расцвете. Большинство португальцев, отправлявшихся на Восток в конце XVII в., были либо солдатами-новобранцами, либо приговоренными к ссылке преступниками. В Бразилии встречался подобный тип людей, но большинство иммигрантов прибыло по своей воле в поисках лучшей доли и нового дома.
Гашпар Диаш Феррейра в 1645 г. писал: «У Португалии нет более плодородных земель, которые находились бы столь недалеко и давали бы более надежное и безопасное убежище, чем Бразилия. Тот португалец, которого преследуют несчастья, эмигрирует именно на эти земли». Эмиграция из Португалии, естественно, возросла еще больше после окончания войны с голландцами. И хотя Бразилия испытывала в 1670-х гг. экономический спад, на каждом корабле, приходившем в Баию из Порту, с острова Мадейра и Азорских островов, прибывало в Новый Свет по меньшей мере 80 крестьян. Десять лет спустя неизвестный автор, хорошо знавший Бразилию, утверждал, что каждый год «около двух тысяч человек из Вианы, Порту и Лиссабона эмигрируют в Пернамбуку, Баию и Рио-де-Жанейро». Белые женщины среди эмигрантов составляли незначительное число. Но, во всяком случае, жен, сопровождавших своих мужей в этом коротком и относительно безопасном плавании, было значительно больше, чем тех женщин, кто отправлялся в длительное и опасное путешествие, продолжавшееся полгода, в Индию.
Среди иммигрантов были не только безземельные крестьяне и безработные. Бразилия имела в Европе репутацию страны, где обычно живут долго; это касалось как местных жителей, так и европейских переселенцев. Сэр Уильям Темпл замечает в одном из своих эссе: «Я помню, как дон Франсишку де Мелу, посол Португалии в Англии, как-то рассказывал мне, что зачастую в его стране престарелые или больные люди, которые уже не надеялись протянуть больше, чем год или два, отправлялись в Бразилию. Там им удавалось прожить еще лет двадцать или тридцать или даже больше, обретя новые силы после переезда». Наиболее наглядный пример такого продления жизни дал пожилой падре Антониу Виейра, который вернулся в Бразилию в 1681 г. умирать, но прожил еще шестнадцать лет до дня своей смерти. Наряду с этими мнимо больными многие колониальные чиновники и купцы, составившие себе состояние, поселялись в Бразилии с семьями, хотя много было и таких, кто возвращался в Португалию.
У нас нет соответствующих статистических данных об эмиграции, но существуют отдельные случайные ссылки, указывающие, что большая часть эмигрантов в Бразилию приезжали из Северной Португалии, из Лиссабона и с Азорских островов и острова Мадейра, расположенных в Атлантическом океане. В северной провинции Энтре-Дуэру-и-Минью было развитое сельское хозяйство, но не хватало пахотной земли, чтобы прокормить быстро растущее население. Да и острова в Атлантике были перенаселены. Эмигранты с Азорских островов облюбовали для себя область Рио-де-Жанейро, где к 1630 г. они составили большинство населения. Предпринимались также усилия, хотя и без особого успеха, переселить группы крестьян с семьями с атлантических островов в Мараньян и в северо-восточные районы Бразилии. Также Лиссабон выделил большую квоту для переселенцев, и в Бейре их было значительное количество. Но среди тех, кто стремился улучшить свое положение, отправившись в Новый Свет, было мало уроженцев Алентежу, Траз-уж-Монтиша и Алгарве.
В сложившихся обстоятельствах в колониальной Бразилии не мог сформироваться класс белых крестьян-собственников, владельцев земли, которую они сами возделывали бы. Даже те, кто зарабатывал на жизнь с помощью кирки и мотыги в Португалии и на Азорских островах, не собирались заниматься тем же в Бразилии, если появлялась возможность этого избежать. Некоторые стали издольщиками (lavradores) на больших плантациях сахарного тростника, хотя они не работали сами, а только надзирали за трудившимися на них рабами. Другие занялись выращиванием табака. Поскольку урожай собирали на небольших земельных наделах, некоторые из них работали вначале, вероятно, сами. Однако к концу столетия каждый крестьянин уже имел в среднем одного-двух рабов. Некоторые работали плотниками, каменщиками и занимались другими ремеслами в городах. Но, опять же, как только они скапливали достаточно денег, чтобы купить раба, то сразу же это и делали. «Все эти торговцы покупают негров, – писал Уильям Дампир после посещения Баии в 1699 г., – и учат их своему ремеслу, и их труд является для них большим подспорьем». Эти «мастеровые», как их презрительно называли, создавали братства, имевшие в главных городах характер гильдий. Но им так и не удалось стать столь же зажиточными и с положением в обществе людьми, как этого добились их компаньоны в Испанской Америке. Тем не менее некоторые отдельные одаренные их представители своим примером сумели опровергнуть глубоко укорененный предрассудок в отношении любого человека, который живет трудом своих рук. История успеха, которого добился Антониу Фернандеш де Матуш, эмигрировавший в Пернамбуку, будучи бедным каменщиком, и ставший одним из самых богатых и наиболее уважаемых жителей капитании, не была явлением уникальным.
Те из эмигрантов, которые были грамотными, становились преимущественно чиновниками, кассирами, помощниками продавцов в магазинах или уличными торговцами, работавшими за свой счет или на комиссионной основе. Когда эти переселенцы прибывали в страну, их устраивали на работу родственники или знакомые, которые эмигрировали ранее и уже твердо обосновались на новом месте. В дальнейшем их успех уже зависел от них самих, от их трудолюбия, упорства и бережливости. Состоявшиеся предприниматели обычно нанимали на работу вновь прибывших иммигрантов, а не передавали свое дело сыновьям. Их родившиеся в Америке наследники были, как считалось, менее предприимчивыми и работящими, чем новые иммигранты. Недаром в Ланкашире бытовала пословица: «От деревянных башмаков до деревянных башмаков проходит всего три поколения». То есть, как бы ни разбогател человек, его правнук растратит весь семейный капитал. В Бразилии тоже была подобная пословица: «Отец – владелец таверны, сын – благородный человек, внук – нищий». Можно смело утверждать, что многие открывающиеся вакансии, на которые претендовали «сыны земли» (filhos da terra), то есть местные жители, как правило, занимали иммигранты. Более того, первые пользовались расположением государственных чиновников, большинство из которых были родом тоже из Европы. По этой и иным причинам существовала взаимная нелюбовь и недоверие между этими двумя категориями вассалов португальской короны. В дальнейшем мы увидим, как эта неприязнь дважды приводила к гражданской войне.
Различные писатели того времени явно с намерением привлечь потенциальных эмигрантов представляли Бразилию как земной рай с вечной весной, где прекрасный климат, где продукты питания и плодородие почвы значительно превосходят все, чем располагает Европа. Большинство эмигрантов были, вероятно, неграмотными, но те, кто прочитал эти хвалебные оды, должно быть, сильно разочаровались вскоре после своего приезда. Они ожидали увидеть буйную красоту вечнозеленых ландшафтов Бразилии и насладиться плодами ее земли и безмятежным спокойствием ее тропических ночей под небом, на котором сияет Южный Крест. Однако авторы этих одиозных сочинений тактично избежали упоминания, к примеру, о многочисленных насекомых, ставших бичом сельского хозяйства и с которыми при всех возможностях науки той эпохи невозможно было бороться. Сохранился рассказ 1623 г. некоего голландца, как поселенцы, встревоженные нашествием гигантского муравья-эндемика, окрестили его «королем Бразилии» (Rei do Brasil). Во многих районах страны свирепствовали различные опасные для человека лихорадки, и были совершенно непонятны причины тропических заболеваний, неизвестны способы их лечения. Имевшие ужасные последствия засухи повторялись в некоторых районах Бразилии подряд в течение нескольких лет. В сезон обильных дождей случались разрушительные наводнения. Несмотря на то что почва в некоторых местах была плодородной, в районах выращивания сахарного тростника в Байе и Пернамбуку она была очень бедной, в ней недоставало органических веществ; это обнаружилось после того, как все тропические леса были сведены ради посадок тростника. Недостаток кальция был (и остается) особенно серьезным фактором, неблагоприятно влияющим на пищевую ценность некоторых сельскохозяйственных культур. Жуан Пейшоту Вьегаш так писал из Баии в 1687 г. о рисках тропического земледелия: «Это подобно акту зачатия, во время которого его участник еще не знает, каков будет результат, появится ли в итоге мальчик или девочка, здоровый ребенок или больной; все это обнаружится только после рождения».
Но первопроходцам приходилось считаться не только с капризами природы. В некоторых капитаниях, таких как Ильеус и Эспириту-Санту, все еще представляли реальную угрозу непокоренные племена каннибалов. В глуши лесов и в сертане существовали поселения беглых негров-рабов киломбу (quilombos), которые были объектом пристального внимания со стороны плантаторов, заинтересованных в использовании этой дешевой рабочей силы в собственном хозяйстве. Судопроизводство в колонии было неэффективным и коррумпированным. Те, кто рискнул освоить участок земли во внутренних районах или начал разводить скот, могли лишиться и того и другого. Землевладелец-латифундист знал, как дать взятку служителю закона. Обременительным налогом облагались основные экспортные товары, в первую очередь сахар и табак, хотя с помощью контрабанды иногда удавалось его обойти. Среди важнейших импортных товаров была соль, на которую с 1631 г. была установлена королевская монополия. Созданная в 1649 г. Бразильская компания имела монополию на вино, муку, оливковое масло и треску. Несмотря на все имевшиеся препятствия для развития хозяйства, Бразилия все еще была страной больших возможностей, но только для людей целеустремленных и авантюристов.
Процесс колонизации был в основном ограничен поясом слабо связанных между собой прибрежных поселений, который протягивался от дельты Амазонки до Сан-Висенти, редко где имевшим ширину более 30 миль. В этом аспекте, как и в ряде других случаев, Португальская Америка была полной противоположностью испанским вице-королевствам Мексики и Перу. Проникновение во внутренние области Бразилии ограничивалось отдельными рейдами с целью поимки рабов, которые организовывали жители Сан-Паулу. Оно приняло более отчетливые формы после окончания войны с голландцами, когда открылся доступ в окружавшие Пернамбуку и Баия области. К 1690 г. первопроходцы поднялись более чем на 900 миль вверх по долине большой реки Сан-Франсиску. Однако постоянных поселений все еще было мало, это были примитивные ранчо. Миссии иезуитов проникли вглубь страны по долине Амазонки и по некоторым ее притокам, но их поселения (aldeias) не могут рассматриваться как поселения белых колонизаторов, о чем будет сказано ниже. Колонизирована была только узкая прибрежная полоса с тремя относительно населенными районами Пернамбуку, Баия и Рио-де-Жанейро. В стремительно развивавшихся портах Ресифи, Салвадор и Сан-Себастьян для безденежных переселенцев из Португалии жизнь могла показаться чистилищем, но значительная их часть, несомненно, преуспела в новой жизни.
Что касается положения мулатов в колониальной Бразилии, то мне кажется, что как нельзя лучше о нем рассказывает миссионер Антонил:
«Многие из них порочны, заносчивы и гордятся, что готовы в любой момент совершить самое страшное преступление. И притом они, как мужчины, так и женщины, обыкновенно более удачливые, чем кто-либо еще в Бразилии. Благодаря тому, что в их жилах течет часть крови их белых хозяев, они могут так запутать и сбить их с толку, чтобы получить желаемое, что те готовы простить им все их проступки. Может показаться, что их хозяева не только не осмеливаются выбранить их, но и не способны ни в чем им отказать. Нельзя сказать, кто более достоин порицания в этом случае – хозяин или хозяйка. Поскольку можно найти такие пары, которые позволяют далеко не лучшим мулатам сесть себе на шею, оправдывая пословицу, которая гласит, что Бразилия является адом для негров, чистилищем для белых и раем для мулатов, мужчин и женщин. Мы не говорим здесь только о тех случаях, когда по причине возникшего подозрения или ревности эта любовь превращается в ненависть, и тогда она прибегает к жестоким и суровым мерам. Хорошая вещь – воспользоваться их способностями, когда мулаты расположены делать добрые дела. Но ни в коем случае нельзя заходить столь далеко, чтобы оправдалась поговорка „Дай ему палец – и он всю руку откусит“. И тогда из рабов они превращаются в хозяев. Освобождение своенравной женщины-мулатки ведет ее к гибели, потому что то золото, за которое она покупает свою свободу, берется не из шахт; его источником служит ее собственное греховное тело. В дальнейшем после своего освобождения мулатки становятся причиной гибели многих людей».
Хорошо известно, насколько привлекательными для португальцев были цветные женщины. Добавить к этому больше нечего, достаточно привести пару примеров из XVII в. В 1641 г. советники муниципалитета Баии негодовали, что местные девушки-рабыни ходили в столь ярких одеждах и носили «украшения, которые их воздыхатели дарили им, что дело приняло такой оборот, что многие женатые мужчины оставили своих жен и потратили все свое состояние», чтобы насладиться прелестями этих падших девиц. Подобные жалобы можно было услышать от генерал-губернатора дона Жуана де Ленкаштре и Совета по делам заморских территорий в 1695–1696 гг.; утверждалось, что даже священники не свободны от этих искушений. При чтении этих жалоб сразу вспоминается неподражаемый рассказ Томаса Гейджа о соблазнительных девушках-мулатках в столице Мехико того времени. Он отметил, что «многие благородные испанцы, которые столь склонны к распутному образу жизни, презрели своих жен ради них… эти мулатки в белых мантиях были, как сказали бы испанцы, mosca en leche («муха в молоке»; разговорное выражение, означающее «смуглая женщина в светлой одежде»). Гейдж добавляет, словно предваряя слова Антонила, что «большинство из них являются, или были прежде, рабынями, хотя любовь дала им свободу, чтобы порабощать души греху и Сатане».
Имеются также свидетельства, что во время голландского завоевания Пернамбуку в 1637 г. многие владельцы сахарных плантаций бежали на юг со своими любовницами-мулатками, посадив их на коня позади себя. В то время как их брошенные белые жены, простоволосые и босые, спасаясь от преследований врага, продирались сквозь колючий кустарник и шли через топкие болота. Конечно, не только зажиточные плантаторы и респектабельные горожане способствовали увеличению населения из метисов, беря в наложницы негритянок и мулаток. В действительности, чем ниже стояли люди на социальной лестнице, тем больше они заключали смешанных браков по вполне понятным причинам. Солдаты из городских гарнизонов, моряки с заходивших в порт кораблей, белые бедняки всякого рода свободно сходились с негритянками «из-за недостатка белых женщин», как заметил солдат-хронист Кадорнега из Луанды, находясь на другом побережье Атлантики. Большинство детей-мулатов, рожденных от таких союзов (в большинстве своем скоротечных), не имели, естественно, образования и не знали, что значит жить в настоящей семье. Одни неизбежно становились отчаянными преступниками, другие – опустившимися проститутками, которые своим буйным поведением постоянно причиняли головную боль колониальным властям.
Антонил признавал, что дисциплинированные мулаты, потомки белых и негров, лучше выполняли квалифицированную работу, чем негры. Однако согласно колониальному законодательству они подвергались большей дискриминации, чем мамелуко (родившиеся от брака белого человека и индианки) и кабокло (родившиеся от брака индейца и белой женщины). Так называлось потомство от смешанных браков приезжих белых и американских аборигенов. Свободные мулаты обоих полов часто заключали браки с рабами-неграми, мужчинами или женщинами. Но даже им запрещалось иметь при себе оружие, носить дорогую одежду; кроме этого, существовало многих других запретов, которые препятствовали тому, чтобы они заняли равное положение с белыми. Им не разрешалось занимать официальные посты в церкви или на государственной службе, хотя часто этот запрет игнорировался на практике, как в случае с падре Антониу Виейрой, бабушка которого была простой мулаткой. Это не помешало ему стать членом Общества Иисуса. Пылкая страсть, которую испытывали белые мужчины к мулаткам и негритянкам, особенно ярко отразилась на карьере Шики да Силва, к истории которой мы вернемся позже. Итальянский монах так описывал отношение мулатов Анголы, которое было отчасти характерно и для Бразилии: «Они смертельно ненавидят негров, даже своих матерей, которые произвели их на свет, и делают все возможное, чтобы сравняться в своем положении с белыми. Но это им не дозволяется, им даже не разрешается сидеть в их присутствии». Мулаты могли добиться и добились высокого положения в колониальном мире Бразилии; в качестве примера можно привести карьеру Жуана Фернандеша Виейры, незаконнорожденного сына мулатки-проститутки. Он стал зажиточным плантатором-сахарозаводчиком, вождем в «войне за божественную свободу», которая велась против голландцев в 1645–1654 гг., и, наконец, губернатором Анголы и Параибы. Но Фернандеш Виейра и ему подобные личности добились известности вопреки общественным предрассудкам и обычаям, которые существовали в колониальный период и мешали их продвижению. Эти предрассудки, как и в других европейских колониях, были основаны на убеждении, что мулатам почти неизбежно присущи пороки, но никак не добродетели, так как в них смешалась кровь двух рас. Чем светлее был цвет их кожи, тем больше они имели шансов сойти за белых и подняться по социальной лестнице.
В пословице, отображавшей положение жителей Бразилии белых, черных и с оттенком кожи цвета кофе, совсем не упоминались краснокожие индейцы и те, в чьих жилах текла их кровь. Их роль к этому времени была значительно меньшей, чем трех других рас, но о них необходимо здесь сказать хотя бы несколько слов. В результате встречи и слияния культур европейцев, африканцев и американских индейцев последние, несомненно, пострадали больше всего. Это неудивительно, ведь бразильские индейцы все еще пребывали в каменном веке, когда на континент прибыли португальцы, как, впрочем, и большинство тех, кто выжил, ушел во внутренние лесные районы страны и продолжал вести подобный образ жизни. Если африканцы, будь то суданцы или банту, имели хоть какое-то понятие о рабстве, проживая еще в Африке, и опыт оседлой жизни и ведения сельского хозяйства, то индейцы Бразилии находились на первобытной стадии развития. Они представляли собой кочевые племена, занимавшиеся собирательством, которые были плохо приспособлены к рутинному аграрному или любому другому виду принудительного труда.
Этот значительный недостаток не помешал португальским колонистам превратить их в рабов в основном потому, что белые люди были не склонны заниматься тяжелым ручным трудом в тропиках. Но отчасти это объяснялось тем, что индейцы, еще не испорченные контактом с европейцами, были в отличной физической форме. Они производили впечатление людей сильных и выносливых, которых можно использовать в качестве рабочей силы. Я уже упоминал о распространенном среди колонистов убеждении, что индейцы в привычной для себя среде способны прожить до очень преклонного возраста. И представление португальцев той эпохи об их физических способностях отражено в записях иезуита падре Симана де Вашконселуш:
«Очень редко можно найти среди них хотя бы одного человека уродливого, слепого, хромого, немого, глухого, горбатого или имеющего какой-либо иной дефект, что часто имеет место в других странах света. У них черные глаза, плоские носы, большие губы, гладкие черные волосы, но борода у них не растет, встречается лишь у некоторых. Они живут очень долго, многие из них доживают до столетнего возраста или даже до ста двадцати лет. Даже становясь дряхлыми стариками, они не седеют. В детском возрасте они очень послушны, сообразительны, умны и нежны; но когда становятся взрослыми, то постепенно теряют эти качества, словно становясь другими. Они относятся друг к другу учтиво, если не пьяны; но как только напиваются, то начинают страшно кричать и танцевать день и ночь напролет, устраивая ссоры и драки».
По представлениям европейцев, эти индейцы были безбожниками, но нет никакого сомнения, что по тому, как они соблюдали правила личной гигиены и поддерживали чистоту в жилищах, они значительно превосходили в этом приезжих. Они часто, при первой возможности, мылись, тогда как большинство правоверных христиан опасались мыться в проточной воде, совсем как ребенок, который, раз обжегшись, боится огня. Является фактом, что европеец был неимоверно нечист и грязен в сравнении со средним азиатом, африканцем и индейцем; и смешно наблюдать реакцию белого человека, когда его посещает мысль о необходимости регулярно принимать ванну. Иезуит Алессандро Валиньяно, проповедовавший в Японии, португальский капитан Жуан Рибейру, побывавший на Цейлоне, да и каждый наблюдательный путешественник были свидетелями превосходства так называемых «варваров» в этом отношении. Даже презираемый негр из Африки, по мнению проницательных наблюдателей, в большей степени, чем белый человек, соблюдал правила гигиены, если не был принужден жить в грязи. Один много путешествовавший испанский монах-доминиканец утверждал, что вши, досаждавшие европейцам на их континенте, сразу исчезали, когда их носители прибывали в Азию или в Америку. И снова становились неразлучными компаньонами путешественника, едва ступившего на родной берег.
Португальские первопроходцы легко сходились с индеанками при первой же возможности и перенимали некоторые индейские традиции, такие как купание в реке, использование маниоковой муки при выпечке хлеба и пользование гамаками. Однако это не помешало подавляющему большинству тех португальцев и их потомкам вплоть до эпохи Помбала[3] относиться к индейцам-аборигенам с глубоким презрением и обращать их при каждом удобном случае в рабов. Представление о «благородном дикаре», которое восходит к ранней французской литературной традиции, не разделялось португальцами, общавшимися с аборигенами. В намерения колонистов входило или обратить их в рабов, или просто убить. Идеализация индейцев не имела места в Бразилии, пока эта страна в начале XIX столетия не освободилась от португальского господства. Бразильцы, не желая признавать свое лузитанское прошлое, сменили свои родовые фамилии Соуза, Кошта и другие им подобные на экзотические имена на языке тупи, такие, например, как Парагуассу. Более того, даже в колониальную эпоху иметь индейское происхождение считалось делом более благородным или, по крайней мере, менее бесчестным, чем породниться с негром с его неизбежной печатью рабства. Поэтому многие люди с африканской кровью пытались позиционировать себя как потомков индейцев. Тем более что церковь и государство осуждали рабство американских индейцев, а вот обращение в рабов африканцев даже временами поддерживали.
Иезуитские миссионеры, в частности, стремились предотвратить обращение в рабов индейцев, которых намеревались цивилизировать и обратить в христианство. С этой целью они собирали их в миссиях-поселениях. Тем самым они защищали индейцев от полного уничтожения и от окончательной их ассимиляции белым человеком. Но строгая система надзора и навязываемые христианские правила поведения не способствовали дальнейшему развитию индейцев. Поселения напоминали собой сиротские приюты или школы-пансионаты, которыми управляли священники, и хорошо, если они были набожными. Таким образом, от миссионеров было больше вреда, чем пользы. Иезуиты, в отличие от колонистов, верили, что индейцы имеют определенные, присущие им от рождения добродетели, которые они были намерены совершенствовать. Но считали, что к индейцам следует относиться как к повзрослевшим детям и что в обозримом будущем их невозможно будет образовать до такой степени, чтобы сделать из них священников. Из-за стечения непредвиденных обстоятельств, о которых будет сказано в дальнейшем, миссионеры были вынуждены с неохотой позволить индейцам заниматься ручным трудом в хозяйстве колонистов и только при соблюдении оговоренных условий. Они редко шли на такие уступки, насколько это было возможно, и старались защитить своих неофитов от деморализующих контактов с белыми и мулатами.
Колонисты смотрели на индейцев совершенно другими глазами. Они были твердо намерены использовать мужчин в качестве рабов, а женщин сделать своими женами, наложницами или домашними служанками. Даже после того, как стало ясно, что негры лучше справляются с работой по дому и в поле, обращение в рабство индейцев продолжилось. Особенно это касалось тех областей, где колонисты не могли позволить себе завозить черных рабов или условия жизни были более подходящими для индейцев. Это был южный регион Сан-Паулу-де-Пиратининга и северный регион Мараньян – Пара. На плато Пиратининга колонисты часто вступали в интимные связи с женщинами-индеанками; они овладели многими необходимыми в диких джунглях ремеслами и навыками. Житель штата Сан-Паулу нередко становился бандейранте[4] – это был южноамериканский вариант франко-канадского траппера (coureur-des-bois). Он чувствовал себя как дома на лесных и разных ландшафтных тропах и уходил за сотни миль от побережья во внутренние районы страны во время частых экспедиций в поисках рабов, драгоценных металлов и изумрудов.
В регионе Мараньян – Пара существовала густая сеть больших рек с многочисленными притоками, которые были единственным средством связи между редкими и малонаселенными поселениями. По ним, как по реке Амазонке, было легко проникнуть вглубь страны. Падре Антониу Виейра во время путешествия вверх по реке Токантинс в 1654 г. писал, что колонисты полностью зависят от подневольного труда индейцев и при этом нисколько не заботятся о быте тех, кто трудится для них.
«Здесь стоит заметить, что именно индейцы строят каноэ с навесами и конопатят их, плавают на них, работая гребцами. И мы видели много раз, как они переносят каноэ на своих плечах по тропам-волокам. Они также, проведя дни и ночи на веслах, отправляются искать пропитание для себя и португальцев (которые всегда питаются лучше и больше). Они также строят хижины для нас, и, если нам случается идти по берегу, им приходится нести поклажу и даже оружие. За весь свой труд бедные индейцы не получают ничего, кроме оскорблений, самое мягкое из которых слово «собаки». Самое лучшее, на что могут надеяться эти несчастные создания, – это найти такого главного в экспедиции белого, который не стал бы так к ним относиться, но это случается крайне редко. Бывали такие экспедиции, из которых не возвращалось более половины индейцев из-за тяжелого труда и жестокого обращения».
Религиозные верования американских индейцев, и в меньшей степени африканских банту, основывались на чувстве страха. У обеих рас имелось множество табу, которые отчасти породил тот ужас, который они испытывали перед джунглями. Для них был реален мир духов. Колдовство и ведовство играли большую роль в их жизни. Миссионеры-иезуиты в Южной Америке часто записывали со слов индейцев страшные истории, как дьявол или его подручные непосредственно вмешивались в происходившие повседневно события. Новообращенные христиане банту и индейцы легко воспринимали внешние знаки и символы католической веры; они носили кресты и имели при себе четки-розарии, почитали образы святых. Александр Гамильтон писал о неграх-рабах из Мозамбика: «Приняв крещение, они вешают на шею небольшое распятие или образок с изображением святого, сделанные из латуни или слоновой кости, и очень им радуются, подобно мартышке, которой нравится играть с котенком». Такое нелестное сравнение не относится, конечно, ко всем цветным новообращенным. Братства Пресвятой Девы Марии Розария, которой поклонялись негры-рабы в Бразилии, объединяли мирян, которые были искренними верующими. Но по вполне понятным причинам большая часть рабов имели самое смутное представление о христианстве. Племенные верования предков сильно влияли на их восприятие католицизма.
Завершая этот краткий и, естественно, несколько поверхностный обзор общественной жизни Бразилии в последней четверти XVI столетия, мы можем отметить, что большинство населения было смешанного происхождения, хотя различия между регионами были большими. В Мараньян – Пара преобладали индейцы, второе место по численности занимали мамелуко и кабокло, третье – белые и мулаты, и самыми малочисленными были негры. В населенных городах Ресифи, Салвадор, Рио-де-Жанейро и в окружавших их районах, наоборот, преобладали негры и мулаты, белые были на втором месте, индейцы и кабокло – на третьем. В регионе Сан-Паулу самыми многочисленными были мамелуко, а людей с примесью негритянской крови было (как и чисто белых) сравнительно мало. В недавно заселенных внутренних скотоводческих районах, в частности в долине реки Сан-Франсиску, было настолько большое смешение представителей трех рас, что оставалось только догадываться о реальном их соотношении. Однако, возможно, индейцы и негры составляли большую часть работников ферм. В итоге существовали значительные иммиграционные потоки из Португалии и с островов в Атлантическом океане, с одной стороны, и из Западной Африки – с другой. При этом численность индейцев сокращалась – их косили заразные болезни и непосильный труд. Имелись и другие отрицательные факторы. К примеру, суровые условия жизни в иезуитских поселениях.
Несмотря на риски тропического земледелия в Бразилии и превратности работорговли в Анголе, существование Португалии как независимого государства теперь в значительной степени основывалось на ресурсах, которые она получала из этих двух регионов Южной Атлантики. Один английский моряк, посетивший Бразилию в 1664 г., писал: «В стране изобилие сахара, который является самым лучшим из всех производимых его сортов». Он также сообщал, что в Рио-де-Жанейро, Салвадоре и Ресифи «круглый год на корабли грузят сахар, табак и древесину из бразильских лесов для купцов Португалии; это невероятно обогащает португальскую корону, и без этих товаров королевство просто обеднело бы». Это было сказано не в шутку, тем более когда первый португальский король из династии Браганса дон Жуан IV назвал Бразилию своей «дойной коровой» (vacca de leite), а экономика Бразилии зависела, в свою очередь, от непрерывной поставки рабов из Анголы. Конкуренция в производстве сахара особенно обострилась в последней четверти XVII столетия в результате роста экспорта сахара из Барбадоса и с других карибских островов. Английский консул Мейнард в Лиссабоне, «чрезвычайно деятельный представитель своей страны», в 1683 г. писал, что англичане экспортировали из Бразилии через Португалию «невиданное количество сахара». Спустя 16 лет Уильям Дампир привел убедительное свидетельство, что бразильский сахар превосходил по качеству сахар Вест-Индии. Он лично наблюдал, как выращивали тростник и производили сахар-рафинад в Байе.
Англичане в значительной мере способствовали поддержке торговых связей между Лиссабоном и бразильскими портами, поскольку Португалия имела недостаточно большой флот, как и Бразилия, и была вынуждена в значительной мере полагаться на фрахт иностранных судов. Мейнард в 1670 г. сообщал, что «обеспечение англичанами судоходства между Португалией и Бразилией очень выгодно королевству [Англии]; каждый год в этом предприятии участвуют от десяти до двенадцати судов с большим водоизмещением. Это военные корабли, с полным экипажем, которые развивают нашу навигацию и поощряют нас к продолжению их дальнейшего строительства». Англичане были недовольны сложившимся положением, но постоянно обращались к португальскому правительству за разрешением торговать с Бразилией самостоятельно, приводя в поддержку своего требования текст договоров 1654 и 1661 гг. Однако португальцы твердо стояли на своем; причину этого так в 1682 г. объяснял английский посол в Лиссабоне Чарльз Феншоу: «Они тщательно и заботливо охраняют торговлю с Бразилией; эти морские пути – единственное, что у них осталось, и они полагают, что иностранцы намерены лишить их и этого». Тем более если допустить их к торговле на равных условиях.
Португальские торговые пути, которыми так хотели воспользоваться англичане, представляли собой «треугольник», в вершинах которого были Португалия, Бразилия и Ангола. Корабли, отплывавшие из Лиссабона и Порту в Луанду, везли самые разнообразные европейские промышленные товары, а также некоторую часть китайских и индийских товаров, которые импортировались в Лиссабон из Гоа. Так как ассортимент производимой Португалией продукции был явно недостаточным, чтобы удовлетворить потребности ее Южной Атлантической империи, большая часть корабельных грузов состояла из товаров, закупленных в других странах Европы. Английские товары составляли среди них львиную долю. Более восьмидесяти судов, «больших и малых», были заняты в ежегодном экспорте шерстяных изделий в Португалию из Лондона, Бристоля и портов на западном побережье Англии. И это не считая шестидесяти судов, осуществлявших ловлю трески в водах Ньюфаундленда и продававших ее Португалии. Также неопределенное число судов, груженных рыбой, отправляли непосредственно из Англии.
Ангола экспортировала практически только рабов банту и слоновьи бивни – «черную и белую кость». Торговля этими двумя товарами развивалась стремительно, несмотря на экономический кризис, который переживала тогда Португальская империя. Он стал следствием падения цены на бразильские сахар и табак и ростом цен на зерно, ткани и другие важные товары из Северной Европы. Цена рабов выросла вдвое между 1640 и 1680 гг. В 1681 г. Кадорнега пишет, что ежегодно в бразильские порты приходили суда с восемью – десятью тысячами взрослых рабов из Луанды, в гавани которой всегда можно было видеть до двадцати торговых кораблей, зачастую большого тоннажа и вооруженных пушками. Рабов приобретали на европейские или бразильские товары, такие как текстиль, ром и водка из сахарного тростника – кашаса (cachaçá) – и табак. Пошлины, взимаемые за экспорт рабов, составляли большую часть денежных поступлений, которые шли на содержание гарнизонов, зарплаты королевским чиновникам и священникам, не говоря уже о цене мира с республикой Соединенных провинций. Право на покупку рабов имели контрагенты, которые платили короне определенную сумму за пользование этой привилегией на протяжении оговоренного срока. По истечении его они могли покупать рабов за свои деньги или, что было более обычным явлением, передавать свои права тому, кто оплачивал им лицензионные платежи.
После прибытия в Бразилию рабов обычно продавали за сахар и табак, которые отправляли на судах в Португалию. С падением цен на сахар в последней четверти XVII столетия многие лиссабонские купцы начали требовать, чтобы им платили наличными, а не натурой, в результате чего экспорт валюты в Португалию привел к серьезному финансовому кризису в Бразилии. Груженные сахаром корабли, начиная с 1649 г., сопровождали конвойные суда для защиты их от голландских каперов. Но и после заключения мирного договора с Соединенными провинциями (1669) эта практика была продолжена из-за угрозы со стороны пиратов-берберов, корабли которых часто появлялись у берегов Португалии и в районе Азорских островов. Эти конвои были очень непопулярны в Бразилии, так как даты отплытия и прибытия были неопределенными и редко совпадали с временем сбора урожая. В 1690 г. была предпринята попытка установить сроки отплытия бразильского флота из Португалии между 15 декабря и 20 января, а его возвращение из Бразилии намечалось между последними числами мая и 20 июля, но отклонения от принятого графика были довольно часты. Товары копились на складах, а партии сахара иногда ждали отправки в течение двух лет. Эти задержки влияли на качество сахара, и это было одной из причин роста экспорта сахара с Антильских островов в ущерб бразильскому продукту, несмотря на его лучшее качество. Тем не менее, по свидетельству Дампира, в 1699 г. торговля в Байе процветала, и это был самый важный город в Португальской империи после Лиссабона.
Продав сахар и табак в Лиссабоне, купец затем покупал европейские или азиатские товары с целью их реэкспорта в Анголу или Бразилию. В большинстве своем это были ленты, парики, шелковые чулки или другие предметы роскоши для зажиточных плантаторов, торговцев и чиновников, а также предметы первой необходимости, такие как вино, оливковое масло, треска, пшеничная мука и текстиль. Эта торговля в пределах вышеупомянутого треугольника могла вестись, несомненно, в любом направлении между тремя странами. Лиссабонский купец, например, мог посылать товары на продажу в Бразилию, а доходы направлять на покупку рабов в Анголе. Подобным образом плантатор или торговец в Бразилии мог отправлять сахар, табак и красное дерево в Лиссабон и получать взамен европейские товары. Или он вез табак, бренди и ром в Анголу и получал за это «черную и белую кость».
Во всех основных портах по обеим сторонам Атлантики королевская власть устанавливала тяжелые и чрезмерно тяжелые пошлины на импортные, экспортные или реэкспортные товары. Один из крупных землевладельцев в Байе жаловался в 1680 г., что из сотни рулонов табака, который он отправил в Лиссабон, за 75 необходимо было заплатить таможенную пошлину и стоимость фрахта. «Ну а что касается оставшихся двадцати пяти, – горько сетовал он, – мне не дозволяется ни продать их, ни использовать, ни даже выбросить в море, но они продолжают числиться за мной». Этот чрезмерный фискальный налог привел, в свою очередь, к расцвету контрабандной торговли, которая иногда приобретала опасные размеры с точки зрения короны. Это касалось, в частности, бразильского табака, несмотря на существовавшие строгие правила для предотвращения нелицензированного экспорта. Офицеры и экипажи возвращавшихся домой судов Ост-Индской компании, которые регулярно заходили в порт Баии, были известны своим искусством тайно провозить табак.
Некоторые самые зажиточные торговцы становились купцами-банкирами и проводили денежные операции; в том числе ссужали деньги государственным чиновникам, которым часто задерживали плату. Все они получали небольшое жалованье, и потому многие из них занялись коммерцией. Губернаторы Анголы, к примеру, приняли активное участие в работорговле. Не было ничего необычного в том, что 25 процентов годового количества рабов из Луанды перевозились за счет губернатора.
Экономическое возрождение Португалии, на которое возлагали большие надежды после заключения мира с Испанией и Соединенными провинциями в 1668–1669 гг., так и не состоялось. Наоборот, Португалия столкнулась с падением цен на ее колониальные товары, такие как сахар и табак, на лиссабонском рынке и с ростом цен на многие товары, импортируемые из стран Северной Европы. Положение еще более усложнилось, когда одновременно сократились объемы ежегодного импорта серебряных слитков из Испанской Америки в Лиссабон, осуществляемого через Севилью и Кадис, а в Бразилии и Анголе, пострадавших от острого дефицита звонкой монеты, разразился денежный кризис. Генерал-губернатор Бразилии в 1690 г. пожаловался, что более 80 тысяч крузадо были доставлены из Баии в Порту и что если неблагоприятный торговый баланс Бразилии будет и далее сводиться подобным образом, ее экономику вскоре постигнет коллапс. Наконец, ухудшавшееся экономическое положение Атлантической империи Португалии еще более усугубилось в результате эпидемии оспы, вспыхнувшей в Анголе в 1680-х гг., и с одновременным появлением желтой лихорадки в Бразилии, серьезно затронувшей Баию и Пернамбуку. Падре Антониу Виейра в письме другу в Лиссабон в июле 1689 г. мрачно заметил: «Мы скоро скатимся к дикому состоянию индейцев и превратимся из португальцев в бразильцев».
Правительство Португалии, столкнувшись с длительным экономическим кризисом, не бездействовало, оно стремилось предотвратить катастрофу при помощи различных мер, начиная от временных и заканчивая далеко идущими. В частности, предпринимались попытки ускорить развитие швейной промышленности в Португалии; в этих целях разрабатывалось протекционистское законодательство в духе экономической политики Кольбера и были приглашены иностранные специалисты. Были приняты законы против роскоши, запрещавшие импорт дорогих товаров, в первую очередь из Франции. В 1688 г. номинальная стоимость металлической монеты была увеличена на 20 процентов. Шесть лет спустя ее стоимость вновь увеличили на 10 процентов. В 1694 г. колониальный монетный двор был учрежден в Байе, отчасти в результате неоднократных обращений падре Антониу Виейры. В 1680 г. на северном рукаве Ла-Платы напротив Буэнос-Айреса была основана португальская колония Сакраменто. Именно через нее, через этот черный ход Перуанского нагорья, предполагали направить основной поток серебра из Потоси. И последнее, но не менее важное. В Бразилии с середины XVI в. шли поиски золота, серебра и изумрудов, и корона все более активно поощряла эту деятельность.
Не все эти меры были успешными. Программа индустриализации была свернута после самоубийства в 1690 г. ее главного автора – графа Эрисейра. Его наследники были более заинтересованы в развитии винной торговли. Ряд неурожайных на сахар лет, постоянные дожди, эпидемия желтой лихорадки и вызванная ею повышенная смертность рабов, сопровождавшиеся падежом крупного рогатого скота и сокращением конского поголовья, поставили в 1691 г. сахарную индустрию Бразилии на грань коллапса. Валютная переоценка активов имела лишь временный успех, а содержать колонию Сакраменто, хотя и быстро ставшую центром контрабандной торговли с вице-королевством Перу, было дорогим делом, особенно ввиду враждебности Испании. К поиску новых месторождений драгоценных металлов побуждала отчасти легенда о Саба-рабуссу, богатой серебром «сияющей горе», которая считалась вторым Потоси. Никаких богатых месторождений серебра в этом отдаленном районе найдено так и не было, и корона уже оставила всякую надежду, как неожиданно авантюристы-уроженцы Сан-Паулу открыли месторождения золота в невиданных до того масштабах. Начиналась первая из великих золотых лихорадок.
Глава 2
Золотая лихорадка в Минас-Жерайсе
Вера в богатые месторождения цветных металлов и драгоценных камней на территории Бразилии существовала в течение почти двух столетий, когда внезапно давние надежды превратились наконец в потрясающую реальность. Здесь нет необходимости рассматривать, какими способами велся поиск золота, серебра и изумрудов в разных странах и разных эпохах. Не важно, что подвигло людей на это – испанская ли легенда об Эльдорадо, о которой знал еще сэр Уолтер Рэли[5], или превратно понятые сказания американских индейцев, или самый обычный факт – близость серебряных рудников Потоси. Протяженность Южноамериканского континента с запада на восток была недооценена, и убеждение, что серебряный пояс Потоси расположен не так далеко от едва намеченной границы Бразилии, заставляло продолжать поиск серебра в этом направлении, несмотря на неоднократные неудачи. Это убеждение было отражено в докладе консула Мейнарда, составленного в Лиссабоне в 1670 г., касавшегося деятельности жителей Сан-Паулу (или бездеятельности, по мнению консула) на возвышенности Пиратининга. Он оптимистично заявлял о «возможности открытия золота и серебра и других природных богатств в этой обнадеживающей ситуации, ведь эта местность лежит на той же широте и на том же континенте, что и Перу, только отделена от него Ла-Платой и лесами Амазонии». Фактически, именно жители Сан-Паулу открыли месторождения россыпного золота в этом регионе, и мы можем теперь более подробно, чем в предыдущей главе, рассмотреть эту особую породу людей.
Самой характерной чертой уроженцев Сан-Паулу было их тесное родство с американскими индейцами. В этом они напоминали испанцев, осевших в Парагвае, которые столь же часто, как и жители Сан-Паулу, вступали в связь с женщинами из местного индейского племени гуарани. Большинство бразильцев данного региона говорили на языке тупи-гуарани (который был языком межнационального общения), предпочитая его португальскому как в домашней обстановке, так и во время их дальних экспедиций во внутренние, неосвоенные области страны. На родном языке предпочитали говорить те местные жители, которые получили образование в иезуитских миссиях Сантуса и Сан-Паулу, но даже эти люди были двуязычными. Предположительно, именно из-за этой большой примеси индейской крови местные обитатели имели страсть к путешествиям, которая совсем отсутствовала у поселенцев на побережье Бразилии, предпринявших за все столетие лишь несколько слабых попыток проникнуть во внутренние области страны. Наоборот, жители Сан-Паулу постоянно отправляли отряды все дальше и дальше в сертан и к 1651 г. проложили пути в Перу и через густые леса Центральной Бразилии к дельте Амазонки. Гористый район Сан-Паулу-де-Пиратининга был бедным и изолированным, хотя и со здоровым климатом. Экспедиции, отправлявшиеся отсюда, имели целью захват индейцев, которых затем обращали в рабство для работы на плантациях. Их привлекали также к поиску золота, серебра и изумрудов, и именно они около 1572 г. обнаружили золото в водах Паранагуа.
Вооруженные отряды, бандейрас, отправлявшиеся на завоевание внутренних районов Бразилии, были организованы на основе военизированных подразделений португальской милиции. Численность отряда колебалась от 15–20 человек до нескольких сотен, ему придавался один или двое монахов-капелланов. Большая часть отряда состояла обычно из индейцев-помощников, как рабов, так и свободных. Они были проводниками, разведчиками, носильщиками, добывали пропитание и выполняли другие работы. Но основное ядро отряда составляли белые и полукровки. С течением времени участники этих отрядов, бандейрантес, приобрели опыт выживания в джунглях и овладели необходимыми для этого навыками подобно индейцам. По свидетельству современников, «они ничем не отличались от диких обитателей леса». Эти бандейрас отправлялись в поход, который мог длиться месяцами, а бывало и так, что он затягивался на годы. Иногда они расчищали небольшой участок в лесу и сажали маниок. Тогда они разбивали поблизости лагерь и дожидались урожая. Но в основном полагались на охотничью удачу, ловили рыбу в реках, собирали тропические фрукты, корнеплоды, лекарственные травы и дикий мед. Они активно использовали луки и стрелы наряду с мушкетами и другим огнестрельным оружием. Кроме него, у них не было иной поклажи, и они привыкли путешествовать налегке.
В большинстве случаев жители Сан-Паулу XVII столетия, чьи образы нашли свое отражение в живописи и скульптуре, выглядят как «отцы-пилигримы» в соответствующем традиционном одеянии, высоких ботфортах и с разнообразным оружием. Но на самом деле вся их одежда состояла из широкополой шляпы, рубашки и широких штанов. Ходили они в основном без обуви босиком по узким тропам в джунглях. Правда, у них были и короткие куртки с толстой хлопчатобумажной подкладкой, которые служили прекрасной защитой от индейских стрел. В 1683 г. эти отряды решили использовать в войне против враждебных негритянских племен в Анголе. В походах принимали участие и женщины-индеанки, а законные жены оставались дома, но кто-то должен готовить еду и быть наложницами.
Несмотря на то что плато Пиратининга располагалось на расстоянии всего 30 миль от моря, оно было изолировано от остальной территории колонии горным хребтом Серра-ду-Мар. Горная тропа связывала плато с портом Сантус; она была настолько крута и обрывиста, что путникам иногда приходилось становиться чуть ли не на четвереньки, чтобы пробраться по ней. Несмотря на наличие тяглового скота в домашнем хозяйстве, все грузы и товары переносили в основном на своих плечах и головах грузчики-индейцы. Также только индейцы-рабы выращивали маниок и другие пищевые культуры. Как отмечал в 1606 г. муниципалитет Сан-Паулу, «известно, что португальцы не отличаются особым трудолюбием, особенно когда проживают за границами своей страны».
Географическая изоляция, в которой оказались жители штата, превратила этот регион в прибежище беглых правонарушителей, скрывающихся от судебного преследования, а также иностранцев, на которых с подозрением смотрели колониальные власти. Испанцы, французы, англичане, голландцы и итальянцы были среди отцов-основателей Сан-Паулу. Однако заявление некоторых испанских иезуитов, что местные жители – это в основном «изгнанники-евреи», не стоит воспринимать серьезно. Принимая во внимание смешанное происхождение населения и физико-географические условия его обитания, неудивительно, что жители с подозрением и враждебностью относились к представителям королевской власти. Хотя в то же время они искренние почитали правящего монарха. Колониальные власти со своей стороны, как правило, не сильно были озабочены проблемами Сан-Паулу. Отчасти это можно было объяснить тем, что он не входил в состав капитании, а был пожалован королем как отдельное владение графу Монсанту. К тому же регион был редконаселенным и экономически отсталым, если сравнить его с сахаропроизводящими регионами Рио-де-Жанейро, Баия и Пернамбуку.
