Путеводитель по Средневековью: Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников
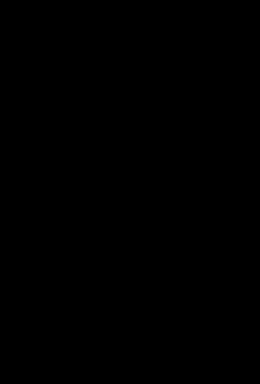
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Илья Кригер
Научный редактор: Станислав Мереминский, канд. ист. наук
Редактор: Лев Данилкин
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Александра Кaзакова
Арт-директор: Юрий Буга
Корректоры: Ольга Петрова, Зоя Скобелкина
Верстка: Андрей Ларионов
Иллюстрация на обложке: Ольга Халецкая
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Anthony Bale, 2024
First published as A TRAVEL GUIDE TO THE MIDDLE AGES in 2024 by Viking, an imprint of Penguin General. Penguin General is part of the Penguin Random House group of companies.
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
Моему отцу Джону
Предисловие
Изучая историю и культуру средневековых путешествий, я многие годы провел в компании путешественников прошлого, передвигавшихся по миру – столь не похожему на первый взгляд на современный. По путеводителям и путевым запискам Средневековья я изучал практические аспекты, прелести и опасности путешествий в те далекие времена. Погрузившись в чтение древних рукописей с рассказами о разного рода поездках, я наслаждался тишиной в библиотеках дворцов и монастырей на пространстве от Оксфорда до Стамбула. Следуя средневековым итинерариям[1], я брел со своим багажом по улицам и церквям Рима и Иерусалима. Я мок под дождем в Ахене и Ульме, а в Пекине однажды ночью заблудился. Я изнемогал от пищевого отравления, изнывал от жары, паниковал из-за укуса клеща и боролся с симптомами коронавируса в совершенно не приспособленных для этого условиях. Опоздав на последний катер, уходящий с одного из атоллов на Мальдивских островах, я испытал приступ одиночества и уныния. Мне то и дело приходилось платить разные пошлины и дополнительные сборы, несколько раз меня угораздило оказаться в порту во время забастовок. А уж сколько раз я вынужден был в последний момент менять планы и раскошеливаться на всевозможные сертификаты, проездные документы и свидетельства, позволяющие добраться до пункта назначения!
В этой книге я опираюсь на путеводители и отчеты путешественников Средневековья. Читатель обнаружит среди них очень разных людей. Как обычно и бывает в дороге, мы успеем составить о них впечатление, но лишь самое общее, мельком. Я покажу мир таким, каким его представляли в Средневековье, в том числе места, о которых люди часто рассказывали, но не обязательно посещали. Путешественники, с которыми мы сведем знакомство, не всегда будут вызывать симпатию – ну что ж, дело житейское: на кого только не наткнешься в пути.
В сознании жителя христианской Европы идея путешествия носила характер базовой. Мы увидим, как это отражалось в составленных монахами картах мира (mappae mundi), в паломничествах к гробницам святых, в представлении о духовных поисках земного и небесного Иерусалимов, в старинных глобусах. Путешествовать – значит открыться новому знанию, а еще поездка придает взгляду путешественника независимость. Дома мы часто мечтаем о путешествиях и далеких землях, и именно дома удовольствия и преимущества путешествия очевиднее всего. Путешествие бесконечно соблазнительно, но действительность редко соответствует тому, что мы о нем рассказываем.
Средневековая литература о путешествиях шире любого отдельного жанра: это и автобиография, и записки натуралиста, и энциклопедия, и исповедь, и историческая хроника, и дневник, и этнографические заметки. Нередко сочинения такого рода грешат эгоизмом и содержат в себе неверные представления о мире, в том числе описания фантастических существ (муравьев величиной с собаку, женщин с драгоценными камнями вместо глаз, грифонов – наполовину орлов, наполовину львов – настолько сильных, что они в состоянии унести целую лошадь) и мест (источник молодости, остров амазонок, даже земной рай), о которых многие слышали, но никто не видел. В средневековую эпоху путешествие – это, по сути, перемещение между правдой и выдумкой. Помимо всего прочего, путевые записки неизбежно крайне субъективны – отчасти потому, что путешествие подразумевает встречи с неизвестностью, а отчасти потому, что авторы наследуют ошибки и негативные представления о других существах, порождаемые культурными и личными презумпциями.
Путешествие как культурный феномен не сводится к собственно перемещению в пространстве. Понятие wayfarer, то есть «путник», «странник», применимо ко всем, кто в дороге, в движении: к путешественнику, бродяге, переселенцу, пилигриму. Вынужденная миграция, изгнание из города или страны, деловая поездка, далекий поход для рекрута – все это перемещение, однако не путешествие. Как правило, путешествие сопряжено с чувством места, оно предполагает поездку целенаправленную или совершаемую по своей воле, желанную встречу с чем-то отличным от обыденности, перемещение, осуществляемое добровольно и по некоему плану. Путешествовать – значит отправляться в поездку, из которой ты собираешься (или надеешься) вернуться, самостоятельно решиться на то, чтобы вырваться – на время – из мира повседневности, возжелать приобрести в пути знание того или иного рода.
Кодекс Кáликста (Codex Calixtinus, ок. 1138–1145) – один из старейших образчиков путеводителя. Это сборник рекомендаций паломникам, отправляющимся в Сантьяго-де-Компостела: какие святые места следует посетить, где найти свежую воду и как уберечься от ос и оводов. Примерно к 1200 году письменные путеводители в Европе были уже достаточно распространены, а году к 1350-му, когда паломничества стали нормальной практикой, этот жанр (иногда называемый ars apodemica – «искусство путешествия», от греч. αποδημεω – «путешествовать») превратился в главный способ рассказать о собственном любопытстве. Средневековый тревел-райтинг оказался одной из тех сфер, где могло проявиться «я» рассказчика и где любопытство по отношению к миру выливалось в отчеты о лично увиденном и пережитом. Жанр путевых записок в Средние века пребывал в состоянии становления, он развивался постепенно, по мере расширения практики путешествий, однако адресатом его оказывались главным образом те, кто не путешествовал вовсе – или не мог путешествовать. Книги о путешествиях предназначались людям, испытывавшим потребность в экзотике, диковинах, знаниях о далеких, недосягаемых уголках мира.
Очень часто путешествия выступают инструментом для глубокого самоанализа или, как выразился автор книги об искусстве путешествий Ален де Боттон, «повитухами мысли». С одной стороны, стимулом для размышлений оказываются те разговоры, которые мы ведем сами с собой, сидя в вагоне или каюте, погрузившись в медитативное ожидание, в медленно тянущиеся минуты между отправлением и прибытием. С другой стороны, новые идеи возникают как результат встреч – приятных или огорчительных, озадачивающих своей новизной, непривычностью, непохожестью. В этой книге мы совершим путешествие по средневековому миру, чтобы исследовать связанные с путешествием ценности, удовольствия, страхи и желания. Мы сможем увидеть, как с помощью путешествий люди покоряли духовные и интеллектуальные вершины, и понаблюдаем за тем, как именно они реагировали на известный стимул взяться за перо, чтобы описать свои странствия для читателей будущего.
Даже в XXI веке, когда столько людей то и дело преодолевают – порой по необходимости, иногда по желанию – большие расстояния, путешествие никогда не бывает прямым и простым и всегда так или иначе совершается в зазоре между восхищением и изнурением. Более того, все путешественники пребывают в напряженных отношениях с теми местами, куда направляются, из-за разницы в степени финансовой свободы, встроенных в ту или иную культуру структур расизма и эксплуатации, наконец, из-за недопонимания. Элизабет Бишоп в стихотворении «Вопросы путешествия» замечает:
Континент, город, страна, общество:
Выбор всегда небогат и всегда несвободен.
Куда бы мы ни отправились, мы неизбежно берем с собой самих себя, свои ценности и запросы, и это стесняет и ограничивает нас – даже тогда, когда мы взыскуем свободы.
Я приглашаю вас в странствие по областям, притягивавшим средневекового путешественника. Иногда это точки в физическом пространстве – идентифицируемые, привязанные к конкретным адресам (некоторые можно посетить и сейчас), а иногда это мысленные ландшафты. Я привожу названия, в том числе топонимы, большей частью сообразуясь с их наиболее распространенными формами. В скобках названия приведены в тех случаях, если средневековое сильно отличается от современного – например, основанная венецианцами Тана и Азов (в нынешней России). В некоторых случаях я, учитывая весь спектр представлений о том, что такое миля, не унифицирую расстояния. Надеюсь, читатель простит мне неточности этого рода, ведь мы отправляемся в те места, где правители и культуры то и дело менялись. Придерживаясь выбранной темы для книги, я опираюсь на источники, относящиеся к позднему Средневековью (примерно 1300–1500 гг.) – периоду, отмеченному буйным расцветом технологий и культур путешествия. Так, именно в это время путешествия оказались глубоко связанными с чтением и литературой. Иными словами, культура путешествий развивалась параллельно с живой историей путешествий.
Вначале мы сосредоточимся на западноевропейской культуре, а после тропы примутся ветвиться и расходиться по всему миру в том виде, в котором он представлялся средневековым европейцам, – от Англии до антиподов. Я не претендую на авторство исчерпывающего путеводителя по средневековому миру: мы могли бы отправиться и в другие места – в Сантьяго-де-Компостела, Саламанку и Толедо, Новгород и Самарканд, Занзибар и Большой Зимбабве. Но – маршрут всегда приходится выбирать. Часто ведь бывало так, что паломничество в Рим и Иерусалим оборачивалось путешествием из любопытства и исследовательского интереса. Я приглашаю вас в скитания по времени и пространству, по сочинениям странников, которые способны как поколебать, так и расширить наши представления о человечности, опыте и знании.
СРЕДНЕВЕКОВАЯ РОЗА ВЕТРОВ
Роза ветров, своего рода компас, служила для предсказания погоды и ориентирования в море. Ветра обычно получали названия в зависимости от позиции по отношению к Ионическому морю (между Сицилией и Грецией), где сходились морские маршруты Европы.
Север. Трамонтана – северный ветер, несущий воздушные потоки из-за гор.
Северо-восток. Греко, грегаль – сильный северо-восточный ветер из Греции.
Восток. Левант, левантера, субсолан – ветер, дующий с востока, где восходит солнце.
Юго-восток. Сирокко, сирок – сильный горячий ветер, дующий из Северной Африки.
Юг. Остро, аустер, меццоджорно – мягкий южный ветер, приносящий дождь.
Юго-запад. Либеччо, гарбино – порывистый юго-западный ветер из Ливии.
Западо-юго-запад. Зефир – умеренный западный ветер.
Запад. Поненте – сухой ветер с запада, где заходит солнце.
Северо-запад. Мистраль, маэстро – сильный холодный северо-западный ветер, дующий с юга Франции, вдоль основного морского пути из Венеции в Грецию.
Глава 1
Как выглядел мир в 1491 году, или Преамбула с Мартином Бехаймом
Железная арматура. Деревянные обручи. Ведра, наполненные жидкой массой на основе льняных волокон. Глиняная модель для формовки бумаги. Многоцветные краски и чернила. Умелые руки и пот мастеров – кузнецов, печатников и литейщиков. Именно эти ингредиенты нужны, чтобы создать сферу диаметром примерно два фута [60 см]. На дворе 1491 год, и в немецком городе Нюрнберге кипит работа над поразительной штуковиной – невиданной скульптурной конструкцией.
Ремесленники кропотливо изготавливают глобус – модель мира, каким они его знают. В своей работе руководствуются специально напечатанной картой.
Когда полая сфера готова, ее обмазывают клейкими белилами на меловой основе – и прилепляют к поверхности полоски пергамента. Затем местный художник на протяжении пятнадцати недель рисует на глобусе карту мира, то и дело сверяясь с бумажной. Все расходы (в том числе на вино и пиво для обедов в период, пока идет раскраска) взяла на себя городская казна. Готовый глобус помещают в одном из приемных покоев ратуши – великолепного готического здания в центре Нюрнберга, чтобы отцы города изучали устройство мира и услаждали свой взор.
Глобус сулил будущие богатства. Он подсказывал, где можно отыскать самоцветные камни, жемчуг, ценную древесину и наилучшие пряности, – весь мир торговли отныне к услугам нюрнбержцев.
Руководил этим многотрудным делом Мартин Бехайм (1459–1507) – купец, мореплаватель и путешественник. С конца 1480-х годов он был придворным географом португальского короля Жуана II Совершенного (ум. 1495). Король стремился расширить португальскую торговлю и свои владения в Атлантическом океане, в Африке и на Востоке, и Бехайм в этом плане отводил себе очень важную роль. Знали его, разумеется, и в Нюрнберге – ведь он, по его собственным словам, «объехал третью часть мира».
Глобус Бехайма – одна из старейших сохранившихся сферических моделей всей Земли. Он показывает, каким представляли себе мир в начале 1490-х годов, накануне открытия Америки, некоторые европейские путешественники, ремесленники, ученые и негоцианты.
Творение Бехайма, которое ныне экспонируется в Германском национальном музее в Нюрнберге, выглядит как современные глобусы. Оно богато украшено разноцветной росписью. На нем видны страны, указаны реки, народы, города, горы и животные, много сложного текста. На глобус нанесено около 2000 топонимов, сто рисунков и более полусотни пространных описаний. Он представляет собой не только трехмерную модель нашей планеты, но и своего рода энциклопедический текст. Глобус выглядит старинным, он потемнел и пережил несколько неуклюжих попыток реставрации. Сначала трудно разобрать, что там нарисовано. Но когда глаз осваивается, на поверхности проступают, сначала неотчетливо, острова и материки, моря и маленькие иллюстрации – целый мир, состоящий из мест, где можно оказаться, мир, наполненный множеством деталей.
Мартин Бехайм родился в Нюрнберге; место и время определили форму и содержание его глобуса. В эпоху, когда Бехайм руководил изготовлением глобуса, Нюрнберг был одним из крупнейших купеческих центров Европы, местом, где сконцентрировались великие богатства. Семья Бехаймов сделала состояние на торговле роскошными тканями – шелком и бархатом, а специфика этого товара, как известно, подразумевает международный характер сделок. По Европе (при посредничестве Венеции) разлетались ситцы, шелка, ленты, гобелены, дамаст и муар со Среднего и Ближнего Востока, из Персии, даже из Китая. Нюрнберг (подобно Аугсбургу, Брюгге, Кельну, Флоренции, Франкфурту, Лондону, Любеку и Парижу) был одним из процветающих, космополитичных – с активными внешними связями – городов, которые служили в средневековой Европе перевалочными пунктами. Зажиточный купец, отец Мартина (также Мартин) торговал в Венеции – в ту эпоху самом многонациональном европейском городе. Фамилия Бехайм указывает на то, что носящий ее человек «из Богемии». Своим богатством средневековый Нюрнберг обязан статусу главного рынка Центральной Европы: сюда стекались товары со всего Востока, в первую очередь пряности. Город был центром европейской торговли высоко ценимым и дорогим шафраном (его не только употребляли в пищу, но и применяли в медицине, красильном и парфюмерном деле). Купцы из Нюрнберга совершали свои сделки на огромной территории, от Шотландии до Крыма, и поддерживали торговые связи с генуэзской колонией в Константинополе и татарами Таны. Таким образом, неудивительно, что жизнь Бехайма протекала вдали от Нюрнберга. В начале карьеры он, согласно европейскому обычаю, устроил себе Wanderjahr – так по-немецки называется год, проведенный в странствиях. Молодой человек скитался из города в город и получал поденную плату, а затем, если ему удавалось добиться признания своих навыков, вступал в гильдию. То были не бесцельные переезды туда-сюда, а именно ученичество, накопление опыта. Мартин, юноша из патрицианской семьи, занялся торговлей текстилем и вел дела в Мехелене, Антверпене и Франкфурте, перемещаясь между крупнейшими торговыми городами. Побывал Бехайм и в Лиссабоне. Дальнейшая его жизнь связана в основном с Португалией. Бехайм женился на женщине по имени Жуана, выросшей на острове Фаял (в Азорском архипелаге), где ее отец, фламандец на португальской службе, был губернатором.
В конце 1480-х годов Бехайм часто путешествовал – был в Гвинее в Западной Африке и на Кабо-Верде, а возможно, и дальше – и много лет прожил на Азорских островах. Он умер в Лиссабоне в 1507 году. Бехайм посетил некоторые из самых отдаленных уголков известного мира, отмеченных на глобусе.
Бехайм и его глобус оказались в центре Европы, между востоком и западом: на востоке шла торговля, принесшая Бехайму, его семье и его городу богатство, на западе – развернулась его деятельность в Португалии, плавания по Атлантическому океану вдоль побережья Африки и у Азорских островов.
Приведенные на глобусе Бехайма сведения – переплетение фактов, имеющих отношение к международной торговле, со слухами и домыслами: так, на Сейлане (совр. Шри-Ланка) люди якобы не носят одежду, а обитатели Никоверана (Никобарских островов, восточнее Индостана) – псоглавцы. Мы узнаем, что исландцы – красивые белокожие люди, которые задорого продают собак и даром отдают детей иностранным купцам, чтобы избежать перенаселения своего острова, едят сушеную рыбу вместо хлеба (поскольку в Исландии не растут злаки) и могут дожить до восьмидесяти лет, так ни разу его не попробовав. Сообщается также, что это именно они добывают треску, которая затем оказывается на немецком столе. Но как разобраться, что из этого правда, а что ложь, где россказни, а где факты? Если мы (как и большинство жителей Нюрнберга XV века) никогда не бывали на Шри-Ланке, в Индии и в Исландии, то приходится полагаться на чужие рассказы.
На страницах этой книги мы посетим многие из мест, отмеченных на глобусе Бехайма, с оглядкой на «Книгу путешествий» (Book of Marvels and Travels) – путеводитель, послуживший создателям карты одним из главных источников. Авторство «Книги путешествий» приписывают сэру Джону Мандевилю (ок. 1356). Кем именно был Мандевиль, до сих пор остается не вполне ясным, но, так или иначе, книга стала одним из самых популярных средневековых сочинений о путешествиях, переведенным на множество языков и ходившим в списках и в печатных изданиях. Мандевиль описал поездку, которая началась в Англии как паломничество в Иерусалим, а затем превратилась в скитания ради утоления любопытства и жажды приключений (которые якобы довели автора до Дальнего Востока). Именно духом Мандевиля овеяны следующие главы моего повествования. Дело не только в популярности его «Книги путешествий», но и в том, что в ней отразились многие ключевые аспекты средневекового путешествия. Пожалуй, еще важнее то, что Мандевиль повествует о путешествии, о котором нередко читали, но которое в действительности не было совершено. Сэр Джон утверждает, что попал из Англии в Китай и что папа римский признал его книгу «правдивой». Однако никакого одобрения в действительности не существовало. Книга Мандевиля, написанная скорее в монастырской библиотеке, чем на постоялом дворе и в караван-сарае, – это собрание удивительных историй, очень неправдоподобных, а главный пункт отправления автора – царство истины. Все это вовсе не к тому, чтобы выразить недоверие к «Книге путешествий» как к источнику для понимания того, что в ту эпоху означало «путешествовать». Мир для Мандевиля и его читателей вроде Бехайма представлял собой энциклопедию стран и народов, живой атлас фантазий, из которого можно было извлечь антропологические, научные и этические уроки.
«Многим людям доставляет большое удовольствие слушать о диковинных вещах разнообразных стран»[2], отмечает Мандевиль. Авторы повествований о далеких землях намеревались вызвать восхищение многообразием Божьего творения, чудесностью мира (даже при том, что дивиться миру – примерно то же, что заявлять: я не вполне понимаю, что именно вижу). Путешествовать – означало читать, а читать – означало путешествовать: места и рассказы о путешествиях осмыслялись сквозь призму ранее прочитанных книг, известий других путешественников или очевидцев, когда-то – давным-давно! – сообщивших что-либо о мире. В средневековой путевой литературе правда переплетается с неправдой, а свидетельства очевидцев соседствуют со старинными выдумками. И сочинение Мандевиля, и глобус Бехайма давали читающему или смотрящему возможность «посетить» разные места посредством текста и визуальных образов. Для ремесленников Нюрнберга и родственников Бехайма (например, его заточенных в нюрнбергские монастыри сестер Элсбет и Магдалены) глобус оставался единственным способом увидеть мир, и то, насколько реальны изображенные места, было менее важно, чем то, что они могли «рассказать». Контуры Европы на глобусе Бехайма узнаваемы и сейчас. Здесь точно воспроизведены очертания Британских островов (Шотландия доходит почти до верха глобуса). Франция – за счет Бретани – сильно выдается в море, а изображенный слишком крупным остров Джерси оказался дальше Финистера (одного из множества мест, называемых краем земли). Пиренейский полуостров вместе с Балеарскими, Азорскими и Канарскими островами нарисован аккуратно – с флагами, как на военной карте. Датский король со скипетром восседает на троне. Апеннинский полуостров (вместе с Сицилией, Корсикой и Сардинией) простирается далеко в Средиземное море.
На своих местах Балтийское и Черное моря, Кипр и Исландия. Не вполне верно изображенный Скандинавский полуостров уходит за верхний край, а там, где теперь расположена Россия, в основном пусто, хотя российские реки на месте.
Так или иначе, для человека XXI века, привыкшего рассматривать карты, бехаймовская Европа выглядит очень знакомой – как и береговая линия Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Нил течет через Египет. Красное море, Синайский и Аравийский полуострова – все на месте.
При этом представления Мартина Бехайма и мастеров, работавших над глобусом, об устройстве мира довольно сильно отличаются от наших: стоит выйти за пределы Европы – мир по Бехайму лишь отчасти соответствует нашим знаниям.
Особенно бросается в глаза то, что на его глобусе всего три материка: Европа, Африка и Азия. У полюсов почти ничего. В Арктике – открытое море, омывающее северные берега России. На юге, вместо Антарктиды, художники Бехайма изобразили орла, эмблему Нюрнберга, и голову Девы Марии, а также флаги, гербы и эмблемы своего города и Европы. Прочий мир – простирающийся за Татарией и Катаем[3] (примерно Россия, Центральная Азия плюс Китай) – распадается на безымянные острова, как будто материки раскрошились и их фрагменты дрейфуют по бескрайним морским пространствам. В мире Бехайма два основных океана: Западный, который начинается у берегов Европы и простирается до Чипангу (Японии), и Индийский, который начинается где-то ниже Аравии и Тапробаны (Шри-Ланки) и почти достигает Явы. Еще один океан, Восточный (восточнее Явы и южнее Японии), соединяется с Западным примерно там, где мы теперь помещаем Тихий. Глядя на эти «ошибки», легко прийти к заключению, что средневековые европейцы мало что знали о планете. Однако глобус Бехайма подводит итог целых столетий исследований и открытий, касающихся облика планеты и тех чудес, которыми она полнится. Следует четко проговорить: люди Средневековья, как правило, не считали Землю плоской. Они знали, что планета имеет форму шара, но не понимали, как ее обогнуть. Всякий образованный западноевропеец был знаком с географическим сочинением «Трактат о сфере» (Tractatus de Sphaera) Иоанна де Сакробоско. В его взглядах чувствуется влияние в первую очередь Аристотеля, Клавдия Птолемея и переводных работ арабских астрономов. С XIII века «Трактат о сфере» был самым популярным элементарным учебником астрономии (она, наряду с арифметикой, геометрией и музыкой являлась частью квадривия – высшего университетского курса в Средние века). Сакробоско, наблюдавший, что Солнце, Луна и звезды в разное время появляются на небосклоне для «жителей Востока и Запада», признавал сферичность Земли. Кроме того, океан он полагал «приблизительно круглым». Сакробоско настаивал на существовании антиподов и поддерживал гипотезу климатических зон Макробия (ок. 400). Его получившая широкую известность схема подразумевала деление мира на пять зон: северную и южную (арктическую и антарктическую) холодные зоны, экваториальный пояс (необитаемый и едва проходимый из-за «солнечного жара»), а также северную и южную зоны с умеренным климатом. На глобусе Бехайма жаркий пояс отмечен экватором и сопровождается пояснением: «День и ночь там всегда, круглый год, длятся по двенадцать часов». Согласно сведениям на этом глобусе, Экваториальная Африка – «песчаная знойная страна, называемая жаркой зоной, малонаселенная». Зéмли зон с умеренным климатом, расположенные севернее и южнее этого пояса, таким образом, можно обоснованно считать обитаемыми. Из слухов о далеких землях (подобных воспроизведенным на глобусе) и подробных справок о торговых контактах с островами и государствами в районе Явы и Суматры следовало, что те земли не только пригодны для жизни в принципе, но даже обитаемы. Судя по сферичности модели Бехайма и тем границам распространения людей, которые на ней указаны, работавшие над глобусом мастера располагали близким к современному корпусом знаний.
Многие авторитетные древние географы и философы размышляли о существовании четвертого материка – обитаемой земли, лежащей за жарким поясом и отделенной от уже известных Африки, Азии и Европы.
В средневековой Европе широкой известностью пользовался «Сон Сципиона» («О государстве», кн. VI; 54–51 гг. до н. э.) Цицерона с комментариями Макробия. Цицерон описывает жителей далеких земель «восходящего или заходящего солнца», мир далеко за пределами населенной римлянами небольшой северной области (то есть бассейна Средиземного моря). Согласно Цицерону, население южных зон («жители которого, ступая, обращены к вам подошвами ног»[4]) никак не может сообщаться с северной зоной Европы, однако авторы глобуса Бехайма новаторским образом соединили их. Блаженный Августин (354–430) в сочинении «О граде Божьем» допустил возможность существования антиподальных областей, однако счел «крайней несообразностью утверждать, что люди могли, переплыв безмерные пространства океана, перейти из этой части земли в ту и таким образом положить и там начало роду человеческому от того же одного первого человека»[5].
Многие географы и картографы считали, что Индийский океан – своего рода озеро, окруженное сушей. К XIV веку уже широко распространилось представление о том, что на юге простирается terra incognita – так или иначе достижимая и составляющая единое целое с исследованными и обжитыми землями. Точные контуры и координаты этих районов составляли предмет для дискуссий. Стало понятно, что жаркий пояс не является в принципе непреодолимым препятствием. Создатели глобуса Бехайма (следуя за Сакробоско и Мандевилем) сообщают, что Полярная звезда у антиподов не видна. Они указывают, что на лежащем восточнее Явы острове Кандин, а также на Яве и на окрестных островах Полярная звезда не видна, зато видна другая – южная Полярная, «по имени Antarcticus». Это оттого, что те земли расположены в антиподальной («обращенной ногами к ногам», от греч. anti «напротив» + pous, pod- «нога») Европе. Гильом Филластр (Старший; ум. 1428), французский кардинал и страстный географ, писал, что «те, кто живет в наиболее отдаленных восточных областях, обращены ногами к ногам тех, кто живет в наиболее отдаленных западных областях». Таким образом, уже во времена Бехайма предполагалось, что земель антиподов можно достичь, а необследованные районы, вероятно, населены людьми, живущими в ожидании как христианской проповеди, так и начала торговли с Западом.
В то же время приведенные (пусть в другой форме) на глобусе Бехайма сведения соответствуют обычной для Средневековья схеме устройства мира с тремя материками, которая теперь называется картой типа T–O. Это христианское представление о Земле – буква T внутри буквы O – доминировало примерно до 1500 года. Азия при этом оказывалась вверху, Европа – внизу слева, Африка – внизу справа. Букву T образовывали три водных объекта (обычно Дон, Нил и Средиземное море), тогда как букву O представлял собой Великий океан, омывающий известный людям мир – ойкумену. На глобусе Бехайма основное место занимают соединенные океанами Африка, Азия и Европа.
Глобус Бехайма называли по-немецки Erdapfel – «земное яблоко». Название отражает средневековое представление о том, что планета есть подобие органического «плода», живого шара. Господь по щедрости Своей наделил нас совершенным творением – его отражением и является нарисованный мир, испещренный маршрутами, которыми уже проследовали путешественники (в том числе сам Бехайм), и включающий в себя все те земли, которые путешественникам еще только предстояло увидеть за морем. Это похоже на крошечный шар с картой типа T–O с флорентийской фрески XIV века: его держит, как яблоко, младенец Иисус (средневековая Флоренция, как и Нюрнберг, была «космополисом», европейским центром торговли и богатства). Младенец Иисус держит в руке мир. Буква T здесь перевернута – вероятно, чтобы показать, как Бог сверху смотрит на мир.
Карта типа T–O изображала мир в триединстве, аккуратно поделенным Божьей рукой на части – материки. Это соответствует библейскому представлению, согласно которому род человеческий пошел от Адама (Быт. 9). Согласно этой этнографической теории, потомство Сима (одного из трех сыновей Ноя) населяет Азию, Хама – Африку, а Иафета – Европу. И если, как предписал Иисус (Мф. 28:16–20), апостолам христианства следовало «научить все народы», то и глобус (такой, как глобус Бехайма) помогал представить и связать воедино весь обитаемый мир, в котором Благая весть и торговля способны достичь некогда считавшихся недоступными мест, добраться до которых можно было, лишь преодолев раскаленные пустыни.
В выставленном казначейству Нюрнберга счете указано, что глобус Бехайма изготовлен для ублажения могущественного городского совета (в Нюрнберге деятельность ремесленников в городе регулировал магистрат, а не гильдии). Богатые бюргеры, вращая глобус, могли припомнить совершенные ими самими путешествия. Советник Георг Хольцшуэр (ум. 1526), который инициировал работу над глобусом и следил за соответствующими расходами магистрата, сам, в качестве купца и пилигрима, в 1470 году посетил Египет и Иерусалим. Автором иллюстраций для глобуса был Георг Глокендон (ум. 1514), составивший для немецких паломников карты Romweg, пути в Рим. Кому-то могли прийти в голову и более опасные места из тех, что уже были увидены или до которых только собирались добраться. Или соображения о происхождении товаров, торговля которыми их обогатила. Можно было поразмышлять над передававшимися из уст в уста новостями об открытиях португальцев в Африке, которые буквально с каждым месяцем переворачивали представления европейцев о мире; в скором времени в освоении новых пространств примут активное участие члены семей Бехайма и Хольцшуэра. Можно было, наконец, пофантазировать о далеких землях, известных лишь по книгам и картинам и дразнивших собой воображение.
В том месте глобуса, где должно значиться «Нюрнберг», стоит надпись: «Бехайм». Глобус был символом статуса: знания мореплавателя из Нюрнберга о целом мире могли покоиться у него в руках. Глобус, по сути, позволял Бехайму и достопочтенным нюрнбержцам взглянуть на планету словно бы глазами Господа. Глобус, таким образом, подразумевает, что Бехайм владеет пространством в прошлом и будущем – это как бы мир, увиденный сквозь призму одного человека, созданный им в определенный момент времени.
Разглядывая любую карту мира, легко позабыть о том, где ты на самом деле сейчас находишься. Как и снимки, которые привозят из отпуска, глобус может оказаться подспорьем рассказчику: что он видел в дороге, куда ездил, какой маршрут предпочел. Глобус может пригодиться в странствиях по суше и морю – правда, его размер (вещь крупная и весьма дорогая, настоящий предмет роскоши) не позволяет возить глобус с собой. Глобус Бехайма – это сувенир, воплощенное воспоминание. Одной из его задач было – помочь увидеть то или иное место мысленным взором, наглядно, в миниатюре. Всегда проще вообразить пространство, чем время: люди считают, что способны владеть пространством, но осознают, что время не в их власти. Мир на глобусе под взглядом наблюдателя мерцает, города выглядят крошечными, а красивейшие береговые линии извиваются лентами. Время в это мгновение менее важно, чем пространство, которое мы словно видим и понимаем целиком.
Глобус Бехайма появился в важный переходный исторический период – когда то, что часто называют (в Европе, по крайней мере) Средневековьем, стало напоминать раннее Новое время; речь идет о моменте накануне колонизации европейцами Америки, начавшейся после 1492 года. На природе путешествий в Средневековье сказались и другие ключевые события – например, Первый крестовый поход (1096), взятие турками-османами Константинополя (1453) и запрет паломничеств для протестантов (с 1520-х гг.).
Но можно ли вообще дать четкое определение путешествию? Перемещения в Средневековье были очень сильно привязаны к конкретным местам: покупка и продажа товаров на той или иной ярмарке, переезд из монастыря в монастырь, военный поход из одной местности в другую. Доминирующей на средневековом Западе формой путешествия стало паломничество, в котором, однако, было и нечто такое, что напоминало туризм. Паломничество предполагает путешествие, обычно по заранее определенному маршруту, в желанный пункт назначения и возвращение домой обновленным, преображенным.
Причины и мотивы паломничества были различными (иногда оно было добровольным, иногда обусловлено медицинскими причинами, иногда представляло собой меру наказания, а иногда совершалось по поручению общины), но всегда пункт назначения был определен: Уолсингем, Кентербери, Ахен, Вильснак, Кельн, Сантьяго-де-Компостела, Рим, Бари, Иерусалим. Эти и многие другие места, главные христианские святыни, притягивали паломников своей сакральной значимостью. Но примерно к 1350 году сложились привычные маршруты и инфраструктура для того, что теперь мы бы назвали массовым туризмом – вплоть до своего рода пакетных туров. Группы путешественников платили агентам и поставщикам, гарантировавшим – до известной степени – удобства, безопасность и любезный прием, плюс «туроператоры» брали на себя разрешение самых очевидных проблем: языковой барьер, транспортные услуги, обмен валют и снабжение продовольствием. Путешественники сбивались в группы непредсказуемым образом – что, естественным образом, провоцировало как разного рода трения, так и порождало дружеские чувства. Тревога относительно похода в неизвестность компенсировалась знанием того, куда именно человек направлялся и (отчасти) с кем.
Путешествие – это, по сути, род поиска: счастья, богатства, искупления грехов, однако с ним неизбежно связана и проза жизни: невзгоды в пути, обмен валюты, болезни, неудобства, задержки и отмены рейсов. У всякого путешествия свой пункт назначения и своя вспомогательная инфраструктура. Путешествие – это еще и багаж, и упаковка чемоданов, корабли и мулы, паспорта и охранные грамоты, странная еда и сомнительные напитки, безжалостное радушие, знакомство с древней и современной архитектурой, непонятно устроенные туалеты и дороги. Путешествие подразумевает интерес – на грани приличий – к одежде и обычаям других народов. Путешествующему приходится зависеть от погоды и настроения своего провожатого. Путешествие – это когда люди, не говорящие на твоем языке, вдруг проявляют к тебе дружелюбие или когда ты сам подкармливаешь бездомных кошек или ручных птиц, как будто они останутся с тобой на всю жизнь. Путешествие нежданно-негаданно поощряет равенство: путники, в силу миллиона причин, оказываются в одной компании и вынуждены стать ближе друг к другу. Дорога ставит людей в зависимость от индустрии путешествий, которая иногда помогает им, а иногда тянет из них деньги – у всех без разбора. Путешествие пробуждает необъяснимый трепет – просто от того, что попадаешь в ситуацию незнания, сулящую тебе новые миры. Путешествие дает опыт незапланированных перемещений и обескураживающие моменты дежавю. Путешествие – это попытка уйти от предсказуемости, перемещаясь между континентами и языками, от одного к другому; это побег от ошибок и неудач домашней жизни. Путешествие далеко не всегда превращается в эпическое приключение, но это всегда опыт очень личный, в котором есть западающие в память моменты экзальтации, мгновения, которые трудно облечь в слова и которые остаются в голове, – и затем ты рассказываешь о них как о чем-то очень особенном. Путешествие предполагает возмутительные обобщения, бесцеремонное наблюдение, неожиданные и при этом до странности предсказуемые происшествия – столкновения с бедностью, проявлениями враждебности и с разного рода вгоняющими в тоску явлениями. Путешествие стимулирует желание посетить места, которые знаешь по рассказам – правдоподобным, но необязательно правдивым. Путешествие занимает тело и душу, но необязательно то и другое разом. Путешествие развивает живое любопытство, но, парадоксальным образом, подразумевает и долгие периоды разного рода маеты: сидения на месте, ожидания, отсрочек, болезней, скуки. В большинстве случаев путешествие предполагает получение дохода или удовольствия того или иного рода, но в ходе поездки ее цель нередко меняется. Путешествующий часто старается приобрести «правильный» опыт, воспользоваться выгодами и дарами путешествия. Но мы забываем, сколь незначительны наши успехи: нередко подлинное положение (или расположение) путешественника остается почти неизменным.
Определение путешествия вечно оказывается неточным или неполным, ведь все без исключения путешествия – согласно замыслу или по случайности – уникальны. Если путешественники выбирают один и тот же маршрут, это вовсе не означает, что в дороге они испытают одни и те же ощущения. Путешествие – это не только сам опыт перемещения – неудобного, мучительного и унылого – по поверхности планеты, но еще и рассказы, которыми мы делимся с домашними после возвращения. Написанные путеводители нередко очень напоминают учебники по технике выживания. Авторы не столько советуют своим читателям, как получить в том или ином месте удовольствие, сколько учат, как выжить там. Однако сведения о злоключениях будущим путешественникам полезнее, чем самодовольное хвастовство удачными поездками. Мы неоднократно убедимся: чем менее благоприятно сложилось путешествие, тем живее рассказ о нем.
Мудрый совет
Того путника сочтут очень глупым, который в дороге любуется приятным лугом и останавливается, позабыв, куда он вначале направлялся.
ПОСЛОВИЦА. ЭГБЕРТ ЛЬЕЖСКИЙ «НАГРУЖЕННЫЙ КОРАБЛЬ» (THE WELL–LADEN SHIP), ОК. 1023
Перед иллюстраторами Бехайма стояла проблема, которую прежде многие картографы предпочитали обходить cтороной: вместо того чтобы оставить воображению водную ширь Атлантики, от Португалии до Японии, требовалось показать протяженность этого океана. На многих средневековых картах мира Атлантический океан представлялся «оборотной стороной» карты. Глобус же позволял наглядно показать моря, в основном неизведанные, соединяющие Европу с Азией и Африкой.
Посередине Атлантического океана, где-то западнее Кабо-Верде, помещен остров Сан-Борондон. Мелкий текст рядом с изображением острова гласит: «В лето Господне 565 святой Брендан прибыл на своем корабле к этому острову, где стал очевидцем многих чудес, а семь лет спустя вернулся в свою страну». Речь идет о легендарной Земле Святого Брендана, где очутился ирландский святой VI века, искавший рай и Землю обетованную. Кто бы ни отметил этот остров на глобусе, он не только знал легенду о Брендане, но и подстраховался, описав остров весьма расплывчато. В широко известном рассказе о святом (записанном, вероятно, в Ирландии в IX веке, но циркулировавшем также на латыни и иных языках) это утопия: заросший буйными лесами остров, где всегда светло и никогда не заходит солнце. Деревья здесь приносят обильные и вкусные плоды. Всякий булыжник под ногами оказывается драгоценным камнем, а реки готовы напоить тебя пресной водой.
Брендан и его спутники прожили на острове две недели, но после того, как они снова подняли парус, волшебный остров больше никто не видел. И все же остров продолжали упоминать в рассказах и хрониках путешествий: люди по-прежнему фантазировали об этом утопическом месте, до которого однажды смогут добраться. На глобусе Бехайма севернее Земли Святого Брендана показаны четыре направляющихся на запад корабля, символизирующие плавания европейцев по Атлантике во времена Бехайма. При этом рядом с кораблями изображен гиппокамп – сказочное морское чудовище из античных мифов, лошадь с рыбьим хвостом. Гиппокамп тоже плывет на запад: отправившись в дорогу, европейские путешественники вооружились своими представлениями о мире, мифами, легендами и заблуждениями.
Судя по присутствию здесь острова Святого Брендана, глобус отражает не только путешествия самого Бехайма, но и сведения из средневековых и еще более ранних путеводителей: античных трудов Птолемея Александрийского, Плиния и Страбона, более ранних средневековых свидетельств Марко Поло и сэра Джона Мандевиля, подробных навигационных карт-портоланов XV века. Все это – важные источники для мастеров Бехайма.
Сопоставляя часто противоречивую информацию, авторы глобуса продемонстрировали метод, в рамках которого средневековое путешествие предстает мешаниной из старинных преданий и свидетельств очевидцев, соблазнительным набором сведений из фольклора, истории, географии, антропологии, а также слухов.
Путешествие, как правило, подразумевает процесс передачи (в том или ином виде) мирской власти, покорение, реализацию господства. Для Бехайма в краях вроде Японии и Суматры существеннее всего богатства в виде мускатного ореха и перца – дорогих и популярных пряностей, поставляемых через Нюрнберг охочим до наживы купечеством средневековой Европы. По существу, на глобусе подробно объяснено, как пряности, прежде чем попасть в «нашу страну», «меняют несколько владельцев» в «восточной Индии» (Ост-Индии): с мелких островков их вывозят на Яву, затем на Шри-Ланку и земли поблизости, а после в Аден, Каир, Венецию, при этом в ходе перемещения пряностей по миру таможенные сборы увеличиваются в двенадцать раз. Таким образом, это единственный способ связать весь мир цепью производства и торговли. Вполне предсказуемо, что глобус Бехайма евроцентричен и христианоцентричен. Народы Татарии и Азии изображены язычниками, которые поклоняются идолам. Нагие темнокожие правители Африки повелевают, сидя в своих шатрах, а светлокожие, в мантиях, христианские государи Европы располагаются на престолах.
Нам легко высмеять ограниченные познания в географии и ошибочные представления средневекового путешественника. Однако познание мира бесконечно. Сейчас, когда я пишу эти строки, эрозия, наводнения, лесные пожары, урбанизация, землетрясения и вымирание видов неутомимо и неумолимо преображают нашу планету. Реки меняют свое русло, моря высыхают. Мало того, наши мнения о том, какие места важнее и предпочтительнее других, меняются с головокружительной скоростью. Поскольку глобус Бехайма был изготовлен около 1491 года, на нем нет и намека на Америку: на юге Германии о ней еще не знали. Колумб высадился в Новом Свете (вероятно, на Багамских островах) лишь в октябре 1492 года. Как и работы картографов и авторов путеводителей во все времена, труд Бехайма и его мастеров устарел еще прежде, чем был окончен. На глобусе не отражены недавние открытия португальцев в Южной Африке, а спустя всего десять лет на подобной карте можно будет найти Северную и Южную Америку, мыс Доброй Надежды и побережье Индостана, еще дальше на восток – Острова пряностей (Молуккские острова).
Авторов глобуса Бехайма не особенно заботила точность. Они не вполне честны и в том, что касается путешествий самого Бехайма. Из текста на глобусе следует, что Бехайм, командуя в 1484–1485 годах португальской каравеллой, первым нанес на карту основные контуры юга Африки, открыл острова Сан-Томе и Принсипи и проложил путь вокруг мыса Доброй Надежды. (В действительности это сделали задолго до Бехайма.) Глобус умалчивает о сенсационной новости, вызвавшей в Европе большой отклик: мыс Доброй Надежды обогнул в 1488 году Бартоломеу Диаш (ум. 1500).
Глобус вводит зрителя в заблуждение, чтобы подчеркнуть роль Бехайма и его значение как мореплавателя и исследователя, к вящей славе его самого – и Нюрнберга. Любые путевые записки побуждают путешественников смотреть на мир глазами их автора и сообразовывать представления о себе с его поездками.
Да и кому не случалось присочинять о своих доблестях? Кто не приукрашивал, расписывая, какое невероятное место он посетил? Глобус Бехайма по-прежнему пленяет взор: его поверхность испещрена следами многих поколений путешественников, наполнена преданиями, напитана страстью к путешествиям. Его железная ось и деревянные обручи обещают волшебный поворот, что открывает новые миры и противостоит инертности и обыденности.
МОГУ Я РАСПЛАТИТЬСЯ БЛАФФЕРТАМИ?
Монетные системы средневековой Европы сильно разнились. Деньги нередко имели очень ограниченное хождение, в пределах города или княжества, и чеканили их из разных металлов.
В XIII веке широкое распространение получили флорины, затем венецианские дукаты. Стало развиваться международное банковское дело. Большинству путешественников приходилось обменивать деньги в пути – по в высшей степени плавающему курсу.
ОБМЕН ДЕНЕГ НА ПУТИ МЕЖДУ КЕНТЕРБЕРИ И РИМОМ (ОК. 1470)
Сначала следует получить кредитное письмо в лондонском банке Джакопо Медичи. Курс обмена следующий:
9 английских шиллингов = 2 римских дуката.
40 английских шиллингов = 11 рейнских гульденов (Бургундское герцогство).
Деньги обменять можно и в Брюгге: там тоже есть банк.
1 рейнский гульден = 21 голландский плак
1 голландский плак = 24 полушки денаропикколо
1 рейнский гульден = 24 кельнских пфеннига
1 кельнский пфенниг = 12 геллеров
1 богемский дукат = 12 фе (feras)
1 гульден = 21 блафферт (блаппарт, плаппарт)
3 девентерских плака = 5 кельнских пфеннигов
1 медный пенни = 2 полупенни
1 флорин Брюгге = 3 полупенни
1 старый гротен/гроссо = 1/2 гротена плюс полупенни
3 голландских филипсгульдена (Бургундия) = 5 гротенов
1 фламандский стювер = 1 плак 11 пенсов
1 лили-плак = 3 полупенни
1 корте = 2 гротена
1 новый плак = 4 пенса
1 старый плак = 2 пенса
1 стювер = 5 пенсов
6 кельнских пфеннигов = 5 стюверов
6 плаков = 3 стювера (таким образом, 1 стювер = 2 плака)
1 кельнский флорин = 21/2 пфеннига
1 богемский дукат = 3 крейцера = 1 блафферт
1 карлино = 4 безанта
1 папский гротен = 4 болоньино
1 болоньино = 6 фер = 6 катрино
1 дукат = 28 венецианских гротенов/гроссо
Глава 2
В путь – с Беатрисой, Генрихом и Томасом
В 1350 году дама Беатрис Латтрелл (ок. 1307 – ок. 1361) – титул «дама» указывает и на благородное происхождение, и на роль хозяйки поместья: она жила в Ирнхэме, что в Линкольншире, – решила отправиться в дорогу. Дама Беатрис распоряжалась сборами, а служанка Джоан упаковывала вещи. Точнее, так: хозяйка надзирала и наставляла, а служанка передавала ее указания Генри – конюху и слуге, которому еще не исполнилось четырнадцати.
Супруг дамы Беатрис сэр Эндрю (ум. 1390) – он недавно вернулся из Гаскони, где воевал с французами, – несколькими годами ранее унаследовал родовые поместья. Дама Беатрис с детства привыкла выполнять роль хозяйки и вести сытную жизнь. В поместье царило изобилие и вечно пахло жареным поросенком и свежим хлебом. Именно там дама Беатрис пережила эпидемию чумы, которая в очередной раз разразилась в Англии и унесла жизни около трети всего населения. Умирали даже епископы, даже дочь короля. Однако ж большой дом из серого камня на востоке Англии, безмолвно застывший посреди мрачных сырых лесов, был местом безрадостным. Даме Беатрис уже миновало сорок, а детьми она так и не обзавелась. Быть может, поездка в Рим – по оживленным дорогам, через изобилующие разными товарами города, знаменитые святилища и алтари – подарит ей шанс зачать и родить наследника? Она оставит престарелого супруга с его воронами, кроликами, оленями, куропатками и фазанами. Сам сэр Эндрю в отсутствие жены будет упражняться в стрельбе из лука по мишеням, выезжать с соколом и отворять себе кровь, чтобы восстановить равновесие гуморов.
Беатрис и Джоан посылали юного Генри то туда, то сюда и покрикивали на него на смеси английского языка и придворного англо-французского (отчего величали его gareson). Помимо поручений, конюх должен был управиться с обильной поклажей: мешками, сундуками, свертками – и все это забитое под завязку.
В этот раз дама Беатрис собралась в Рим, однако ранее она и ее родные уже совершили несколько паломничеств. Выбор мест для богомолья зависел от того, в чем семья нуждалась на тот момент – и сколько времени имела в своем распоряжении. Иногда, когда у дамы Беатрис болели зубы, она ездила в церковь города Лонг-Саттон (в нескольких часах езды на восток). На тамошнем витраже присутствовал образ святой Аполлонии (которой зубы выбили молотками и вырвали клещами). Дама Беатрис жертвовала святой пенни или два. Посещение святой Аполлонии неизменно помогало. А когда лорд Скруп, отец Беатрис, повредил на турнире руку, семья молилась святому Вильяму Йоркскому (архиепископ XII века; его чудеса хорошо известны, а могила иногда мироточила или источала сладчайший аромат). Благодаря заступничеству святого рука лорда Скрупа зажила, и семья совершила паломничество в Йорк, пожертвовав для гробницы Вильяма восковую модель руки. Недавно почивший Джеффри Латтрелл, свекор Беатрис, оставлял деньги святым образам по всей стране: в Лондоне, Кентербери, Йорке, Уолсингеме и Линкольне – в ходе совершенных им при жизни паломничеств. Дама Беатрис прикрепила к плащу несколько оловянных медальонов, свидетельствующих о других ее поездках на богомолье. На одном медальоне была изображена хижина, это напоминание о посещении Святого дома в Уолсингеме (как говорят, чудесным образом перенесенного из Назарета в Норфолк).
В последние два года чума отступила, и теперь, в конце 1350 года, пора совершить паломничество. Поговаривали, что мор есть знак Божьего гнева. Для богомольцев наподобие дамы Беатрис пришло время раскаяться, пообещать в будущем вести благочестивый образ жизни и, оставив дом, публично покаяться в грехах. Путешествие должно было продемонстрировать веру в Господа и его святых. Покаяние, благочестие, искупление, паломничество – вот наилучшее средство от чумы.
Конюх Генри привез даме Беатрис кожаную обувь, заказанную у линкольнского башмачника. Этот модный фасон назывался «краковским»: сапожки, довольно высокие, с длинными заостренными носами. Еще Беатрис купила маленькую кожаную сумку с изящной филигранной пряжкой. Пока в ней лежали новые красивые четки с бусинами из блестящего черного стекла, ножик с лезвием длиной в палец, зеркальце в оправе из слоновой кости, украшенной изображением одного из рыцарей короля Артура на коне. А еще в сумке позвякивали монеты – в немалых количествах. Помимо прочего, у дамы Беатрис был деревянный сундук с замкóм – забитый вещами доверху. Она – как это часто случается с теми, кто собирается в дальнюю дорогу, – всей душой, страстно, с фанатизмом предалась тратам на разную ерунду. В сундуке лежали две пары шерстяных чулок, плиссированная накидка из серой шерсти, новое, из хрустящего льна, покрывало с оборками и новое же верхнее платье – малиновое, со светло-зелеными рукавами и воротником из мягкого горностая. Там же поместились серебряная чаша, несколько кувшинчиков и книжечка псалмов, для которой дама Беатрис заказала изящный серебряный футляр. А еще в сундуке хранился добрый запас французского вина, несколько пустых бочонков, завернутый в льняную ткань кусок сыра и сколько-то сушеных рыбин. Плюс пара льняных платков – вытирать вещи. И новый гребень из кости – следить, чтобы длинные волосы Беатрис всегда были в порядке. На дне сундука обретался кошелек (с золотым перстнем на ленте), расшитый синим и зеленым шелком. На перстне был изображен святой Христофор, несущий младенца Иисуса. Такой, как заверили даму Беатрис, защитит в пути – в первую очередь от утопления. В потайном отделении кошелька были спрятаны другие монеты – на непредвиденные расходы.
Дама Беатрис испрашивала у короля грамоту с позволением без помех и препятствий отправиться в Рим паломниками – для себя самой, своей служанки Джоан и конюха Генри. Предполагалось, что на первом этапе пути их будут сопровождать капеллан брат Роберт (серьезный и солидный монах в черной рясе и с аккуратной тонзурой) и Годфри – молчаливый, сдержанный йомен (надежный товарищ, способный выступить в роли защитника) из владений мужа дамы Беатрис.
Приготовления уже обошлись очень недешево, а ведь дама Беатрис еще даже не тронулась в путь. Она знала, что дорога в Рим будет долгой и опасной. Однако шел 1350-й, Юбилейный (Святой) год – второй в истории (первый объявляли в 1300 году, еще до рождения Беатрис). Юбилей был праздником прощения, в первую очередь для паломников. Все пилигримы, добравшиеся до Рима, получали полное отпущение грехов, и даже совсем пропащий человек мог очистить душу. Как в Библии, где упоминается йовель – чудесный год, когда милость Божья становилась особенно явной. Теперь дама Беатрис (и еще около миллиона человек со всей Европы) могла отправиться в Рим, чтобы очиститься в глазах Господа и поблагодарить Его за избавление от чумы. Король одобрил прошение дамы Беатрис, и имена ее и ее спутников включили в разосланный во все порты список тех, кому позволено беспрепятственно выехать за море. В списке были и десятки других имен, и все эти люди – священники, рыцари, вдовы, слуги – отправлялись на богомолье.
Поскольку паломники собирались ехать в крытой повозке, дама Беатрис раздумывала, не взять ли с собой щенка или кошку. Или белку.
Не забудьте!
Всякому путешественнику важнее всего иметь посох и суму.
Самый подходящий материал для посоха – древесина ясеня, она прочная и в то же время гибкая. Убедитесь, что посох подходит вам по размеру – только в этом случае он будет удобен для ходьбы по каменистой почве. В основном посох вам нужен, чтобы на него опираться, но он может пригодиться и для самозащиты.
Сума должна уберечь ваши деньги и ценности. Лучшие дорожные сумки снабжены надежной пряжкой – это защитит вас от склонных зариться на чужое добро попутчиков. Сума должна быть с ремнем длины достаточной для ношения через плечо (тогда ее невозможно будет сорвать). Богомольцу простая кожаная сума подходит больше всего.
Некоторые украшают клапан своей сумы вышивкой или медальонами, приобретенными в прошлых паломничествах. Богомольцы, желавшие подчеркнуть свой статус настоящего пилигрима, надевали простой плащ и носили шляпу с широкими полями.
Перед тем как отправиться в путь, вы можете попросить священника благословить ваши посох и суму. Вот молитва для пилигрима: «Возьми этот посох как опору в дороге и мытарствах паломничества, и да одолеешь ты сборища врагов своих и да приидешь бестревожно к алтарям святых, к которым стремишься, а после вернешься к нам в добром здравии».
Спустя сорок лет к отъезду из Лондона готовился другой отряд. Генрих Болингброк, граф Дерби (1367–1413) и двоюродный брат короля, решил предпринять крестовый поход. Он намеревался отправиться в Берберию, чтобы обратить в истинную веру владевших той землей длиннобородых «сарацин» – или хотя бы просто сразиться с ними. Те земли, по мнению Генриха, по праву принадлежали христианам.
В качестве альтернативы Генрих рассматривал крестовый поход в компании с немецкими рыцарями, воевавшими с балтийскими язычниками. Он слышал, что те до сих пор зажигают на алтарях огонь и поклоняются духам деревьев. Генрих желал показать государям Европы, что он тоже (или даже в большей, чем они, степени) смелый государь-воин, новый крестоносец. Приоритетом для Генриха (и главным мотивом отъезда), однако, выступало желание избежать затруднений на родине. Всего тремя годами ранее он принял участие в мятеже против своего кузена, короля Ричарда II. Мятеж породил череду жестоких убийств из мести, и теперь Генрих благоразумно предпочел поискать приключений вдали от родины. В дороге ошибки и неудачи не вредят так, как дома.
Граф Генрих был богатым аристократом, шел в ногу со временем, и ему только что исполнилось двадцать три года. При дворе Генриха называли щеголем, и, даже отправляясь в дальнюю дорогу, он не собирался изменять своим привычкам. Его багаж не вместился бы ни в один сундук – по сути, это был настоящий мобильный дворец, способный убедить кого угодно в том, что покупательные способности хозяина высоки, вкусы – утонченны, а друзья – могущественны. На поездку Генрих отложил 24 000 арагонских флоринов, собранных в Лондоне при посредничестве его банкира, флорентинца Альберти. Генрих желал путешествовать оснащенным наилучшим образом и поэтому взял с собой:
Несколько полных комплектов новых доспехов (с сабатонами, чулками-шоссами, кольчугами, нагрудниками, забралами и прочим).
Большое количество бумаги, чернил и перьев (в особом деревянном сундуке для документов) – для учета расходов.
Шесть новых лошадей: серой масти; белую; каурую; гнедую, с красно-коричневым корпусом и длинным черным хвостом; беломордую, с темными гривой и хвостом; смирную лошадку, лучше всего подходящую для верховой езды. Кроме того – седла, веревки, овес, ремни, уздечки, стремена и недоуздки. С отрядом ехал кузнец Уолтер и вез огромный кожаный мешок с подковами.
Шесть кож (чтобы укрывать поклажу).
Пять крепких сундуков с замками (для денег и ценных вещей).
Впечатляющее количество пищи и питья: хлеб, соленую рыбу, яйца, угри, вино, пиво, медовуху, льняное семя, сливочное масло, сыр, мед, осетрину, бекон, горчицу, тушу быка, несколько бараньих туш и многое другое.
Флаги с гербом Генриха (под их сенью он собирался сражаться с язычниками).
Новую перину (для крепкого сна).
Серебряную и металлическую посуду и приборы – в том числе новые ножи, ящик для лекарств, весы, солонки, вертел, таганы для котлов.
Триктрак и кости (чтобы занять людей Генриха, а может, выиграть или проиграть в пути немного денег).
Пустые котлы, мешки и кувшины (Генрих собирался потратить много денег и привезти домой вещи занятные и ценные).
Семейные связи Генриха и великолепие его отряда могли открыть перед ним городские ворота и снискать ему расположение, и огромные суммы в его кошельках тоже едва ли оказались бы лишними.
Генриха сопровождали около двадцати оруженосцев (благородного происхождения), трое или четверо старших слуг, священник, лучники и пехотинцы (в основном их бесплатно предоставили Генриху друзья), бесчисленные слуги, конюхи и дворня.
Чтобы вести учет расходов и купленных вещей, в путешествие с Генрихом отправили архидьякона из Херефорда. Счета запечатлели отток денег из королевских сундуков – приятное путешествие по Европе подразумевает дорожные расходы.
В 1440 году в монастыре Святой Троицы в Олдгейте, что у восточных ворот Лондона, брат Томас Дейн готовился к главному путешествию своей жизни – в Рим и, при благоприятном стечении обстоятельств, в Иерусалим. Настоятель Джон Севеноук дал ему разрешение отсутствовать в течение 365 дней, и ни днем больше.
У брата Томаса не было (пока) столько денег, сколько было у Беатрис Латтрелл или графа Генриха, но он и не привык (пока) к жизни удобной и изысканной. В дороге брат Томас собирался экономить. Толстый шерстяной плащ, ряса и широкополая кожаная шляпа будут защищать его от непогоды. Кроме того, эта одежда и ясеневый посох станут для тех, с кем он повстречается, знáком, что он простой и честный паломник, Божий человек, воин веры. Единственной крупной его покупкой стала новая пара обуви из темной кожи, скроенной по французской моде – с широким закругленным носом (башмачник назвал их «медвежьей лапой»).
Все остальные пожитки уместились в скромную сумку из телячьей кожи: маленький бочонок для напитков, каменная чаша, немного денег, холщовое исподнее, ножик и клочок пергамента с рисунком: Дева Мария оплакивает Христа на Голгофе, а на заднем плане видны стены и башни Иерусалима. Брат Томас нес этот образ не только в сумке, но также и в уме, и в сердце.
Брат Томас принадлежал к августинцам. С юности он всегда и везде искал Господа. Теперь брат Томас не вполне был уверен, стоит ли оставлять обитель – не предпочесть ли далеким странствиям духовные искания? Как знать, возможно, монаху или монахине пристойнее странствовать скорее в уме, чем во плоти. Однако в самом монастыре порядок был уже не тот, что прежде, и дисциплина расшаталась. Много нареканий вызывал нравственный облик настоятеля Севеноука: поговаривали, будто бы он впал в мерзкий грех блуда с непотребными женщинами, что толкутся на улице у стен монастыря. В грамоте, позволяющей покинуть ради путешествия монастырь, настоятель Севеноук назвал брата Томаса человеком достохвальной жизни и честного нрава. Брат Томас стремился подражать Христу. Он представлял, как в Иерусалиме идет по стопам Иисуса, где камни улиц омыты Его пресвятой кровью и кровавыми слезами. Этот город станет важнейшей из реликвий, к которой когда-либо сможет прикоснуться брат Томас. Он воображал, как будет страдать от жажды, усталости и безденежья там, где претерпел свои муки Христос.
Путешествие предстояло трудное. Брат Томас старался не думать о грязных лачугах, которые станут его прибежищем, неприступных горных перевалах, неизбежной морской болезни, он сосредоточился на благой цели. Как и многие путешественники, брат Томас собирался удостовериться в том, что ему и так уже было известно, он ожидал увидеть мир, который, казалось, уже знаком ему.
Не все усилия человек направляет на продление своей земной жизни. Достойное паломничество призвано исцелить душу. Когда (или если) брат Томас попадет в Рим и Иерусалим, он очистится от всех грехов (пусть их и немного). А если суждено погибнуть в пути – ну так тем быстрее пред ним отворятся райские врата.
Багаж, расходы, авантюры, духовное совершенствование, риск и развлечение. В позднем Средневековье европейцы упаковывали сумки (или приказывали сделать это другим) и отправлялись в путь. Путешественники – такие как дама Беатрис, граф Генрих и брат Томас – были преисполнены как надежд, так и сомнения. Их мотивы поехать куда-либо были многообразны, цели амбициозны, однако для многих – достижимы. Защелкивая замок на дорожном сундуке и запирая за собой двери, путешественники уже ощущали наваждение раскинувшегося перед ними мира: они жаждали встретиться с ним, вкусить его и вобрать в себя.
Путешествие почти всегда подпитывается предвкушением. Распахнутый, манящий новизной мир соблазнительнее прощального скрипа закрывающейся двери. Дорога обещает обновление личности. Но сборы подтачивают нашу решимость. Они напоминают об объективном. Наши телесные потребности, дорожные неудобства, переживания, что что-то пойдет не так, миллиард ситуаций, к которым мы должны быть готовы (непогода, кража, потеря, поломка) – предвиденным и непредвиденным. Лекарства. Исподнее, рушнички, дорожные полотенца. Зубочистки. Поцарапанные зеркальца. Куски старого мыла и огарки восковых свечей. Нитка с иголкой. Многие средневековые путешественники брали с собой меч, предвидя необходимость пустить его в ход в тот или иной момент.
Покончив с укладкой, человек оказывался перед дорожным мешком весом и размером с быка. Реальность – до боли наглядная, в виде мешка со скарбом – берет верх над воображением и предвкушением.
Говорят, будто путешественник, особенно паломник, разрывает связи с обыденностью; однако багаж сопровождает его в пути подобно тени укоризны. В процессе сборов люди нередко выходят из себя или падают духом, испытывая тоску от самого этого занятия. Наш багаж – это напоминание, что в дорогу мы всегда берем самих себя – грешных, состоящих из плоти и мирской суеты.
Миланский сановник и пилигрим Санто-Браска, посетивший в 1480 году Святую землю, пришел к следующему выводу: путешественнику нужны два мешка – один с деньгами, второй с терпением. Другие путешественники советовали обзавестись и третьим мешком – с верой. Но как раз его-то, как оказалось, легче всего забыть дома или потерять в дороге.
Сборы средневекового путника зависели от его ожиданий. Приготовления не сводились к укладке вещей. Были важные дела, о которых следовало позаботиться. Во-первых, требовалось получить разрешения на отлучку (у супруга или супруги, у священника, правителя), а еще охранную грамоту для проезда через земли других правителей. Мужу, отправлявшемуся в паломничество, нужно было сначала обзавестись специальным разрешением у жены – и наоборот. Всякий живший в закрытом учреждении, например в монастыре или ските, должен был получить дозволение у старшего священнослужителя. Человек оказывался чужаком в ту минуту, когда покидал свой город. Охранная грамота, подписанная королем и предъявляемая в трудную минуту, помогала обеспечить безопасный проезд. Во-вторых, нельзя было уехать, оставив дела в беспорядке. Перед долгой дорогой все составляли завещание: никто не мог быть уверен в том, что вернется к прежней жизни. В-третьих, приходилось позаботиться о финансах: обмене денег, покупке вещей, которые могли пригодиться в дороге. Наконец, многие брали с собой путеводитель. Такого рода книги содержали в себе некоторые пояснения касательно основных пунктов назначения и расстояний между ними. Путеводитель мог указывать на места, где хранятся наиглавнейшие реликвии, а также включать в себя разделы с полезными разговорниками (в некоторых случаях – еще и с алфавитом) и с молитвами для странствующих, а еще справочные сведения (с иллюстрациями) о чудесах и диковинах, которые ни в коем случае нельзя было пропустить.
За месяц брат Томас успел посетить в Англии все места, которые хотел. Из Лондона он отправился сначала на север, в Йорк, чтобы взглянуть на реликвии и усыпальницу святого Вильяма (благочестивый служитель церкви, коварно отравленный соперниками). После брат Томас двинулся на восток, к побережью, чтобы увидеть реликвии и усыпальницу святого Иоанна Беверлийского (великий епископ, который заботился о бедных и отрекся от мира). Далее (миновав Лондон) он поехал на юг, в Кентербери, к месту поклонения святому Томасу Бекету (причисленный к лику святых архиепископ, подло убитый нечестивыми рыцарями). После этого брат Томас отправился на южное побережье Англии, в порт Рай, чтобы отплыть во Францию, оттуда добраться до Рима и, если получится, до Иерусалима.
У лондонского книготорговца брат Томас купил путеводитель. Пергаментная книга, обтянутая телячьей кожей. Написанные коричневыми чернилами аккуратные, ровные строки. Первый же совет автора выглядел пугающим и обескураживающим разом: «Сначала поезжай в Кале, [дальше] через Фландрию, Верхнюю Германию и Нижнюю Германию. Всегда разговаривай учтиво, ведь многие люди грубы, а некоторые еще и злонамеренны, и им только того и нужно, что устроить перебранку».
Путеводитель содержал и другие советы, столь же малоутешительные. Путнику, достигшему Брюгге во Фландрии, рекомендовалось составить маршрут со всей осторожностью и положиться на советы менял, так как на пути полыхают войны и повсюду орудуют злодеи – лиходеи и просто недоброжелатели.
Автор советует опасаться соглядатаев. Он мрачно замечает, что путник не должен никому рассказывать об избранном им маршруте, дабы избегнуть встречи со злоумышленниками, которые, поспешив вперед, наверняка подстерегут наивных, ничего не подозревающих странников.
Путеводитель стращал и дальше: повсюду за границей наткнешься на разбойников, пиратов, воров, мучителей и мошенников. Книга рекомендовала нанять scarceler (фр. escarcelle) – телохранителя и помощника одновременно, который всюду сопровождал бы путешественника и подыскивал для него и его лошади жилье получше. При этом, предостерегает автор, важно быть начеку и не нанять в услужение пьяницу или человека легкомысленного. Тому, кому доверяется путешественник, следует быть «степенным, скрытным и благоразумным»: надежным, незаметным и искушенным. Автор объясняет поникшему духом читателю, что «англичан много где не больно-то и любят» и уважают лишь их деньги, а также умение постоять за себя. Поэтому брату Томасу пришлось положиться на свой тощий кошелек, манеры и благочестивый вид. Как и всякий путешественник, он надеялся на доброту тех, кто встретится на пути, и на то, что ему повезет. С нетерпением ожидая отплытия в оживленной гавани города Рая, брат Томас читал путеводитель. Он предпочел остановиться в «Русалке» – на одном из постоялых дворов, который существует и поныне, только стал гораздо красивее. Узкий и грязный дворик со стойлами опоясан галереями с примыкающими к ним комнатами. В «Русалке» подавали и свое пиво, но останавливались здесь не ради него, а прежде всего чтобы переночевать. Примерно за пенни путешественник получал возможность преклонить голову, но ни на уединение, ни на удобство рассчитывать не приходилось. Он платил или за общую комнату, или (еще за пенни или два) собственную мансарду с запирающейся на замок дверью; а еще всем, от конюха до трактирщика, нужно было давать чаевые. Трактирщика можно было уговорить принести селедки, хлеба и пива – или же гость мог разогреть в очаге привезенную пищу в собственной переносной жаровне. На лучших постоялых дворах постель могли менять каждые четырнадцать дней. Во дворе имелся каменный туалет – его сложно было разглядеть в ночную пору, однако по запаху он обнаруживался безошибочно. И все же постоялый двор, пусть даже обходившийся дороже, имел свои преимущества перед альтернативами: грязным углом в странноприимном доме, кишащим клопами тюфяком на каменном полу монастырского дормитория, беспокойным сном на чьем-нибудь сеновале – украдкой, пока хозяева не видят.
