Схватка за Америку. Триумф белой лилии
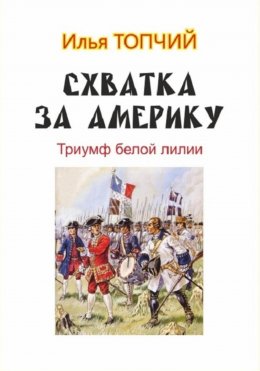
ВВЕДЕНИЕ.
Разные времена, разные нравы, разные экономические условия обуславливали формирование различных систем. Кто-то быстро развивался и получал все преференции, сокрушая врагов. Кому-то судьба определила менее завидное положение и вечную борьбу за место под солнцем.
Становление колониальных владений французов в Северной Америке, в их основной вотчине, Канаде, происходило совсем непросто. Более тёплые и привлекательные в плане экспансии земли заняли испанцы, англичане и голландцы, плавания были дороги, а Франции – отнюдь не великой морской державе в 16-м веке – первой половине 17 столетия, почти всё время занятой внешними войнами и внутренними религиозными раздорами на Европейском континенте, часто было не до внешней заокеанской экспансии.
Нередко всё попросту висело на волоске. Основываемые в Канаде поселения, маленькие и слабые, лишённые автономности, на период долгой канадской зимы оказывались отрезаны от метрополии и выживали в условиях холодов. А весной, когда приходили корабли, начинали свирепствовать болезни.
Попытка основать колонию в 16-м веке попросту провалилась. Католическое правительство Франции предприняло всего одну попытку. Однако несогласованность действий предводителя поселенцев Роберваля – гугенота по вероисповеданию, представителя кальвинистского протестантского течения, и человека, ответственного за снабжение колонии, мореплавателя Жака Картье, – неумелые действия по заселению нового региона, низкая экономическая ценность Канады (привезённые Ровервалем алмазы оказались не более, чем кусками слюды) привели к свертыванию поселения.
Последовавшие затем долгие годы религиозных войн в самой Франции (1562-1598 годы) заставили забыть об Америке надолго. Стороны были слишком заняты, уничтожая друг друга в братоубийственной бойне. Им было не до дорогостоящих инвестиций в далёкие области за океаном.
Сам Роберваль ненадолго пережил своего соперника, Жака Картье. В 1560 году, всего через три года после смерти последнего, его заколол кинжалом религиозный фанатик.
Не плыли в холодный край и гугеноты. Все их попытки найти Землю Обетованную в Америке в 1555-1565 годах ограничились Флоридой и Бразилией. Но здесь их (в сумме до 2000 переселенцев, моряков и солдат) несколько раз почти поголовно истребляли португальцы с испанцами. Более северный и холодный край – покрытая туманами и снегами Канада, – совершенно не привлекал их, хотя был намного более безопасным от атак эскадр из Кадиса и Лиссабона.
Главные ценности Канады, пушнина и древесина, ещё не были в должной мере оценены исследователями. Однако рыболовецким шхунам из Бискайского залива требовались заокеанские базы для промысла ньюфаундлендской трески, а про то, что страна способна стать настоящей житницей, кормилицей миллионов людей, и плодородные прерии к северу от Великих Озёр окажутся в состоянии кормить зерном целые народы, сообразили только во второй половине 19 века.
17-й век начинался не лучше. В мире царил малый ледниковый период, сезонная температура была куда холоднее, чем сейчас, а климат – суровее, Северную Америку населяли малочисленные индейские племена, стоявшие на невысокой степени развития, и в этот материк, эту почти безлюдную Терра Инкогнита, этот бесценный приз для перенаселённой тесной Европы, уже вцепились все, кому не лень. Наплевав на объявивших о своём безусловном праве на земли обеих Америк испанцев и португальцев (согласно Тордесильясскому договору 1494 года вся земли Североамериканского континента оказывались во владении Испании, а остров Ньюфаундленд – Португалии), через океан хлынули тысячи жаждущих новой лучшей жизни людей, и не только французы: англичане, шотландцы, ирландцы, голландцы, и даже шведы с датчанами успели принять участие в освоении Нового Света.
В Канаде же имелось всего несколько поселений французов, основанных в 1604-1608 годах (в том числе столица Квебек), где обитали считанные десятки человек: торговцев, солдат и священников. Как правильно заметил один из героев канадского фильма «Чёрная сутана», рассказывающего про тот ранний период: «У англичан и голландцев поселенцы, а у нас что? Попы?»
Передача вопроса освоения заокеанских земель из государственных в частные руки вообще оказалась не слишком надёжным предприятием, что для французов в Канаде, что для голландцев в Южной Африке. Ту же французскую Руанскую компанию, основанную в 1600 году, в Новой Франции интересовала прежде всего сиюминутная коммерческая прибыль, цели ставились оправдать имеющиеся вложения, вопрос заселения был признан нерентабельным. Несмотря на меры, принятые Самюэлем Шамплейном – гугенотом, деятельности которого способствовали уступки бывшим единоверцам Генриха Наваррского, в частности основание Квебека, население французских колоний оставалось крайне незначительным в сравнении с их будущими противниками.
Колонии французов в Канаде оставались островками в чужом враждебном мире, лишавшимися каждую зиму связи с метрополией, что ставило их в опасность вымирания. Они могли быть сметены любым случайным ветром, а не то что – могучим ураганом, последовавшим в 1628-1629 годах.
Для сравнения: в 1620-е годы всего 200-270 жителям Новой Франции противостояло примерно 20-25 тысяч английских поселенцев на юге. К тому же, последние активно противодействовали французам: например, первая иезуитская колония Сен-Совье, основанная по инициативе маркизы де Гершвиль в 1613 году, была уничтожена англичанами.
Ситуацию попробовал спасти кардинал Ришелье, пришедший к власти во Франции. В 1627 году им была основана компания Ста акционеров, готовились меры по освоению Канады (всего предполагалось переселить 4000 человек до 1643 года – до этого приехало только 103 поселенца). В 1628 году из Дьеппа в Канаду был отправлен конвой на нескольких больших кораблях, перевозивший 400 поселенцев (больше, чем в Новой Франции жило всего) и припасы для колонии.
Однако вмешалась сама судьба: в 1627 году началась очередная англо-французская война. О приготовлениях французской королевской власти узнали англичане и примкнувшие к ним гугеноты во главе со своим капитаном Мишелем, через шпионов во французских портах, и конвой, шедший в Квебек, был перехвачен в июле 1628 года прибывшей из Европы флотилией братьев Кёрков в устье реки Святого Лаврентия.
Так оказался похоронен новый (после Роберваля и Жака Картье в 1540-х годах) проект усиления позиций Франции в Новом Свете. Разрыв и отставание в колонизации с южными английскими колониями ещё более увеличились.
А в 1629 году последнее французское поселение в Северной Америке, небольшой форт Квебек на Алмазной скале, оказался в руках англичан. Вторая экспедиция братьев Кёрков, захватывавших французские рыболовецкие суда в заливе Святого Лаврентия, определила его судьбу: лишённый провизии и боеприпасов для самозащиты, форт капитулировал, едва только перед его порогом высадился английский десант. Глава колонии Самюэль Шамплейн попал в плен и был увезён во Францию, в поселении остался английский гарнизон, и, хотя отдельные всполохи сопротивления на полуострове Новая Шотландия продолжались и в 1630 году, это было полное и окончательное поражение.
Казалось, всё… Теперь, с учётом грядущего падения Новой Голландии и Новой Швеции и ослабления испанцев в течение 17 века, англичан, казалось, ожидало полное доминирование на североамериканском континенте.
Однако в 1632 году произошло событие, резко поменявшее ситуацию в Америке и заложившее прочный фундамент для полутора столетий будущих войн на континенте. Дело в том, что в 1632 году Квебек, Порт-Рояль, Ля Тур и Тадуссак из-за ситуации в Европе и финансовой зависимости Карла от французских денег оказались возвращены своим прежним владельцам, французам. Это создало самую большую головную боль английским колониям в Новом Свете на долгие годы их существования.
И в 1633 году французы вернулись. Восстановили форт на Алмазном мысу, обжили заброшенные дома, в окнах которых вновь затеплился свет…
Первые годы после своего канадского возрождения французы вели себя тихо. Вернулись в Квебек (их предводитель, Самюэль Шамплейн, умер вскоре после этого в 1635 году), осторожно продвигались вверх по реке Святого Лаврентия, основав будущие города Труа-Ривьер и Монреаль (тогда – деревушку Виль-Мари), осуществляли торговлю с индейцами, строили отношения с племенами, крестили их и учреждали католические миссии на постоянной основе.
К 1640 году общее число канадских колонистов не превышало 300 человек. Этого были слишком мало, чтобы противостоять 80 тысячам жителей новоанглийских колоний на юге и даже местным враждебным аборигенам.
Они жили тихо, и строили своё будущее, переживая одну суровую канадскую зиму за другой. Жили, уповая лишь на то, что до поры до времени их оставят в покое, вознося соответствующие молитвы.
(Вариант из альтернативной истории, когда Канаду заселяли бегущие из Франции гугеноты, также не спасал положение вещей. Ограничение в колонизации Канады представителей иных конфессий, конечно, создавало препоны в росте численности её населения, однако, во-первых, центральное французское правительство боялось появления за океаном второй «Ла-Рошели» – сепаратного государства в государстве. Во-вторых, сами гугеноты ехали в далёкую холодную Канаду крайне неохотно, всего прибыло около 1450 человек за весь 17-й век, и в дальнейшем, с отменой Нантского эдикта в 1685 году, или бежали отсюда, или были вынуждены принять католичество, растворившись мелкими общинами в Монреале и Квебеке).
Тем не менее, новые поселенцы всё прибывали. Шотландцы и баски быстро оказались вытеснены с полуострова Новая Шотландия, в конце 1650-х годов французов в Акадии и Канаде насчитывалось уже более двух тысяч человек. Среди них были женщины и дети, и это уже являлось некоторой основой для будущей нации.
И вот здесь произошли события, определившие очередной перелом истории. Очередная угроза гибели колонии интенсифицировала её развитие, заставив французское государство наконец-то взять ситуацию в свои государственные руки.
Во-первых, в Акадии (куда входил полуостров Новая Шотландия) английские пуритане из теократической колонии-государства Массачусетс, самой северной в Новой Англии, всегда с вожделением смотревшие на эти землю, одержали убедительную победу, захватив в 1654 году столицу области Порт-Рояль. Французские поселенцы оказались оттеснены в болотисто-лесистые земли современной канадской провинции Нью-Брансуик, обосновавшись в форте Ля Тур в устье реки Сент-Джон (тогда Сен-Жан).
Второе было куда важнее. Дело в том, что прибытие европейцев, появление из-за этого среди аборигенов таких рынков сбыта, как связанные со спросом на пушнину, массовое насыщение местных индейских племён современным огнестрельным оружием привели к тому, что резко интенсифицировались и ожесточились конфликты между ними, внутри племён и между племенами и вновь прибывшими белыми людьми.
И вот тогда на первый план вышла так называемая Ирокезская лига или Конфедерация Ирокезов. Это был мощный племенной союз к югу и востоку от Великих Озёр, образовавшийся в 1570-х годах, ещё до массового заселения Северной Америки европейцами. Конфедерация стояла на куда высшем уровне развития, чем многие племена (например, занималась земледелием), и, кроме того, её обильно снабжали современным оружием её партнёры и союзники, английские и голландские торговцы, боровшиеся против французских конкурентов. С 1640 года она вела так называемые Бобровые войны, за богатые пушниной земли, получая за это от своих белых торговых партнеров – сперва голландцев, а затем сменивших их англичан, вожделенное оружие, инструменты и алкоголь.
Лига наступала на север и восток, безостановочно расширяя подконтрольный ареал, и вскоре вышла к границам Новой Франции. Землям, куда бежали от преследования некоторые её соперники (те же гуроны, сильно пострадавшие от эпидемий и потому неспособные более представлять реальную силу) и где, по мнению вождей Лиги, обитали злейшие её враги – французы.
(Эту проблему еще в 1609 году создал путешественник де Шамплейн, впоследствии – губернатор Новой Франции, вмешавшись в конфликт между гуронами – с одной стороны, и представителями Конфедерации Ирокезов – с другой. С этого момента «настоящие гадюки» – как переводилось имя «ирокезы» – и канадские колонисты стали настолько заклятыми врагами, что порой казалось – еще немного, и колония будет навсегда потеряна для французской короны).
Канада вновь оказалась под угрозой краха. Ирокезы периодически осаждали поселения на западе колонии (в том числе Монреаль) и совершали набеги по рекам вглубь её территории. В 1692 году они даже атаковали Квебек, сумев ворваться внутрь через периметр внешних укреплений, правда, ненадолго (это был всего-навсего набег).
Спас Новую Францию молодой король Людовик Четырнадцатый (правда, не сам, а с явной подачи Кольбера). Он и стал истинным отцом нации французских канадцев.
Будущий «Король-Солнце» всего два года после смерти кардинала Мазарини получил всю полноту власти. Однако новости из-за океана обеспокоили его. В 1663 году он объявил Канаду королевской колонией, наконец-то забрав её из частных рук, и ввёл в ней все соответствующие институты управления (в том числе разделённую на три ветви власть – военную, административную и интендантскую).
Последнее (подобное разделение властей) ещё негативно скажется для французской Канады в годы последней для неё войны 1754-1760 годов. В те последние дни три представителя всех трёх правящих ветвей, губернатор Водрёй, главнокомандующий сухопутными силами Монкальм и интендант Биго, часто скорее соперничали друг с другом, чем занимались реальным делом, и в решающий момент битвы на Равнинах Авраама, оказались совершенно разделены.
В 1665 году в колонию прибыли первые подкрепления – немецкие и итальянские солдаты полков Кариньян-Сальера и Бальтазара. Теперь Канада находилась под надёжной военной защитой.
В том же году своё назначение интендантом колонии получил знаменитый Жан Талон. Он начал свою активную хозяйственную деятельность и провёл ряд преобразований, которые позитивно сказались на состоянии Новой Франции в дальнейшем.
Это стало временем реставрации и настоящего экономического бума. Колония встала на ноги и расцвела: строились форты, прибывали корабли с оружием, припасами и колонистами. Основывались деревни, распахивались поля, сооружались форты.
Прибывшие из Европы солдаты смогли сдержать свирепых ирокезов. Более того, в 1666-1667 годах они совершили ряд ответных походов в земли врага, многие из них, отслужившие свой срок (всего 412 человек), впоследствии остались в колонии на поселении, получив земельные наделы и обзаведясь семьями.
В 1672 году французы также вернули себе Порт-Рояль в Акадии. Англичане уступили его под дипломатическим давлением, ведь им нужен был союзник в Европе для разворачивающейся войны против голландцев. Полуостров Новая Шотландия теперь целиком контролировался французами.
Интендантство Талона стало также временем подлинного рождения общности франкоканадцев, современных квебекюэ. Именно так, с окончанием на «юэ», а не «уа», как говорят коренные французы – признак квебекского диалекта жуаля, сформировавшегося из старофранцузского наречия севера средневековой Франции с примесью англицизмов на основе своеобразного произношения к середине 19 века. Несмотря на ряд мер по «усовершенствованию» языка и ликвидации ряда коренных отличий от французского, язык франкофонов продолжает быть ближе к традиционному жуалю, чем к языку современных французов.
Перепись 1666 года дала от 3200 до 3400 человек населения (округлённо), при этом сохранялась старая канадская проблема – нехватка женщин. Для решения демографической проблемы Людовиком Четырнадцатым, «Королём-Солнцем», был введён институт Невест Короля, практика отправки незамужних женщин из Франции в Канаду. Многим из них было уже за 20 лет (по меркам Европы – «старые девы»), что, однако, в совокупности с серьёзным отбором по здоровью, позволило растить неплохое потомство и обеспечило лучшую по сравнению с соседями-англичанами рождаемость (иными историками характеризуемую как «аномальную»).
Жизнь в колонии закипела и забурлила. Даже негативное отношение к предмету во французском обществе, в «старой» Франции не могло поменять ситуацию.
Всего с 1663 по 1673 годы в Канаду прибыло больше тысячи девушек, из которых 737 смогли выйти замуж и в дальнейшем не развестись (прочие или развелись, или стали монахинями, или умерли от болезней, или уехали обратно во Францию). Они стали основой для генофонда новой общности, которая могла теперь праздновать своё рождение, а то, что мужьями их были отставные солдаты и офицеры, соответствующим образом воспитывавшие своих детей, сформировало будущий облик канадцев, способных по единому призыву встать в строй.
В 1673 году жителей Канады (без Акадии) насчитывалось уже около 6700 человек. В 1681 году число поселенцев уже достигло почти 10 тысяч. В 1689 году в Канаде жило 12000 белых поселенцев и ещё около 1000 человек насчитывалось в Акадии.
Как писал американский историк Ронг много позднее, характеризуя складывающуюся нацию: «это был народ воинов, народ охотников. Метко стрелявших, выносливых, способных спать зимой в сугробах, физически крепких. Полная противоположность их соперникам из американских колоний Англии, пронырливых торговцев и менял».
(Потомки священников и солдат сами стали священниками и солдатами (а в Канаде все годы французского владычества существовало только две карьерные стези – военная и духовная). Суровый, клерикальный, полностью милитаризированный, но экономически беспомощный канадский Север вырос в полную противоположность многолюдному, самодостаточному в хозяйственном плане, но слабому в военном отношении английскому Югу).
…Начавшаяся в 1672 году война с голландцами в Европе, тогдашними «хозяевами морей», отвлекла внимание французского короля от Канады. Расходы на европейские дела чрезвычайно возросли, колесо боевых действий требовалось постоянно смазывать денежными затратами. Североамериканской французской колонии оказалось не место в новой смете.
Институт «Невест Короля» оказался свернут в 1673 году. Крупные регулярные силы выводились из Канады. Колония вновь на целое десятилетие оказалась открыта перед рейдами ирокезов.
Взамен в 1684 году (годы спустя) создали три регулярных роты, так называемые «Вольные роты», прообраз постоянных войск колонии, осуществлявшие охрану её владений, но это было совсем не то.
Война продлилась недолго, всего шесть лет, и завершилась Нимвегенскими мирными соглашениями 1678-1679 годов. Она в очередной раз застопорила развитие Канады. Подсчитано, что, если бы Людовиком Четырнадцатым и его наследником каждый раз после крупной войны возобновлялась практика отправки «невест» для страдающей демографическим дисбалансом (число мужчин старше шестнадцати лет традиционно примерно в полтора раза превышало количество женщин той же возрастной категории), то есть, в 1679-1689, 1997-1702, 1715-1740 годах, примерно по сотне девушек в год, это смогло бы решить имеющуюся беду.
Даже более того, подобное позволило бы определённым образом нивелировать демографическую угрозу английского Юга (с завидным постоянством превосходившего Канаду в 1680-1754 годах по населению в 20-25 раз). Американские колонии Англии очень долго не могли объединиться, французская же Канада представляла собой куда больший монолит с точки зрения управления и обороны.
Дело в том, что для заселения колонии использовались отставные солдаты и офицеры, отслужившие по контракту в «Вольных ротах», часто немцы, а женщин в колонии больше не рождалось. Индейцы же оказались слишком малочисленны, чтобы создать этническую группу метисов, как в Мексике. Восполнить недостаток по половому признаку можно было бы только искусственно, при активной государственной поддержке извне.
Однако, чего не случилось – того не случилось. История не знает сослагательного наклонения, идёт, неторопливо проворачивая своё колесо. Да и кто знает, как сложился бы ход событий, будь белых обитателей колонии Новая Франция (Канады, Акадии, Иллинойса, Луисбурга и Луизианы) в 1754 году не всего 80 тысяч человек, как в нашей реальности, а, предположим, 150-200 тысяч колонистов.
Однако третий шанс закрепиться надёжно в Северной Америке (после попыток 1540-х и 1620-х годов), на континенте, пусть даже без фактора господства флота на море, французами оказался вновь благополучно упущен.
Тем временем роковая Схватка за Америку продолжалась. На юге англичанам удалось наконец объединить земли от Каролины до Мэна, забрав у голландских, шведских и датских конкурентов их владения. Новая Голландия стала Нью-Йорком, Новая Швеция – Делавэром, датские острова присоединили к Вирджинии.
Все эти земли оказались объединены в единую систему, протянувшуюся вдоль современного восточного побережья США. Правда, эти колонии, сбор разноплемённых и разноконфессиональных объединений, периодически так и порывались схватиться между собой в гражданской войне. Однако они и стали прообразом современных Соединённых Штатов, одного из самых могущественных государственных образований в современной истории.
Эта угроза оказалась проигнорирована в Квебеке, Труа-Ривьере и Монреале. На севере французы и их индейские союзники, новокрещённые абенаки, гуроны, оттава и прочие бились не на жизнь, а на смерть с могущественными ирокезами. Им было не до угрозы с юга.
Ирокезская Лига, вооружённая до зубов англичанами и голландцами, безостановочно наступала. В 1686 году индейцы данного племенного союза устроили Лашинскую резню возле самого Монреаля, а в 1692 году дошли до самого Квебека. Канадские и индейские католики могли лишь благодарить бога за то, что ирокезам (на алгонкинском, как уже упоминалось, «настоящие гадюки») не поставили артиллерию и они не умели пользоваться пушками, благодаря чему колонисты могли отсиживаться за своими хлипкими частоколами в поселениях и фортах.
Впрочем, сила солому ломит. Метрополия, королевство Франция в Европе, вливала всё новые ресурсы в Канаду страницу назад говорили об обратном, и колонистам удалось сдержать нашествие ирокезов.
Успехи французов в Канаде в этот период оказались напрямую связаны с деятельностью ещё одного национального героя канадцев, ещё одного отца-основателя их нации, графа Луи де Бюада де Фронтенака, бессменного губернатора Новой Франции с 1672 по 1698 годы. Сбежав, по некоторым данным, от кредиторов в Европе, за океаном он нашёл обширное поле для реализации своей кипучей энергии, организаторских и администраторских способностей.
Уже в 1673 году он основывает форт Фронтенак (современный город Кингстон), главную базу французского флота в восточной части Онтарио, ставя под контроль просторную речную систему реки Святого Лаврентия и Великих Озёр, путь в глубину континента. Отсюда впоследствии знаменитый де ла Саль совершит свой великий поход, пройдёт волоками в районе Детройта и бассейном реки Миссисипи спустится к Мексиканскому заливу в 1681-1682 годах, обрисовав облик будущей Новой Франции: тонкую цепочку поселений и фортов вдоль русел двух великих рек, Святого Лаврентия и Миссисипи, образующих огромные области Канады и Луизианы.
Именно с подачи неукротимого канадского губернатора у Канады в 1684 году вновь появятся собственные вооружённые силы, всего три роты по 100 солдат. Мелочь, которая, тем не менее, сыграла решающее значение в отражении атак на колонию. Именно Фронтенак готовится воевать не на жизнь, а на смерть с беспощадной угрозой с юга – приглядывающими себе всё больше места под солнцем английскими колониями.
В 1670 году к северу от Канады появляется новая угроза, так называемая «Компания Гудзонова Залива». Это было всего несколько промысловых укреплений на южном берегу одноимённого залива, контролирующих устья рек, поднявшись по которым, можно было, тем не менее, через водораздел выйти к Великим Озёрам с севера, отрезав Канаду от сообщений с Луизианой.
И губернатор Фронтенак вновь оказался на высоте. Экспедиция готовилась долго и упорно, в тайне, и увенчалась полным успехом. Отряд из всего 190 человек канадцев и индейцев, без артиллерии и с минимумом необходимого, пройдя на берег Гудзонова залива в 1686 году, внезапно захватил все три опорных пункта англичан здесь, утвердив господство знамени с лилиями (официального символа Франции до Революции 1789 года) в этих холодных краях вплоть до 1713 года.
Стороны шли к массированному конфликту, снова, как в 1627-1629 годах. Наступало время для войны нового типа, переход, метко охарактеризованный историком Юрием Акимовым: «от межколониальных конфликтов – к битве империй». Как два корабля сходились перед абордажной схваткой – так и два противника, застарелых в сражениях в Европе, готовились помериться силами за океаном.
(Заканчивался сплав, формирование двух антагонистических систем на Севере и на Юге. Проблема аборигенных войн (Бобровых на Севере и войны Короля Филиппа на Юге), как и испано-португальско-голландская угрозы, отходили на задний план, а на передний выступал вопрос: кто же всё-таки будет править в Новом Свете?)
Впрочем, Канада теперь оказывалась не так слаба и беспомощна, как 70 лет назад. Обладая приличным (в сравнении, конечно) мобилизационным потенциалом, она готова была дать сдачи.
Главным движителем агрессии против Канады выступал Массачусетс. Это было клерикальное государство пуритан, беженцев от религиозных преследований из Англии. Здесь, за океаном, они нашли свою «Землю Обетованную» и строили свой собственный мир, в котором не было место прочим.
(Прочие английские колонии ещё не вполне осознавали северную канадскую угрозу как объединяющий фактор (тот же Коннектикут, в 1689 году, например, чуть было не воевал с Массачусетсом) и потому до поры оставались в стороне. Но Массачусетс со столицей в Бостоне был самым ярым, самым отчаянным и последовательным противником французов в их лесной и горной цитадели на севере).
Такая модель поведения массачусетских элит обуславливалась рядом факторов. Во-первых, в качестве таковых выступали конфессиональные различия (католики и протестанты, причём последние – самые упорные, по сути, настоящие фундаменталисты того времени, вооружённые идеей о собственном предназначении). Во-вторых, делу враждебности служили географические условия (Массачусетс – самая северная колония Новой Англии, соответственно, наиболее подверженная набегам союзным французской короне индейских племён).
В-третьих и в основных, экономический фактор. Жажда контроля рыбных промыслов на банках к югу от Ньюфаундленда не оставляла массачусетских торговцев, они готовы были на любые ухищрения для достижения своей цели.
Такой единоличный контроль приносил огромные, многомиллионные и даже миллиардные, по современным меркам, барыши их соперникам с западного побережья Франции. Французские и бретонские рыбаки не боялись на рыболовецких шхунах пересекать океан для получения столь солидной прибыли, по мнению обитателей Массачусетса, им следовало поделиться.
Именно Массачусетс спонсировал атаку на Акадию в 1654 году. В 1690 году вспыхнула новая война между Англией и Францией, вызванная государственным переворотом и сменой правящего режима в Лондоне, с последующим неприятием этого факта в официальном Париже, и новое наступление в Америке тут же началось.
Канада очутилась между молотом и наковальней. С запада наступали ирокезы, с моря и юга – англичане. Колония оказалась под двойным ударом.
Подкреплений можно было не ждать. Дело в том, что до поры до времени в европейской международной дипломатии того времени утвердилась так называемая «доктрина о двух сферах». Согласно ней, война в Европе означала экспорт боевых действий через Атлантику, а вот конфликты в Америке, наоборот, отнюдь не влекли за собой эскалацию боевых действий на Старом материке.
Поэтому, узнав о том, что за океаном началась очередная межъевропейская война, массачусетский губернатор Фиппс, предприимчивый оппонент Фронтенака, тут же собрал флотилию и бросился в наступление на Акадию и её восточный выступ, полуостров Новую Шотландию. Война между колониями началась.
Эта война получила в Америке наименование «войны короля Вильгельма». Она получила своё название по имени нового правящего монарха, английского государя Вильгельма Оранского, и продлилась семь лет. В ходе неё новоиспечённый канадский народ вновь показал свою жизнестойкость.
Акадию, вернее, её столицу, Порт-Рояль, на юго-западе Новой Шотландии, массачусетцы захватили очень легко. Всё население области составляло тогда не более тысячи белых поселенцев (не считая местных индейцев из племени микмак) на довольно растянутом побережье, нескольким сотням новоанглийских провинциальных ополченцев, обладавших к тому же господством на море, злосчастным французам было противопоставить банально нечего. Заняв Акадию в мае 1690 году, воодушевлённый Фиппс умчался обратно в Бостон, собирать силы для решающего наступления.
Накопив войска и заключив союзы, массачусетцы попробовали решить дело одним быстрым ударом. Вторжение в Канаду делалось по ставшей в дальнейшем классической схеме. Отряд из привлечённого к участию в войне Нью-Йорка (бывшей голландской колонии Новая Голландия) численностью 900 человек должен был наступать по коридору, ведущему прямо на север по речным системам Гудзона и Ришелье, дорогой, выводящей к Монреалю, а вторая армия, насчитывавшая 2360 человек (2300 ополченцев и 60 индейцев) на нескольких десятках судов с более чем тысячей человек команды во главе с самим Фиппсом следовала морем к Квебеку.
Провидение хранило французскую Канаду. В спешке собранное во второй половине 1690 года, нашествие претерпело крах.
Отряд из Нью-Йорка был остановлен французами на подступах к Монреалю и откатился на южный берег озера Шамплейн, основав там укрепление. Захват Квебека не состоялся из-за позднего времени его атаки (в октябре, когда уже дуют сильные ветра и навигация сильно затруднена из-за туманов) и больших сил, собранных губернатором Фронтенаком (более 2000 человек, включая экипажи двух фрегатов, укрывшихся в гавани; впоследствии подошло ещё 200-300 победителей из-под Монреаля), для его защиты. В сражении 16-24 октября 1690 года рискнувший напасть Фиппс потерпел поражение и ушёл ни с чем, а гордый губернатор Канады мог торжествовать свою победу.
Эта кампания определила ход всех дальнейших наступлений на Канаду – нашествия через узкие дефиле проходов с юга (коридор Монреаль-Нью-Йорк – через озерно-речную сеть река Гудзон – озеро Джордж (Сакраман) – озеро Шамплейн – река Ришелье), запада (со стороны Онтарио, через Осуиго) или северо-востока, со стороны моря по течению реки Святого Лаврентия, – и обусловила специфику успешности обороны колонии: форты на соответствующих направлениях, в узловых точках. Она же показала, что для успеха нападения на французскую Канаду нужно заблаговременное выдвижение (базы англичан находились далеко на юге, а погода осенью делает невозможным длительные осады) и сосредоточение очень большого количества ресурсов – то, на осознание чего англичанам потребуется ещё несколько десятилетий, прежде чем они придут к победе.
Это был перелом в войне. Последующий семь лет французы только и делали, что наступали и возвращали потерянное, а англичане теряли захваченное. Был потерян южный берег озера Шамплейн, в Акадии французский барон де Сен-Кастен во главе отрядов канадских ополченцев, акадских партизан и местных аборигенов-индейцев, сам как дикарь, весь в боевой раскраске, громил посты и отряды массачусетцев и в конце концов отбил-таки Порт-Рояль.
Риксвикский мир 1697 года восстановил статус-кво, и французы смогли вздохнуть с облегчением. А в 1701 году, три года после смерти губернатора Фронтенака (тот так и не увидел цель своей жизни) в Монреале был подписан Великий мир с Конфедерацией ирокезов, подведший черту под десятилетиями упорных войн на континенте.
Всё? Казалось бы, всё, конец бесконечной войне. Ирокезы были замирены, часть их продвинулась к югу и заняла Огайо, английские колонисты на юге оказались разбиты и французским и союзным индейским поселениям в долине реки Святого Лаврентия больше ничего не угрожало.
Мир оказался недолог. В 1702 году война в Европе вспыхнула вновь, и стороны в Америке опять взялись за оружие.
В американских колониях Англии эта война, получившая наименование войны королевы Анны (по имени царствовавшей в Лондоне королевской особы), стала одним из поворотных моментов в истории Нового Света. Она продлилась 11 лет и стоила великих жертв и затрат; она же опять показала сильные и слабые стороны сторон.
Канадцам снова пришлось сражаться. Англичане атаковали с юга, вновь и вновь, но без помощи флота и крупных регулярных формирований получалось у них не очень хорошо. Порт-Рояль атаковали не меньше 5 раз, в 1704-1708 годах, однако каждый раз, при мизерности гарнизона оборонявшихся, многочисленные, но плохо организованные американские колонисты терпели поражение. Наступление на Монреаль с юга генерала Николсона в 1709 году также провалилось. Казалось, канадцы отстояли право на свой образ жизни…
Прибывшие-таки в 1710 году постоянные войска из Англии и флот решили дело. Пал Порт-Рояль, в 1711 году предполагалось комбинированное вторжение через Шамплейн и устье реки Святого Лаврентия, на Монреаль и Квебек, в котором оказалось задействованы силы, сопоставимые с общим населением Новой Франции (свыше 20 тысяч солдат, ополченцев, моряков и индейцев).
Только чудо спасло Канаду в этот год от разгрома. Экспедиция адмирала Уолкера (7500 человек десантной армии (в том числе 5300 солдат и офицеров регулярных войск), 4500 военных моряков), шедшая морем, как и Фиппс 21 годом ранее, выступила в поздний штормовой сезон и потеряла в авариях семь кораблей и сотни людей из своего состава (остатки флотилии укрылись в гавани будущего Луисбурга). Генерал Николсон так и не покинул свой лагерь под Олбани.
Попытка вторжения в 1712 году также провалилась. Англичане прочно контролировали Акадию и морские пути, однако, в силу географических условий, канадский губернатор Водрёй (отец ещё одного будущего губернатора Канады) твёрдо удерживал долину реки Святого Лаврентия, а на территории Ньюфаундленда до самого конца войны продолжалась борьба с переменным успехом.
Утрехтский мир 1713 года оказался тяжек. Были потеряны Акадия с населением около 2 тысяч франкоговорящих, Ньюфаундленд, откуда бежали все французские колонисты. На богатые рыбные промыслы к югу от Ньюфаундленда англичане также наложили свои загребущие руки.
Канада, в которой в 1713 году, по разным оценкам, проживало от 22 до 24 тысяч белых, не считая индейцев, устояла. Рождённая в горниле войн, закалённая, подобно мечу, она продемонстрировала свету своё право на существование. Тем самым, оказались заложены основы для воинской гордости французских канадцев и мечты о реванше (то есть, основан прочный фундамент для дальнейших конфликтов).
(Падение Канады в начале 18 столетия могло иметь непрогнозируемые последствия. Американские колонии Англии (где жило в 1713 году уже порядка 450-500 тысяч своих обитателей) активно развивались, чеканили собственные монеты, создавали свою промышленность (в частности, кораблестроение) и имели нередко взгляды, сепаратные от настроений центрального правительства (те же англичане-католики Мэриленда, немцы Пенсильвании, пуритане Массачусетса, голландцы Нью-Йорка). Вместе с тем, они пока не имели сплочённости, единства. Исчезновение общего врага на севере, вопрос о дальнейшем статусе канадских земель могли заставить события развиваться непредсказуемо).
Американская история прошла ещё одну точку перелома. Дальнейшее развивалось по накатанной схеме.
Самый сильный удар по Канаде нанесло собственное правительство. Оно как будто забыло Канаду, отказалось от неё, как от надоевшей игрушки. В 1715-1740 годах, когда в самой Франции началось гниение и ощущались последствия от десятилетий тяжких войн в Европе, к Канаде возникло отношение как к бесполезной обузе, чему-то ненужному, затратному, мрачному, дотационному.
Тезис Вольтера «не более нескольких арпанов снега» (арпан – старая французская мера площади), подразумевающий экономическую нецелесообразность колонии, именно тогда и зарождался. В Париже по инерции ещё боготворили колонию, но на юге уже активно началось развитие «сахарных островов» и главной житницы французского бюджета, Сан-Доминго, куда завезли сотни тысяч негров-рабов, торговля продукцией с Кариб приносила нешуточные доходы, на этом фоне боевая доблесть канадцев как-то померкла.
Институт «Невест короля» так и не восстановили. Главной ценностью для малолюдной колонии являлись люди, но человеческого капитала как раз и не хватало (особенно женщин). Между тем как посылка хотя бы по сотне девушек в год позволило бы довести бледнолицый генофонд только Канады (то есть, без Акадии, Иллинойса, Луизианы и индейцев) до 60 тысяч человек в 1739 году, а в 1754 году, при сохранявшихся темпах рождаемости – до как минимум 80 тысяч человек (а с Акадией, Иллинойсом и Луизианой – и того выше).
Не было и массовых переселений. В 1720-х годах началась вторая волна иммиграции, однако, как и прежде, это были отправленные отбывать воинскую повинность наёмные солдаты, часть из которых оставалась на поселении, а также горстка чиновников (крестьян почти не было, что бы не писал Пикуль в своём романе «Пером и шпагой»).
Канада превратилась в обыденную кормушку для адмиралов. Последние назначались на должности её губернаторов (колонии находились в ведении Морского министерства, на военно-административные должности садили чинов из флота). Эти люди явно спустя рукава относились к своим исполнительным функциям, деля бюджет, не всегда отпускаемый на финансирование колонии и строительство крепостей и мечтая лишь о том моменте, когда можно будет оставить свои не слишком завидные полномочия.
Затхлый угол мира, дыра мироздания – вот что такое Новая Франция для французов. То ли дело богатые и прибыльные карибские сахарные острова, дававшие в лучшие годы в середине 18 столетия от половины до двух третей поступлений в бюджет!
Тем не менее, кое-что делалось. С потерей Ньюфаундленда колонисты оттуда поспешили перебраться южнее, на остров Иль-Рояль (современный остров Кейп-Бретон). Здесь они основали новую цитадель, Луисбург, откуда могли грозить теперь англичанам.
Этот город, гавань и опорный пункт в линии снабжения Канады, пролегавшей теперь к югу от Ньюфаундленда и далее вглубь континента, через речную и озёрную систему реки Святого Лаврентия и Великих озёр, стал одной из самых главных крепостей Новой Франции. Швартовались и отходили корабли, укрепление охранял небольшой гарнизон из наёмников и «Вольных рот» морской пехоты. 30 миллионов ливров было затрачено на его строительство: астрономическая по тем временам сумма.
Строились и другие крепости – меры экономического развития метрополия, теперь в этом плане развивавшая свои Вест-индские владения, для Новой Франции попыталась заменить отдельными военно-фортификационными начинаниями. Усилиями военно-морского министерства и интендантства Франции колонию теперь пытались превратить в настоящую крепость. На путях следования войск, речных, озёрных и морских коммуникациях, в узостях горных проходов сооружались форты и крепости; росло и число войск, их охранявшее.
Внутри самой колонии была видимость возрождения. В Квебеке и Монреале духовенство и военная администрация, обманутые ложным ореолом величия, грезили о реванше и о возврате Акадии, где под английским управлением жили тысячи их единоверцев и соплеменников.
В 1730-е годы эти настроения усилились. Годы мира и периодические стычки на территории захваченной Акадии (иногда выливавшиеся в настоящие миниатюрные военные кампании) укрепили их. Канадское общество, где всегда было в полтора-два раза больше мужчин, чем женщин, биологически стремилось к войне, а пресловутая доктрина о двух сферах говорила, что не следовало бояться, что данное кровопролитие найдёт отклик в Европе.
На юге к точно такой же войне стремился Массачусетс. Дельцы из Бостона активно пропагандировали свои взгляды в других американских провинциях Англии и даже просочились в сам Лондон, заводя там потихоньку своё активное лобби. Война становилась выгодна всем, на юге грезили наяву об окончательном решении «канадского вопроса» на севере, на севере мечтали о реконкисте и наказании зарвавшихся англичан.
Стороны вновь, как и в 1680-е годы, шли к взаимной схватке. Это стремление дополнялось взаимной, вековой ненавистью друг к другу.
Эффект реваншистских настроений в Канаде дополнялся слабостью английских оккупационных гарнизонов в Акадии. Для контроля территории в 1710 году был создан так называемый полк Ветча (спустя сорок с лишним лет ставший знаменитым 40-м Пешим полком Филиппса) из отдельных американских независимых рот, состоявший из 500 солдат и офицеров и 10 рот.
В ноябре 1743 года этот полк по факту имел 80% личного состава. 5 рот стояли в Порт-Рояле, 4 роты в местечке Кансо у северо-восточной оконечности полуострова Новая Шотландия (рядом с Луисбургом) и ещё одна рота занимала бывшее французское поселение Пласентию на Ньюфаундленде.
В действительности к весне 1744 года в ротах полка осталось по 20-30 штыков, а остальные или слегли от болезней, или умерли за время зимовки. Французы же только в Луисбурге имели семь или восемь рот колониальной морской пехоты по 70 человек, половину роты швейцарцев-наёмников Каррера (ещё 150 бойцов) и роту артиллеристов (по факту – 560 человек, не считая сотни больных весной).
Это формировало известный соблазн. Нанести удар первым, до того, как из Новой Англии прибудут запоздалые подкрепления. Следует сказать, что хватило бы и одного пехотного батальона, прибывшего из Европы, при поддержке роты осадной артиллерии и эскортной флотилии, прояви центральное французское правительство соответствующий минимальный интерес к американским делам.
В Версале после начала большой войны были более заинтересованы перспективами очередной безуспешной высадки на Британские острова в 1744 году, чем заокеанским реваншем. «Окно» для удачных действий в Америке было королевской властью благополучно упущено.
В начале мая 1744 года французы в Луисбурге узнали о начале новой войны с англичанами (война за Австрийское наследство, в Америке – война короля Георга). Это произошло трёмя неделями раньше, чем новости дошли до их соперников-англичан. Собрав десантную «армию» из 350 человек под эскортом из 2 фрегатов, французский офицер Дювивье немедленно бросился в атаку.
Первый превентивный удар имел полный успех. Был атакован и разрушен Кансо, сезонная рыболовецкая фактория в Акадии, а её население и гарнизон оказались уведены в плен в Луисбург.
Однако наступление против Порт-Рояля (английского Аннаполиса) застопорилось. Укрепление представляло собой сооружение по всем правилам европейской фортификации на мысу, замыкающем рейд. Оно оказалось не по зубам врагу.
Комбинированная атака с моря и с суши оказалась плохо скоординирована (по факту, было произведено три отдельных разрозненных нападения) и провалилась. К тому же, французы не имели осадной артиллерии, а англичане перебросили морем подкрепления из Массачусетса, доведя гарнизон к июлю 1744 года до 270 человек и до ещё большего числа осенью.
Кампания 1744 года провалилась. Помешала внутренняя несогласованность (Луисбургу грозил голод, там бунтовали не получавшие жалование швейцарцы), банальная нехватка ресурсов. В новом 1745 году ожидалось мощное контрнаступление англичан, цели же так и не были достигнуты.
Следует сказать, что переброска крупных подкреплений морем из Франции ничего не давала. Британцы в 1743 году сформировали для действий за Атлантикой «Западную эскадру» под началом коммодора Уоррена из десяти линейных кораблей, она внимательно следила за любыми перемещениями через Атлантику.
Новый 1745 год застал американские колонии Англии в подготовке к войне. Заключались союзы, готовились корабли, оружие, запасы, собирались и обучались отряды ополчения. В Бостон перешла эскадра коммодора Уоррена.
11 мая 1745 года флот англичан с десантной армией из 4270 человек провинциальной американской милиции на борту (за ополченцами североамериканских колоний Англии закрепилось такое наименование) вошёл в залив Габарус возле Луисбурга. Всего через полтора месяца после высадки, 26 июня, главная французская крепость в Америке капитулировала.
Тигр оказался бумажным. Луисбург был хорошо защищён с моря, но слабо – с суши, чем и воспользовались ополченцы, высадив десант и разрушив батареи и бастионы французов, смотревшие на океан, после чего в гавань вошёл флот.
Губернатор Богарнэ в Канаде поддержал луисбуржцев лишь вялым наступлением в сторону Олбани. В ноябре 1745 года канадцы захватили сожгли здесь форт Саратогу. Для активных действий в Акадии театр был слишком удалён, господства на море у французов не было, а к идее массового наступления на Олбани Богарнэ отнёсся с опаской.
В новом же 1746 году не исключено было вторжение уже в Канаду, на Квебек по реке Святого Лаврентия и Монреаль со стороны Нью-Йорка. Следовало подумать о защите уже собственной вотчины.
Впрочем, далеко не всё было потеряно. Французы ещё могли отбить Луисбург, появись они с экспедиционными силами возле города в апреле-мае 1746 года, когда едва сошли льды и гарнизон, оставленный зимовать (а осталось примерно 1800 несчастных из 2000 американских провинциалов и 1000 английских морпехов, оставленных на зиму; умерли, тем самым, примерно 1200 бойцов), был практически небоеспособен. Однако французское командование за океаном опять допустило опасное промедление.
В июне 1746 года в Луисбург прибыло 4 батальона английской линейной пехоты, предназначенных для атаки Квебека, и ещё 2 батальона 65-го и 66-го Пеших полков оказалось в спешке набрано из американцев на месте (всего – порядка 4500 офицеров и солдат), усиленные 4-тысячной милицией из Массачусетса, Коннектикута, Нью-Хэмпшира и Род-Айленда, а также местным луисбургским гарнизоном. На юге, в Олбани, сосредотачивались 3300 солдат американских провинциальных полков из Нью-Йорка, Пенсильвании, Мэриленда, Нью-Джерси и даже Вирджинии, подкреплённые несколькими сотнями индейцев Джонсона, для нападения на Монреаль. В случае прибытия ещё 8 регулярных батальонов генерала Синклера в Луисбург снова, как в 1711 году, над Канадой нависла угроза гибели, в колонии была проведена массовая мобилизация, 8000 канадцев и индейцев с оружием собралось для защиты Квебека.
Экспедиция Синклера на Квебек не состоялась (5800 его солдат и 16 линейных кораблей адмирала Лестока отплыли из Плимута только 14 сентября 1746 года), как и марш на Монреаль. Провидение снова хранило Новую Францию.
А в сентябре 1746 года прибыла наконец запоздалая подмога из Франции: 3000 солдат десантного корпуса и 6186 моряков экспедиции Анвилля. Однако из-за бестолковости и несогласованности действий (погибли транспорты с припасами, умер командующий при таинственных обстоятельствах, половина личного состава слегла из-за болезней) эта армада (10 линейных кораблей, 9 прочих военных судов и почти полсотни транспортов), попав в шторм, без дела проболталась в огромной гавани будущего Галифакса и удалилась во Францию ни с чем.
Впрочем, гарнизон Луисбурга (10 тысяч человек, много обстрелянных ветеранов) всё равно был этим силам не по зубам. Ни Анвилль, ни его преемники Эструмэль и Ла Жонкьер не попытались даже атаковать Порт Рояль, где сидела всего тысяча его защитников (большей частью – иррегулярные войска), не имея соответствующих распоряжений. В результате отряд из 400 партизан канадца Рамзе, с огромными лишениями шедший горами, лесами, болотами и реками из самого Квебека, выйдя к месту встречи, увидел лишь пустой рейд и печальные последствия пребывания тысяч французов здесь.
Весь 1747 год прошёл для французов в рейдах в Акадии, Новой Англии и Нью-Йорке. Но это была лишь жалкая попытка оправдать поражения. После неудачи с экспедицией Анвилля Рамзе вернулся на перешеек Чебукто (современная граница провинций Новая Шотландия и Нью-Брансуик), где слёг с болезнью.
Его заместитель, де Виллье с отрядом в всего 286 человек совершил невозможное: выдвинулся и после долго зимнего перехода в феврале 1747 году атаковал и разгромил вдвое больший по численности батальон массачусетских провинциальных солдат Нобла при Гран-При. Подразделение далеко оторвалось от основных сил, его командир словно позабыл о такой элементарной вещи, как боевое охранение.
Это стало последним, хотя и довольно впечатляющим, успехом французов в войне короля Георга.
Между тем как англичане разворачивались во всю мощь. В Луисбург весь 1747 год прибывали подкрепления, и теперь целая армия охраняла стены крепости, нацелившись на Квебек. На Западе из Огайо выступили на тропу битвы ирокезы (правда, не все, на призыв англичан активно откликнулись только мохоуки, подкрепленные небольшими контингентами других племен – единства действий в отношении французов в Лиге уже не было, а память о том, как англичане не сильно старались в прошлых войнах помогать ирокезам в боях, жила), также объявившие войну подданным Наихристианнейшего короля (официальный титул правящего монарха Франции в 18 столетии).
К октябрю 1747 года в Америке была собрана огромная по меркам театра военных действий 30-тысячная британская армия (состоящая из 8000 английских регулярных солдат и 22000 американцев из провинциальных полков), снабжённая всем необходимым. Следующие две кампании, казалось, англосаксы перейдут в решающее наступление и окончательно сокрушат французскую Канаду.
Мир 1748 года опять спас положение. Французам вернули всё (в том числе с таким трудом захваченный и удержанный Луисбург, в обмен на город Мадрас в Индии (Баллард утверждает, что юридически это не был обмен захваченных сторонами городов в разных полушариях – просто разные статьи договора предусматривали возвращение Мадраса британской Ост-Индской компании, а Луисбурга – Франции – но это, по существу, казуистика)), был восстановлен довоенный статус-кво.
Американские колонисты вернулись домой разозлённые. Война была кровопролитна, погибли две тысячи только массачусетцев. В Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии зрело недовольство действиями центрального правительства, лелеялись мечты о реванше.
В Квебеке, Труа-Ривьере и Монреале теперь сформировались совсем другие настроения. Губернаторы менялись один за другим, Галиссоньер, Ла Жонкьер, Дюкен, все они были временщики, им мало было дела до Канады, в колонии умами правящей элиты (военных и высшего духовенства) постепенно овладевали отчаяние и уныние.
Становилось ясно, что новая схватка не за горами. Что в случае новой войны Новая Франция может и не устоять. И стороны яростно готовились к новому конфликту.
Отдав Луисбург французам, англичане, тем не менее, совершили ход конём и в 1748 году основали город-порт Галифакс, опорную военно-морскую базу на северо-востоке Новой Шотландии неподалёку от оставленной французской крепости. Теперь они ещё более укрепились в Акадии и получили возможность в два-три дня блокировать Луисбург (раньше выдвигаться приходилось далеко с юга, из Бостона и Нью-Йорка) и в две недели – устье реки Святого Лаврентия, закрыв пути следования продуктовых конвоев для полуголодной Канады.
Французы также действовали решительно. Замирившись с ирокезами в 1748 году, они постепенно переманили на свою сторону некоторых их вождей и начали проникновение в долину Огайо (срезая угол транспортной коммуникации, раньше шедшей через Детройт), а в 1753 году состоялась настоящая военная экспедиция из 1000 канадцев и 300 индейцев, в ходе которой на слиянии двух рек, Аллегейни и Мононгахелы (образующем собственно реку Огайо) был основан форт Дюкен (современный Питтсбург). Теперь «французские отцы», как их называли местные племена, могли угрожать своими набегами не только северным, но и южным американским колониям (например, Вирджинии).
В Акадии на стратегически важном перешейке Чебукто, где поперечный хребет спускался к морю, в 1751 году началось строительство форта Босежур. Именно отсюда де Виллье в 1747 году атаковал Гран-При и именно здесь находилась главная база канадских партизан в кампаниях 1746-1748 годов.
Навстречу двигались англичане. Для колонизации Огайо в 1747 году была основана целая компания, предполагавшая освоение края путём переселения примерно 200 семейств. В Акадии же вблизи Босежура состоялась целая мини-война, чуть было не переросшая в глобальную схватку между колониями. В ходе этой кампании карательная партия из Галифакса разорила и сожгла франкоязычное поселение Бобассен или Минас (так называемый «Бобассенский кризис»), вынудив его жителей искать спасения за перешейком Чинекто.
Старые враги и не собирались мириться. Война в Европе могла вновь столкнуть их лбами, но она уже фактически разгоралась здесь, в Северной Америке, без всякого участия Старого Света.
И Белой Лилии (официальному символу французских канадцев) ещё предстояло удивить весь мир своими победами…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧЕТЫРЕ УДАРА.
ГЛАВА I. НА ПОДСТУПАХ.
1.1. Описание французской Канады.
Канада… Бескрайние просторы лесов, озёр и рек… Бесконечные горы, формирующие неведомые хребты и плато с непроходимыми дебрями… Холодные суровые зимы, осень с её туманами и промозглыми ветрами, лето, тёплое, уютное, но (по европейским меркам) короткое, и весна, когда таял снег, вокруг всё оживало и бурные потоки вод устремлялись вниз, к океану.
Водоёмы здесь кишели рыбой, реки были бурны и изобиловали множеством перекатов и порогов, а в лесу водилось множество всякой пушной живности. Человеческое население оставалось малочисленно, теряясь на фоне огромной страны, будто бы и не было его вовсе.
Такими увидели Канаду первые европейцы, когда, страдая от качки и авитаминоза, сопровождавшего их во время долгого перехода через океан, прибыли к берегам этой страны. Длинные бесконечные берега высились вдоль полного мелких островов и опасного для навигации залива, сужающегося к истоку и незаметно переходящего в Реку, самую огромную из всех видимых ранее.
Река эта тянулась, подобно дороге, далеко в глубь материка и, подобно водам Нила в Египте, давала жизнь протяжённой долине, широкой и тёплой, раскинувшейся между двумя горными цепями на северо-востоке и юго-западе от неё. На расстоянии 400 километров от Залива Святого Лаврентия, в узкой теснине между двумя крутыми скалами, был воздвигнут Квебек, прошедший с 1608 года путь от небольшого форта-поселения на месте индейской деревушки до города-крепости, Нового Гибралтара, охраняющего покой уходящей на юго-запад страны от.
Непросто было выжить в этом краю, холодном и суровом. Зимние холода были трескучими, а снегу выпадало столько, что не имело смысла выходить из дома. Весной же, когда приходили корабли из Европы, начинались болезни, нередко выкашивавшие поселения первых колонистов почти целиком…
С середины ноября по середину апреля (иногда позже, иногда раньше) эти земли были отрезаны от Европы: лёд доходил до двух метров толщиной, иногда больше, судоходство в такой период становилось невозможным. За месяц до и после ледостава безопасность навигации оставляла желать лучшего из-за ветров, штормов и туманов, а весной ещё и из-за остаточных плавучих льдов. Тем самым, до половины года обитатели Канады оставались изолированы от Старого Света, существуя тем, что было им припасено заранее.
«Не более нескольких арпанов снега!» – восклицал французский просветитель Вольтер, подразумевая прежде всего экономическую целесообразность Канады. И действительно, существование колонии, как и в прежние времена, определялось завозом из Европы, по морскому пути жизни, шедшему мимо островов Ньюфаундленд, Иль Рояль (современный Кейп-Бретон) и Сен Жан (современный остров Принца Эдуарда) – прямо к устью реки Святого Лаврентия и далее к Квебеку, являвшемуся столицей и главным портом Канады.
Располагавшиеся выше по течению Труа-Ривьер и Монреаль снабжались из столицы по Реке на меньших судах из-за сложной навигации. Имелся ещё Великий тракт (или Королевская дорога) со столбовой разметкой, открывавший сухопутное сообщение между Квебеком и Монреалем. Он был открыт в 1741 году, использовался преимущественно для почтового сообщения (цена доставки корреспонденции колебалась от 5 до 10 су), мелкие водные преграды (например, реку Кап-Руж, в 15 километрах выше Квебека) пересекал мостами, через более крупные (ту же реку Батискан) оказывались переброшены паромные переправы.
Экономическую жизнь королевской колонии можно определить к середине 18 века двумя словами: меха и коррупция. Большими достижениями французской Канаде, увы, похвастаться было нечем.
Как мы помним, первые экспедиции, от которых по примеру испанцев ожидали золотых рек, разочаровали тогдашних правителей Франции. Но вскоре некоторые купцы были заинтересованы сравнительной легкостью добычи мехов в этой суровой стране.
Первые поселенцы занимались меновой торговлей с индейцами, обходившейся сравнительно дешево. И спустя полтора века основным предметом экспорта Канады – теперь королевской колонии, – продолжали оставаться меха, чья доля достигала 70%, обеспечивая не только французские шляпные мастерские, но и, через посредничество голландцев, другие страны Европы. Результатом ориентированности колонии на добычу и торговлю мехами стало слабое развитие или пренебрежение другими отраслями.
Всё промышленное производство этой северной области в середине 18 столетия состояло из нескольких пороховых мельниц, построенных на государственные дотации для колониальных нужд, и такого же убыточного (несколько раз разорялся, начальники постоянно ловились на казнокрадстве) железоделательного завода «Кузни Святого Мориса, в 15 километрах к северу от срединного города Труа-Ривьера, открытого в 1737 году на берегах одноимённой реки. В лучшие времена на последнем трудилось до 400 рабочих.
Было некоторое количество лесопилок. Но строевой лес, не в последнюю очередь из-за больших расстояний, не играл большой роли в экспорте колонии. Местное же судостроение из-за полной неразвитости смежных отраслей при французском правлении налажено не было.
Уже отмечалось, что в колонии было небольшое количество крестьян относительно непроизводящих слоёв населения – солдат, чиновников, купцов и представителей торговых кампаний, завязанных на добычу пушнины через королевские лицензии. Собственно, этот факт и превращал колонию в дотационную.
Без сомнения, эта проблема осознавалась на протяжении всего французского владения Канадой. Прежде всего она понималась крупными держателями земельных владений, на которых нередко просто некому было работать. Однако на пути её решения вставали многие препятствия: сеньориальная система владения землёй, бюрократическая система управления и, увы… ориентированность колонии на торговлю мехами.
Все эти факторы оказывались взаимосвязаны между собой. Установление прямого королевского управления колонией, бывшее благом в начале, с течением времени становилось палкой о двух концах.
Хотя в колонии от имени короля – главного собственника всех земель – осуществлялись значительные земельные пожалования, значительные их участки долгое время оказывались неразработанными. Такая ситуация возникала из-за низкого уровня иммиграции, значительно отстающей от соседних английских колоний. Французские сеньоры совершенно не желали, чтобы их крестьяне убывали в далекие страны, да и сами крестьяне вовсе туда не стремились (ждать их там могли те же феодальные повинности местным сеньорам).
Поэтому слой крестьян-цензитариев – абитанов – в Канаде пополнялся бюрократическими методами. Причём это делалось путем нередко насильственной отправки зафрахтованных слуг, которые по истечению трех лет получали право осесть на земле (и, соответственно, нести феодальные повинности местному сеньору), а также предоставления возможности поселения на земле отслужившим шесть лет солдатам Вольных рот.
Последние, кстати, отнюдь не всегда стремились этим правом воспользоваться. Нередко отставные солдаты предпочитали или вернуться во Францию, или продолжить службу, или встать на путь свободного траппера – курьера де буа, «лесного бродяги».
Подобные меры предпринимались крайне неравномерно и зависели в основном от личностного фактора. Акции Кольбера и Талона сводились на нет большим количеством французских и местных чиновников, предпочитавших личную выгоду развитию королевских владений.
Наконец, торговля мехами отвлекала значительное количество потенциальных абитанов. Сложностям разработки участка, феодальным повинностям местному сеньору и церкви всегда была альтернатива «лесного бродяги» – вольного охотника за пушниной. Разумеется, это не устраивало местную земельную аристократию и церковь, и имелся институт лицензирования добычи пушнины.
От продажи лицензий королевский двор фактически и получал основные доходы от Канады, позволявшие хотя бы содержать местный бюрократический аппарат и Вольные роты. Хотя коррупция в среде чиновничества Канады позволяла закрывать глаза на «лесных бродяг», занятых в единственном доходном промысле колонии.
В результате удивление вызывал не сам факт зависимости Канады, а то, что в удачные годы колония могла самостоятельно обеспечивать себя хлебом и даже вывозила зерно в Вест-Индию. Доля экспорта зерна доходила в удачное время до 17% от всего экспорта колонии. Увы, не все годы были удачными, а отвлечение и без того немногочисленных абитанов в отряды милиции в случае войны полностью ставило колонию в зависимость от поставок метрополии.
Перепись населения, произведённая губернатором Дюкеном (вернее, Мишелем-Анже Дю Кеном де Менневилем) в 1754 году, показала 55009 человек белого населения, две трети из которых было сконцентрировано в окрестностях Квебека. Эти «55 тысяч человек» включали в себя свыше 10000 мужчин возрастом старше 16 лет и порядка 6000 женщин той же возрастной категории.
Для сравнения: в «старой» Франции в 1755 году жило порядка 22 миллионов человек. Даже небольшая по площади испанская Куба оказывалась более заселена: 120 000 колонистов и негров-рабов.
Кроме того, насчитывалось ещё порядка 10-12 тысяч местных аборигенов, индейцев-католиков из племён абенаков, гуронов, оттава, монтанье и прочих, проживавших в долине реки Святого Лаврентия и на Лаврентийском плато к северу от неё.
Ещё 10 тысяч франкоговорящих (не считая индейцев) обитало в Акадии, за хребтом Нотр-Дам, и до 7 тысяч – на островах Иль Рояль и Сен-Жан (речь про 1754 год). Кроме того, примерно 2000 французов жило на территории Верхней Канады (современная канадская провинция Онтарио), в Иллинойсе и Огайо и свыше 5 тысяч – в Луизиане, преимущественно в устье Миссисипи, в районе городов Новый Орлеан и Батон-Руж.
Общая численность населения Новой Франции в середине 18 столетия, тем самым, не превышала 80 тысяч человек, в том числе Нижней Канады – 55 тысяч колонистов.
Из них акадийцы формально проживали на «английских» землях. Границы этих территорий, отошедших британцам по миру 1713 года, не были точно оговорены: французы ограничивали их только полуостровом Новая Шотландия, тогда как англичане настаивали на более значительных приобретениях.
Они претендовали на огромные просторы значительной части американского материка, удерживая обширные полосы полупустынных территорий вдоль основных водных магистралей. В сравнительных величинах это составляло порядка одного поселенца на 120 квадратных километров площади, совершенно невообразимые в наши времена величины.
Только население Нижней Канады – области в нижнем течении реки Святого Лаврентия, от Монреаля и ниже, – потребляло ежесуточно порядка 150 тонн продуктов. В случае же блокады морских коммуникаций и прибытия крупных подкреплений из метрополии, колонии предстояло вовсе жить впроголодь. В таком случае её тощая продовольственная безопасность могла быть обеспечена только мобилизационными методами с драконовской спецификой: запасанием сушёной рыбы, мяса животных и птиц и охотничьих артелей, участием солдат в посадке сельскохозяйственных культур, и всё – в принудительном порядке, с изъятием излишков в пользу государства (что и делалось в итоге).
В 1754 году расходная часть канадского бюджета составляли порядка 6 миллионов ливров (большая часть которых уходила на строительство крепостей, преимущественно разворовываясь, та же цитадель Луисбурга, не лучшим образом построенная, стоила 30 миллионов ливров), доходная – менее 4 миллионов (3930 тысяч, если быть точным), больше половины которой (свыше 2 миллионов) приносила перевалочная торговля через Луисбург (где имелся таможенный пост). Тем самым, возможные активные операции противника на море, блокада французских путей сообщения в корне убивали почти всю прибыль и без того скудной канадской экономики.
Фактор зависимости от метрополии дополнялся крайней путанностью канадской, да и вообще французской, финансовой системы. Внутри Новой Франции циркулировал французский ливр (равный 20 су, каждое по 12 денье).
Драгоценных металлов для чеканки монет катастрофически не хватало. В ходу были даже испанские золотые монеты, которые, кстати, ценились очень высоко.
(Если в самой Франции после неудачных экспериментов начала 18 века с бумажными деньгами и мер кардинала Флери в середине 1720-х годов, банкноты были не в ходу, то в Новой Франции наблюдается прямо противоположная картина. Вместо звонкой монеты в обращении находились векселя местной администрации, при помощи которых местная администрация осуществляла расчеты с населением, исполнявшие в итоге для канадцев функции денег при взаиморасчетах).
В случае большой войны возникал соблазн напечатать столько векселей, сколько требовалось, заменив дефицит, соразмерный экономике – профицитом. Это было то, что могло сформировать скачкообразную инфляцию в случае кризисной ситуации. Финансовая система Новой Франции была совершенно неустойчива к любым внешним потрясениям.
Меры, предпринятые французским правительством в ходе активизации боевых действий, также не способствовали финансовому оздоровлению колонии. Были напечатаны и отправлены в колонию «векселя короля», те же бумажные деньги, они оказались ничем не обеспечены и совершенно обесценились, когда за целую кипу их можно было купить корову, а за телегу – лошадь.
В итоге в 1760 года главнокомандующий силами метрополии в Канаде шевалье де Леви в обращении к Версалю, помимо чисто военных мер и запросов, был вынужден обратиться и к этому вопросу. Он попросил установить курс выкупа векселей на год и выделить суммы на их выкуп, а на оставшиеся векселя выслать в Канаду галантерейные товары и ликёры, которые в колонии в десять раз дороже, чем в метрополии, ликвидировав государственный долг. Метрополией не было предпринято соответствующих мер ни тогда, ни ранее.
Образ существования колонии (транзитный путь из «варяг в греки», из Франции в Луизиану), значительная доля бюрократического аппарата и духовенства в населении колонии, приводил к соответствующему быстрому росту городов. Фактически, в 6 поселениях Новой Франции, признаваемых городами (Квебек, Труа-Ривьер, Луисбург, Монреаль, Новый Орлеан, Батон-Руж) жило свыше 25% её населения.
Уровень урбанизации был очень высок по сравнению с Европой. В столице, Квебеке, насчитывалось до 8000 жителей, в Монреале – 4000 обитателей, в Труа-Ривьере примерно 800 человек. В Луисбурге горожане составляли больше половины четырёхтысячного населения острова Иль-Рояль, порядка 2500 человек.
Стоило ли и говорить, как только Канада попала в руки англичан и перестала быть на довольствии у Франции, а большая часть непродуктивного населения эмигрировало в Европу – ситуация резко изменилась. Нижняя Канада стала захолустным сельскохозяйственным краем, города обезлюдели, тот же Квебек, изрядно потрёпанный войной, восстановил свою популяцию только к концу 18 века.
Географически Новая Франция представляла цепь торговых постов и поселений вдоль основных водных магистралей, составленных бассейном рек Святого Лаврентия и Миссисипи и Великих озёр. Картографы любили рисовать обширность владений французской колониальной империи в Северной Америке, широким пятном протянувшиеся через сердцевину континента, однако по факту они кривили душой. Помимо долины реки Святого Лаврентия и окрестностей Нового Орлеана в Луизиане, где пытались развивать крупные владения по добыче сахарного тростника по примеру Вест-Индии, остальные французские земли видели французское присутствие только в виде фортов на основных путях, католических миссий и торговых постов.
(Погоня за пушниной и была одной из главных причин такой разбросанности «французских владений». Французские охотники и торговцы пушниной заходили всё дальше и дальше, вслед за истощением пушного зверя на заселённых территориях. Стремление к новым местам торговли с индейцами и желание не допустить конкурентов с английских территорий толкали искателей приключений на всё более дальние путешествия).
От американских владений Великобритании эту тонкую линию «дороги жизни» Новой Франции отделяли лишь огромные непроходимые дебри безлюдных просторов тогдашней Америки: леса, буреломы, горы и степи. Это была своего рода полоса преодоления, где на ключевых путях стояли французские форты да жили переметчивые индейские племена.
Далеко не всегда указанные племена оказывались лояльны французской короне, если судить по той же Ирокезской лиге. Периодически «дорога жизни» оказывалась атакована, в зависимости от политической конъюнктуры вождей, её сторожевые форты – осаждены.
Названная «дорога» в течение десятилетий шла через Великие озёра. Она проходила названные водоёмы, затем делала извив через озеро Мичиган и форт Детройт и дальше шла на юг, в долину Миссисипи и Миссури. Решение «срезать» указанный угол через Огайо, проникнув с северо-востока в долину этой реки и заключив союз с местными племенами, и стал одной из причин эскалации войны с французами и индейцами в 1754-1760 годах.
Следовало отличать собственно «Новую Францию» (как совокупность всех владений Франции в Новом Свете) и отдельные её области. Самостоятельно считались Канада (долина Святого Лаврентия, земли к северу от Великих Озёр), Акадия (современные канадские провинции Новая Шотландия и Нью-Брансуик) – как мы помним, официально находившаяся во владении англичан, но оспариваемая французами, – острова Иль-Рояль и Сен-Жан под властью губернатора Луисбурга, Огайо, Иллинойс и огромные просторы Луизианы, представленные большей частью бассейна Миссисипи. Последние были совсем непохожи на современный маленький американский штат с тем же именем в составе современных США.
С военной и экономической точки зрения области эти представляли собой полуизолированные друг от друга территории. Последовательно сосредотачивая против них превосходящие силы, противники могли бить их по частям. Обладая господством на море, англичане могли последовательно «выкусывать» сперва Акадию, затем Луисбург, затем, за удалённостью, Огайо, после чего, отрезав от всех сообщений, могли уже угрожать самому сердцу Новой Франции – Канаде.
Канада, как следовало отметить, стояла особняком. Почти всё французское население было сосредоточено здесь, в компактной и тёплой долине реки Святого Лаврентия. Это было сердце, самое сердце тех огромных владений, что контролировала Франция в Америке в 1754 году.
Самой природой эта страна превращена была в крепость. С севера Канада оказывалась прижата непроходимым и безлюдным плато, а с юга – густыми лесами и горной цепью Адирондаков, северо-восточного отрога хребта Аппалачи.
Административное деление и иерархическая система подчинение государственной власти Новой Франции были путанными, основанными ещё на феодальном принципе освоения колонии. Существовали отдельные губернаторства Канады, Луисбурга, Луизианы, формально не подначальных друг другу, каждое со своим генерал-губернатором (флотским чином в адмиральском звании, поскольку колонии традиционно для Франции находились в ведении военно-морского министерства). Губернаторы назначались из Парижа, волею короля, и его же распоряжением снимались.
В рассматриваемый период (до начала войны с французами и индейцами 1754-1760 годов) в Квебеке правили четыре губернатора. С 1725 по 1747 годы колонией правил Шарль де Буаш, маркиз де Богарнэ, в 1747-1749 годах его сменил граф Ролан-Мишель Барри де ла Галиссоньер, знаменитый впоследствии победитель английского адмирала Бинга в морском сражении при Минорке в 1756 году, его заместителем в 1749-1752 годах стал Жак-Пьер де Таффанель де ла Жонкьер, участник экспедиции Анвилля в 1746 году, затем в 1752-1755 годах власть перешла в руки маркиза Мишеля-Анже Дюкена, того самого, при котором разгорелся конфликт в Огайо.
В 1755 году Дюкена сменил Пьер де Риго, маркиз де Водрей-Каваньяль, последний канадский генерал-губернатор. О нём будет рассказано отдельно.
Само устройство Канады также было неоднородным. Нижняя Канада, по сути, состояла из трёх отдельных мини-губернаторств (Квебека, Труа-Ривьера и Монреаля) и двух городов «с особым статусом» (Квебек и Монреаль). Каждое губернаторство или «город с особым статусом» выставляли своё ополчение под отдельным командованием своего административно-военного чина.
Основу военной, административной и экономической деятельности колонии составляли так называемые «сеньории», полуфеодальные владения, каждое со своим правителем, обязанные выставлять по мобилизации отряд ополчения во главе с капитаном-сеньором. Число их составляло 250 территориальных единиц.
За малой численностью населения сеньории кооперировались и выставляли сводные роты, по одной роте от каждых двух-трёх сеньорий. Кроме того, сеньории были объединены в своего рода «округа», выставлявшие уже сводную группу ополчения из нескольких рот, именовавшуюся «батальоном» или «бригадой». Впрочем, вопрос об организации обороны Канады будет ещё освещён самостоятельно.
По горизонтали власть в Канаде была разделена на три самостоятельные ветви: военно-административную, интендантскую и духовную. Военно-административная была представлена, как уже говорилось, генерал-губернаторами и подчинёнными им лицами, прочие две выглядели следующим образом.
Интендантство (а со времён Людовика Четырнадцатого интендантство во Франции было отдельным, самостоятельным учреждением) было представлено деятельностью в Канаде интенданта Франсуа Биго. Человек этот был непростой и хитрый, занимавший эту должность с 26 августа 1748 года. Его жизнь непрерывно была связана с Северной Америкой с 1739 года (когда он был послан в Луисбург).
Биго знал все входы и все выходы, превратил деятельность интендантства, по сути, в свою монополию, своё личное предприятие, активно злоупотребляя хищениями и получая с коммерческих операций канадских торговцев свою долю прибыли, на чём сколотил целое состояние. Однако за свои деяния он оказался наказан самой судьбой: на судебном процессе в 1761 году, посвящённом расследованию нелицеприятных результатов войны в Канаде, Биго, по сути, был сделан «козлом отпущения», лишён всего, опозорен и умер один в нищете в Швейцарии.
Духовная власть оказывалась представлена шестым по счёту канадским епископом Анри-Мари Дюбрейлем де Понбрианом, возглавлявшим епископат в Новой Франции. Он занимал эту должность с 1741 года до самого падения французской Канады. Будучи формально подчинённым католическому Риму, он, искусный политик, тем не менее лавировал во взаимоотношениях с Парижем, от которого получал финансирование, не брезгуя отношениями со светской властью.
При нём активизировалась деятельность ордена иезуитов, имевших самую надёжную поддержку «сверху». Именно они, эти люди в чёрных сутанах, проповедники и агитаторы, так развили свою деятельность, появляясь то тут, то там, подобно теням, подстрекая индейцев из христианских миссий, пропагандируя убийства еретиков среди канадцев и акадских крестьян и выступая в качестве злейших врагов американских колонистов на юге.
Тем самым, в Канаде середины 18 века существовало только два основных пути наверх: военный, от кадета или солдата и до офицера, и духовный (для чего следовало закончить семинарию). Впрочем, оставалось ещё поприще торговцев, но оно крайне мало ценилось, а также чиновничье, но большей частью они являлись приезжими и для занятия соответствующей должности требовалось образование (а университет в Квебеке не мог дать потребное количество кадров).
Такова была Канада середины 18 столетия.
1.2. Американские колонии Британии.
В нескольких сотнях километрах южнее лежали Тринадцать колоний (как их всё чаще называли) Великобритании. Узкая полоска земли, протянувшаяся на тысячу миль от северных болот Мэна до южных топей испанской Флориды, зажатая между Атлантическим океаном и горной цепью Аппалачей. Многолюдные, шумные земли, каждая со своей спецификой, экономикой, законодательством и даже управлением.
Их население составляло потомков англичан, шотландцев, ирландцев, голландцев, немцев, шведов и даже датчан, пытавшихся колонизировать Вирджинские острова (впоследствии у них отобранные), и прибывало ещё. Потоки иммиграции из Европы не шли ни в какое сопоставление ни с испанскими, ни с тем более французскими аналогами.
Этому способствовал целый ряд факторов. Как отметил отечественный историк А. А. Киселев: «Колонисты XVII в. еще задолго до образования США увидели в этих землях «большие возможности». Почти каждый из 200 тысяч англичан (а эмиграция XVII в. была в основном английской), пересекших океан, ехал в Новый Свет ради участка собственной земли, возможности создания собственного торгового предприятия, возможности свободно исповедывать любую религию, наконец, ради создания «Града на Холме» – того самого Потерянного Рая, о котором говорили Мильтон и пуританские проповедники. Английские колонисты XVII века уезжали в неведомые, населенные воинственными дикарями земли Запада, чтобы спастись от ужасов английской действительности. Зачем им нужна была здесь власть Англии с её абсолютизмом, англиканской церковью, революциями, заговорами, монополиями, высокими налогами, войнами?».
В отличие от французов, большая часть которых не видела интереса в североамериканских колониях, английские поселенцы ехали за лучшей жизнью. Поэтому путь Тринадцати колоний – это колонизация «снизу» в отличие от колонизации «сверху» французских владений за океаном. Самостоятельно преодолев первые трудности, которые чуть не уничтожили Новую Францию в короткий период до установления королевского управления, американские колонии Великобритании развивались и заселялись.
Способствовал этому и благодатный умеренный климат, сопоставимый с европейским. Территория Тринадцати колоний, современное восточное побережье, лежит куда южнее той же Украины, а проходящий мимо Гольфстрим делает условия для земледелия сопоставимые с средиземноморскими.
Вся эта картина дополнялась могущество британского флота, защищавшего протяжённое побережье от атак иностранных каперов. Последнее, собственно, и заставляло долгое время колонистов, достаточно рано в основной массе осознавших себя отдельной нацией, мириться с официальным вмешательством метрополии в их дела и присутствием королевских губернаторов и таможенников. Впрочем, государственные потрясения в метрополии и разная степень внимания к колониальным делам позволяли колонистам обходить самые неприятные меры британского законодательства.
Колонии, как уже отмечалось, оказывались достаточно густо населены (правда, в сравнительных величинах и большая часть населения к тому же концентрировалась вдоль побережья). При ширине 200-300 километров и протяжённости в 1500 километров они имели, по разным данным, в середине 18 века 1140-1170 тысяч белого населения и 250-270 тысяч негров-рабов (в среднем по 4 человека на квадратный километр, некоторые провинции, тот же Массачусетс, были населены плотнее) – примерно в 20 раз больше, чем у их соперников-французов на севере!
Следует всё же заметить, что такая плотность населения была всё ещё невелика по меркам Старого Света и примерно сопоставима с плотностью населения тогдашней европейской части России. При этом предгорья, приграничные, лесистые земли, «фронтир», на которые часто нападали индейцы или (на севере) ещё и канадцы, сохранялись почти безлюдными, а жители колоний, как уже говорилось, ютились в городах и селениях вдоль берега океана.
Города оставались невелики, напоминая скорее большие деревни. Процент урбанизации являлся незначительным, по сравнению с той же Новой Францией, Тринадцать колоний выступали в качестве скорее сельскохозяйственного захолустья. В крупнейшем городе, Филадельфии, в 1750 году насчитывалось 25000 обитателей, в Бостоне – 15000 человек, в Балтиморе – 7000 горожан, в Нью-Йорке – 12000 жителей,
Именно Тринадцатью колонии стали исторически недавно. В середине семнадцатого столетия их было девять. Затем английское правительство сумело прибрать к своим рукам Новую Швецию (стала Делавэром) и Новую Голландию (превратилась в английскую колонию Нью-Йорк) – и число колоний ещё более возросло.
(В 1710 году Каролина разделилась на Северную и Южную, что довело количество владений англичан на североамериканском континенте до двенадцати. И, наконец, в 1732 году крупный землевладелец и предприниматель Оглторп основал Джорджию, по имени короля Георга Второго, область, всегда лежавшую наособь, как противовес испанцам во Флориде, доведя количество американских провинций Лондона до искомого числа).
Экономически развитие и благосостояние Тринадцати колоний (как и всей Великобритании) зависело от торговли. Оная зижделась на могуществе британского флота, охранявшего пути сообщения, потенциале огромного торгового флота и соответствующего законодательства, облегчавшего деятельность торговцев в колониях.
В середине 18 века француз, посетивший Нью-Йорк, мог видеть странное, когда он приближался к торговому посту на границе колонии. Индейцы из племенного союза ирокезов, прибывшие сюда для торговли, приносили шкуры и мех, чтобы обменять их на оружие и инструменты. Необычное начиналось, когда затем, совершив сделку, индейцы рассаживались по кругу и начинали пить кофе или чай, мешая данные напитки с сахаром.
Структура торговли замыкалась в определённую схему. Из Европы, с берегов Туманного Альбиона шли товары и промышленная продукция, из Африки – рабы, с Антильских островов – сахар, из испанских и португальских владений Латинской Америки – кофе и какао, ценные породы древесины.
Взамен колонии отправляли сырьё в метрополию и осуществляли денежные вливания в её финансовую систему. Экономическая колониальная зависимость, правда, позволившая сформировать солидную поддержку в правящих и деловых кругах Лондона (так называемое «американское лобби») и определившая в дальнейшем, в ходе Семилетней войны, Канаду как перспективное направление удара, в отличие от Карибских островов, «болевой точки» французского королевского бюджета (получавшего от 50 до 65% доходов за счёт торговли оттуда), в отношении которых оказались замешаны куда меньшие интересы.
К тому же, введя подобный устойчивый торговый баланс, эскортируя одни и импортируя другие виды продукции, колонии получили возможность ввести собственную твёрдую валюту и избегать финансовых кризисов. До экономических нестабильностей 1760-1775-х годов, вызванных политикой центрального правительства и приведших в том числе к ситуации Войны за Независимость США 1775-1783 годов, было ещё далеко. Колонии процветали.
Впрочем, Тринадцать колоний середины 18 века – это не только торговля и перевалочная база для товаров с Востока, Запада и Юга, – но и собственное производство, и своя финансовая система. Примерно с начала 18 века здесь, в североамериканских владениях Англии, бурно развивалось судостроение, железоделательное и оружейное производство, открываются местные частные банки, особенно развито кустарное производство у северных колоний, где данная отрасль прочно основана на совокупности бартерных сделок, в южных колониях в гору пошло сельское хозяйство (хлопок, рис, табак).
Активно множились мелкие фермерские хозяйства северных колоний. Только в колонии Нью-Йорк здесь были, как наследие голландцев, крупные земельные владения по берегам Гудзона. Фактически именно это – возможность стать собственником, владельцем самостоятельного хозяйства – и подвигала многих на переселение в американские колонии.
Даже институт зафрахтованных слуг, на труде которых вместе с трудом рабов основывались крупные латифундии Юга (особенно Вирджинии), имел существенное отличие от французского аналога. Отработав положенный срок (нередко достигавший до семи лет) работник мог стать собственником земли (в отличие от французского, превращавшегося в зависимого от сеньора абитана).
Отслоение от метрополии было неизбежно. Процесс оказывался необратим. Только военная угроза с севера, политическая разрозненность колоний, некоторые сохранявшиеся связи с домом, а также финансовая государственная поддержка центральной власти периферии (на войну 1744-1748 году рядовой американцев заплатил в 26 раз меньше, чем рядовой англичанин) всё ещё удерживали полугосударственные образования бывших политических и прочих эмигрантов от собственной независимости.
(Правда, указанное относилось преимущественно к Новой Англии и отчасти к Нью-Йорку. Многие жители южных колоний считали себя по-прежнему англичанами и в войну за Независимость США 1775-1783 года выступили на стороне королевской власти).
Англичане пытались этому противодействовать, но их меры только тормозили неизбежный процесс. Навигационные законы 1651 года, ограничившие выпуск колониальной продукции и рынки сбыта для них, только разозли колонистов. Подобным же стал «Закон о патоке» 1733 года, больно ударивший по производству алкогольной продукции патриархами будущей нации американцев.
(Продолжение подобной политики и приведёт к взрывам 1760-1770-х годов. А затем – к ожесточённой войне, которая долгое время именовалась англичанами просто «мятежом» и которая прочно вошла в историографию как война за Независимость США 1775-1783 годов).
Кроме того, сохранялась привязка к центральной финансовой системе. Главным в ходе оставался английский фунт стерлингов, равный 20 шиллингам, каждый по 12 пенсов. К оному оказались привязаны валюты колоний, строящиеся на долларе – видоизменённом наименовании немецкого талера, в больших количествах циркулировавшего здесь (хотя имелись и так называемые «испанские доллары», основанные на испанском золоте или серебре – своих драгоценных металлов у колоний практически не было).
Даже имевшее место хождение бумажных ассигнаций, выпускавшихся каждыми штатами сепаратно, имел заметное отличие от соседней Новой Франции. Такие ассигнации имели заранее оговоренный срок хождения, и при сдаче в казначейство владелец получал определенный процент (5-6% годовых). До самой войны 1754-1760 годов удавалось поддерживать курс бумажных ассигнаций, равный бумажным деньгам (просто потому, что получить нужную ассигнацию можно было под залог земельной собственности).
(Канада (среди прочих причин) замедляла разрыв с метрополией. Смотрелась она, правда, на фоне Тринадцати американских колоний довольно бледно).
В сравнительных величинах всё было не так уж плохо. Уже годы спустя, в 1774 году, объёмы имевших место быть в обороте американских денег оценивались Александром Гамильтоном в пределах 20-30 миллионов долларов (обесцененных за счёт инфляции в 4-5 раз). С учётом того, что доллар в 1750 году, согласно имеющимся оценкам, стоил примерно 1/300 французского королевского ливра (канадского, конечно, в заметно меньших пропорциях), могло даже показаться, что французские владения оказывались более обеспечены, чем английские.
Однако это была фикция. Самодостаточный, активно развивающийся, способный накормить, оснастить и одеть тысячи солдат и десятки кораблей, прибывших из-за океана, американский Юг находился в куда более привилегированном положении, чем нищий, находящийся в глубоком кризисе, на постоянной подпитке из бюджета французский Север.
В действительности, любое наступление англичан на океанские коммуникации французов, связь Канады с родиной приводили к краху её обменной экономики, краху финансовой системы, инфляции. То, что случилось в 1754-1760 годах, когда бумажные деньги перестали что-то стоить и перешли чуть ли ни к натуральному хозяйству и практике обменов. То, что могло бы произойти и в кампанию 1744-1748 годов, установи британский королевский флот плотную морскую блокаду берегов Новой Франции.
На самом деле, реальный экономический потенциал американских колоний в десятки раз превосходил канадский. «Тринадцать» были вполне самостоятельны с точки зрения самообеспечения и представляли собой готовый плацдарм, военную базу для развёртывания целой армии, со своими ресурсами и инфраструктурой.
(Здесь допустима аналогия с Северной и Южной Кореями наших дней. Сверхмилитаризованный, но находящийся в невыгодных экономических и климатических условиях Север – и менее организованный, рыхлый, но более богатый и способный накормить большую армию Юг. Два мира, две системы, готовые в любой момент сойтись между собой в смертельной схватке).
Географически Тринадцать колоний представляли собой, как уже отмечалось, узкую, протянутую с севера на юг полосу между горами и Атлантическим океаном. Социокультурно они делились на четыре большие области: Новую Англию (Массачусетс, Коннектикут, Нью-Хэмпшир и Род-Айленд), колонии, доставшиеся «в наследство» от других стран (Нью-Йорк и Делавэр), прочие колонии перспективного американского Севера (Пенсильвания, Мэриленд) и будущий американский Юг, уже тогда обособленный.
Причина такого деления была проста. Если на Юге (где жило примерно 650 тысяч белых колонистов и 250 тысяч чернокожих рабов) ядро переселенцев составляли англичане и шотландцы, религиозно и политически лояльные центральной власти, то основу населения тех же Пенсильвании, Нью-Йорка и Делавэра образовывали иностранцы – немцы, голландцы и шведы. Новую Англию и Мэриленд из числа «прочих колоний» вообще основали беженцы и те, кого сейчас назвали бы «сепаратисты» и «экстремисты», подвергавшиеся притеснениям на родине – пуритане, шотландцыкельты из горных кланов, поднимавшие регулярные восстания у себя дома в Хайленде (Горной Шотландии) в течение 17 – первой половины 18 века, англичане-католики и прочие.
Данное деление дополнялось экономическими условностями. Север уже тогда превращался в промышленную кузницу будущих США, основой Юга становилась торговля и выращивание экспортных сельскохозяйственных культур.
Самой многолюдной колонией была Вирджиния (230 тысяч жителей), ей следовал клерикальный Массачусетс (190 тысяч человек). В Нью-Йорке тогда обитало 77 тысяч колонистов – почти столько же, сколько во всей Новой Франции, вместе взятой. Меньше всего (5200 обитателей) проживало тогда в Джорджии – но она фактически и не участвовала в военных действиях.
В Род-Айленде жило 33226 человек, Нью-Хэмпшире – 27500, Коннектикуте – 111 тысяч и Нью-Джерси 71 тысяча колонистов. Пенсильвания могла похвастаться «запасом» в 120 тысяч своих граждан, Делавэр – 28 тысячами, Мэриленд – 141 тысячей и обе Каролины (суммарно) – 136 тысячами человек населения.
В совокупности, все эти владения обладали боеспособным призывным элементом в количестве 150-200 тысяч взрослых мужчин. Многие из них могли быть набраны в ополчение, а также в королевскую армию, и таки были набраны: называются цифры, что в войну 1754-1760 годов до 100 тысяч американцев поучаствовало в военных действиях в различных ролях.
Правда, следует отметить, что цифры могут быть несколько преувеличенными. Провинциальные полки колоний набирались по квотам на одну кампанию, официально на год, но перед наступлением холодов обычно распускались. Отслуживший один сезон солдат мог записаться на следующий год, что особенно было заметно в Вирджинии, и опять попасть в «подсчет», плюс участие некоторых американцев свелось к однократному сбору в состав милиции, обязательной во всех колониях кроме баптистских групп Пенсильвании.
Национальный состав был пёстрым. Только до 1750 года в колонии прибыло 60 000 ирландцев и шотландцев и 50 000 немцев, не считая прочих народов (тех же англичан) – достаточно сравнить с 30 000 переселенцами в Новую Францию за всё время. Тринадцать колоний формировались как настоящее столпотворение народов, говорящее на своих наречиях и диалектах, со своими жизненными укладами, законами и традициями.
Так, имели место быть курьёзные случаи: когда набирали пенсильванских немцев в ополчение Юга, шедшее атаковать Огайо в 1758 году, они не понимали команды, которые им отдавали британские офицеры, не слушались и подчинялись только своим выборным командирам. Потомки голландцев в Нью-Йорке также часто не знали английского языка (особенно живущие на окраинах в глуши).
Государственное устройство также не грешило единообразием. Колониям было отпущено самоуправление, с некоторым ограничением, которым они воспользовались по-своему, организуя каждая свою систему выбора законодательной (парламент), исполнительной (губернаторы) и судебной власти. Политические партии или фракции отсутствовали, попытки их создания наталкивались на нежелание самих колонистов объединяться по какому-либо признаку, кроме религиозного и территориального.
Долгое время это способствовало и нежеланию колоний создания единого Конгресса, координировавшего жизнь всех колоний от Юга до Севера. Последнее предложение Бенджамина Франклина подобного типа оказалось отклонено перед самой войной в 1754 году. Собиравшаяся с 1755 года Ассамблея колония была скорее координационным центром ведения войны, главными решениями которой становились квоты на год для провинциальных полков и согласование с британским командованием.
Тем не менее, определённая унификация имела место быть. Основой служило английское право: оно определяло более-менее порядок избрания губернаторов и поддерживающего их совета.
Все органы были выборными. Выборы стали чем-то вроде «фишки» Тринадцати колоний, их фирменным знаком, хотя в каждой провинции проводились по-своему. Отдельно состояло ведомство (вернее, интендантство по делам индейцев), которое занималось вопросами взаимоотношений с коренным населением Америки и имело центральное подчинение.
В зависимости от политических предпочтений основного массива избирателей формировался облик той или иной колонии. В Массачусетсе имело место быть клерикальное теократическое государство пуритан, в Пенсильвании правили «квакеры», в Коннектикуте или Род-Айленде состоялось что-то вроде демократии.
(Кроме того, «на отшибе» лежали владения Великобритании – Новая Шотландия и Ньюфаундленд. Однако англосаксонское население этих территорий оставалось невелико, всего несколько тысяч человек, и они выступали скорее в качестве оккупированных территорий, на которых не стихали всполохи сепаратизма. Эти земли управлялись Лондоном напрямую, через назначаемых им генерал-губернаторов).
Следует резюмировать, что американские колонии Англии были многолюдным, богатым, но отнюдь не целостным и хорошо организованным образованием. Грядущие войны должны были сплавить их в один котёл, монолит, который в наши дни зовётся Соединёнными Штатами Америки.
1.3. Описание театра военных действий и силы сторон.
При такой разнице в потенциалах можно спросить – почему Новая Франция смогла просуществовать такое долгое время? Как она сдерживала натиск быстро растущих колоний Великобритании на юге?
Во-первых, прошлые войны французам приходилось иметь дело только с отдельными английскими колониями. Преимущественно в ипостаси врага выступал Массачусетс и, после того, как он стал английским, Нью-Йорком. Поддержка войсками метрополии была минимальной.
Во-вторых, сыграли свою роль случай (как при экспедиции Уолкера) и политические конъюнктуры метрополии, позволившие выжить французским владениям при Карле I Английском и вернуть Луисбург после 1748 года. На стороне Канады в качестве союзника выступала и сама природа.
В-третьих, существовало лишь три маршрута вторжения в Канаду. 1. С юга, по речной и озёрной системе рек Ришелье и Гудзона, по водной глади озёр Шамплейн и Джордж – из Нью-Йорка в Монреаль. 2. С запада, в обход по Осуиго через озеро Онтарио, самое восточное из Великих озёр через порожистые верховья реки Святого Лаврентия опять на Монреаль. 3. С северо-востока, с моря, через устье реки Святого Лаврентия и через Квебек.
Только здесь могли пройти большие массы войск. Только здесь, через эти водные коридоры, можно было организовать постоянный подвоз довольствия и провезти тяжёлую артиллерию.
Сообразительные французы понимали опасность этих направлений и воздвигли здесь, на порогах и перекатах и в узких местах, крепости и форты. Подступы к устью реки Святого Лаврентия защищала островная крепость Луисбург, уже взятая один раз английскими колонистами при поддержке британкого флота, но снова возвращённая во владение Франции. Выше по течению Реки располагалась цитадель Квебека, так и не достроенная, уязвимая с суши, на высоком и обрывистом мысе Алмазной скалы, с юга Канаду прикрывал форт Сен-Фредерик на южном берегу Шамплейна, с запада подходы оборонял Фронтенак, современный Кингстон, главная французская озёрная база на Онтарио.
С оперативно-стратегической точки зрения владения французов представляли собой огромную двухтысячекилометровую дугу. По морю и по суше данная дуга терновым венком охватывала земли британцев с севера, северо-запада и северо-востока. Огромные пустынные территории между противниками, имеющие в своей основе труднопроходимую горную цепь Аппалачей, являлись преградой, обширной полосой преодоления, горные долины и реки, этот разъём пересекавшие – проходами и коридорами для движения войск.
Тем самым, французы, оказываясь на внешних операционных линиях, обладали большей централизацией и лучшим управлением, а также рокадными водными путями бассейнов рек Святого Лаврентия и Миссисипи у себя в тылу. Они могли перебрасывать войска с одного участка на другой, концентрировать силы на одном направлении или наносить удары с разных сторон.
(Это преимущество значительно нивелировалось недостатком сил. Французам банально не хватало ресурсов для одновременной организации чего-то большего, кроме рейдов на территорию противника).
В то время как британцы такой возможности оказывались лишены. Они обладали существенной рокадой у себя за спиной, морем, преобладающий фактор в условиях превосходства флота, но требовалось осуществлять перевалку войск и грузов в транзитных портах. С учётом же худшей организации и худшего командования на начальном этапе, данное их преимущество сходило на нет.
Из этого правила было сделано два существенных исключения.
Во-первых, сразу после войны, в 1749 году (когда французы вернулись в Луисбург, высадив там батальон морской пехоты (8 Вольных рот, роту артиллерии)), англичане возвели в двух днях пути свою крепость, крепость-противовес, Галифакс. Она была названа так по имени тогдашнего министра торговли графа Галифакса и находилась всего в двух днях пути по морю от французской твердыни. Бригада из трёх батальонов трёх полков (29-го, 45-го и 47-го Пеших), при поддержке роты артиллерии, сопровождая 1000 англосаксонских колонистов, высадилась здесь, основав город, порт и военно-морскую базу.
Теперь англичане могли напрямую контролировать французское население Акадии, угрожать Луисбургу, а также Квебеку. С базой развёртывания и зимовки в галифаксском порту, имея ближние подступы к жизненно важным центрам Новой Франции, они имели возможность блокировать пути сообщения врага с началом сезона навигации.
Во-вторых, в устье Осуиго англичане ещё в 1720-е построили сперва торговую факторию, а после – и каменный блокгауз. Стратегическое значение выхода врага на Онтарио, появление у них здесь опорного пункта, способного стать плацдармом при атаке путей сообщения с Дальним Западом, быстро оказалось понято французами. Правда, только в 1749 году они провели надлежащую инженерную разведку новой угрозы.
Тем самым, обороноспособность Канады снижалась, а враги подбирались всё ближе. Но это было ещё не всё.
Территориальное расширение французских владений создало новый источник напряжения в долине Огайо. Здесь французы столкнулись с интересами английских колонистов Вирджинии. Для последних новые земли были жизненно необходимы при росте населения колоний и истощения старых, занятых под разведение табака.
Это означало отвлечение скудных канадских сил с других направлений. В то время как у англичан всё новые ресурсы оказывались вовлечены в противостояние.
Стороны стремительно наращивали своё военное присутствие в регионе, присылая всё новые войска. В начале 1749 года англичане располагали на театре постоянными силами в 1000 человек (40-й Пеший полк Филиппса в Аннаполисе – Порт-Рояле, 7 Независимых рот из американских колонистов – 4 в Нью-Йорке и 3 Южной Каролине, по 70 человек каждая). После высадки «галифаксской бригады» это число оказалось доведено до 2500 штыков на континенте.
В 1750 году 29-й Пеший полк вернулся в Ирландию. Однако англичане по-прежнему располагали в Северной Америке более чем двухтысячным контингентом, состоящим из 3 линейных батальонов и 9 отдельных рот (в том числе двух артиллерийских – в Новой Шотландии и на Ньюфаундленде).
На первый взгляд, это было немного. Однако задействованный контингент оказывался больше, чем перед прежними войнами. Кроме того, располагались все три батальона в Новой Шотландии и могли быть быстро использованы для ликвидации одного из источников напряженности – французскую Акадию (что и было исполнено при эскалации военных действий самыми драконовскими мерами).
При доведении же полков и рот до штатной численности, их личный состав вырастал до 3500 человек. Больше, чем во всей Новой Франции, вместе взятой.
Французы аналогично увеличивали боевой потенциал. В июне 1749 года они высадились в Луисбурге с одним батальоном из восьми Вольных и одной артиллерийской рот. В 1754 году их число здесь, в крепости, составило кругленькую цифру в 24 Вольных роты по 50 человек в каждой (штатной численности) и артиллерийскую из 50 канониров (также штатно, с февраля 1758 года – две таких роты).
(Название «Вольные» и «морской пехоты» будут периодически чередоваться между собой. Будучи колониальными частями и находясь в ведении морского министерства, эти подразделения являлись по сути своей морской пехотой).
В Канаде тоже увеличивалось количество войск. Губернатор Дюкен своим указом довёл число Вольных канадских рот до 28 единиц по 50 солдат в каждой, усиленных в 1750 году корпусом из роты колониальных артиллеристов, именовавшихся канонирами-бомбардирами (в 1757 году прибыла ещё одна такая рота).
Стоило ли и говорить, что у противников были неравнозначные войска. Английские батальоны (10 рот, в том числе одна гренадёрская в каждом) представляли собой вымуштрованные части, с отличной строевой и огневой подготовкой, готовые для войны в европейском стиле. Французские – наёмные образования, из присылаемых из Европы служить по контракту или набираемых на месте за деньги солдат.
Последние, хотя и должны были проходить обучение согласно королевских ордонансов о пехоте, на местах, в зависимости от расквартирования, быстро трансформировались или в обычные гарнизонные войска, или в своеобразные подразделения, хорошо освоившие тактику малой войны. Эти силы оказывались приспособлены к неожиданным засадам и дальним рейдам в сводных отрядах с индейцами и «лесными бродягами», но гораздо менее подходили для «европейской» войны.
Достоинства этих войск во многом нивелировались слабой дисциплиной. В будущем их ждали и успехи форта Дюкен и разгромы Ла-Бель-Фамиль. Однако возможности их применения оставались весьма специфичными.
Французские части, кроме того, вечно оставались недоукомплектованными. Так, анализ состояния их регулярных сил до и в ходе войны с французами и индейцами 1754-1760 годов говорил о том, что фактически в ротах в среднем находилось по 30-40 человек.
Это было связано с многими причинами. Болезни уносили ценные жизни, подкрепления из Европы присылались недостаточные, практика получения жалования командирами за «мёртвые души» оставляла желать лучшего, как и низкое самосознание и дисциплина самих военнослужащих, периодически разбредавшихся по домам. Тот же гарнизон Луисбурга, при штатной численности в 1200 морских пехотинцев и 100 артиллеристов совокупно имел в строю чуть более тысячи человек крепостной стражи, из которых 100-200 служак каждую весну оказывались больны и, как следствие, полностью небоеспособны.
Сопоставимая ситуация прослеживалась в Канаде, где из числа в 1500 бойцов в строю наблюдалось порядка 1000 офицеров и солдат. Даже в 1759 году, когда колонии угрожала гибель, под ружьём имелось не более 1500 морских пехотинцев из 2600 человек, полагавшихся по штату.
Всего по подсчетам канадского историка Марселя Фурнье во всей Новой Франции на 1754 год было расположено 2779 человек. Вычитая из этого числа «мертвые души», временно неспособных к несению службы и часть гарнизонов Луизианы, никогда не попавших на театр военных действий, боеспособные силы Вольных рот можно оценить в 2000 человек.
Если у англичан в основе находились слаженные батальоны регулярной пехоты, то у французов можно было говорить лишь о россыпи мелких рот. «Батальоны» в контексте морской пехоты употреблялись лишь как соединения под чьим-либо началом. Стороны, тем самым, располагали примерно по 2000 человек к 1754 году.
Размещение сил было следующее. С англичанами всё было более-менее понятно: три четверти личного состава, все самые лучшие части, находились на полуострове Новая Шотландия, в Акадии. Канадцы (речь не про гарнизон Луисбурга, он оставался на месте) значительно более разбросали свои отряды.
Самая отборная, наиболее укомплектованная часть (4 Вольных роты, отряд канониров-бомбардиров капитанов Фидмона, Вильеруа, Ванне и Броссара) численностью около 200 человек под командованием офицера де Вергора (который в дальнейшем дважды «прославится» поражениями в Акадии в 1755 году и при высадке англичан Вулфа на равнинах Авраама в 1759 году) находилась в Акадии, занимая стратегически важный перешеек Чинекто. Ещё одна рота располагалась далеко-далеко на западе, в форте Детройт на южном берегу озера Мичиган, и ещё 6 рот и 216 человек под началом некоего Контрекёра (коего вскоре сменил Бюжо) дислоцировалось в долине Огайо (в том числе 3 роты в Дюкене, капитанов Дюма и Линьери, и 3 в промежуточных фортах на волоках к югу от Эри).
Прочие войска распределялись следующим образом. 3 роты и 110 штыков при поддержке горстки канониров-бомбардиров прикрывало озеро Онтарио (форты Фронтенак, Торонто и Ниагара), 3 роты стояло на направлении Шамплейн-Ришелье (то есть, направлении главной сухопутной артерии из Нью-Йорка в Монреаль, форты Сен-Фредерик, Шамбли, Сен-Жан). В Труа-Ривьере также имелась караульная рота, в Монреале – две таких роты.
Наконец, главные силы, ядро, своего рода гвардия, «батальон» из 8 рот (300 офицеров и солдат) под началом героя минувшей войны, колониального офицера, «Лейтенанта Короля» (феодальное звание) Рамзе, стояли гарнизоном в Квебеке. Эта часть так и не сдвинулась с места всю войну целиком (хотя отдельные части, сменяя друг друга, конечно, принимали участие в боевых операциях), прикрывая решающую позицию, до самого падения крепости и столицы Канады.
Это про офицеров данного «батальона» негативно отзывался главнокомандующий войсками метрополии Монкальм, когда в мае 1756 года прибыл в Квебек. Получавшие самое лучшее довольствие, постоянное жалование, находясь на привилегированном положении, под протекцией своего влиятельного командира, бойцы и командиры квебекского гарнизона жили, ни в чём себе не отказывая, и часто вели себя соответствующим образом. Будучи способными решить судьбу кампании в той же Акадии летом 1755 года, триста штыков этого гарнизона оставались прикованы к защищаемому пункту (что было отчасти верно, так как падение Квебека означало конец войны).
В условиях дефицита качественных войск основным ресурсом войны выступали колониальное ополчение (провинциальные полки американских колоний Великобритании и французская канадская милиция) и местный элемент, контингенты индейских племён. И здесь удача также не улыбалась французам.
Американское колониальное ополчение собиралось по зову Ассамблеи колоний, собиравшейся в феврале каждого года в Филадельфии с 1755 года. Указанная Ассамблея утверждала численность собираемых войск, а также бюджет, отпускаемый на их оснащение и содержание. Качество этих подразделений очень часто оставляло желать лучшего, дисциплина была низкой, их часто использовали, чтобы заменить на второстепенных участках регулярную армию.
В лучшую сторону отличались Вирджинские полки, и, к 1759 году, полки Нью-Йорка. В дополнение к провинциальным полкам, набиравшимся на один год (или, скорее на одну кампанию) в случае крайней необходимости колонии могли собрать милицию, в которой официально должны были состоять все взрослые мужчины.
Численность этих сил была велика: из почти 64000 человек, поставленных под ружьё в пиковом 1758 году (не считая моряков), фактически, до 36000 бойцов составляли иррегулярные формирования. Всего же, как уже говорилось, по некоторым подсчетам, в той или иной мере 100 000 американцев за 1754-1760 годы взяли в руки оружие и прошли через руки бога войны.
Французы предельно смогли мобилизовать 10000 человек иррегулярной милиции в роковом 1759 году (благо, что вооружения хватало). Больше не позволяли ресурсы колонии: просто не хватало мужчин, и так поставили всех, кого смогли, под ружьё в возрасте от 12 до 85 лет.
Индейцы также являлись скорее «переходящим призом». На севере постоянным союзником французов были только крещённые индейские племена Канады, так называемые индейцы-католики и абенаки, в Луизиане – чокто. Остальные воевали то на той, то на другой стороне, в зависимости от того, которой больше улыбалась удача и где они могли поиметь максимальные барыши.
Так в 1757 году почти 2000 индейцев «со всех концов земли» собрались в лагере французского генерала Монкальма для битвы. В 1759-1760 годах уже наоборот, индейцы скорее воевали на британской стороне (хотя высшее британское командование не испытывало к ним большого интереса).
Мобилизационная схема сбора ополчения французов была более чёткой. Согласно эдикту короля, всё взрослое мужское население в пределах от 16 до 60 лет считалось военнообязанным.
По призыву губернатора колонии все, кто находился в рамках этого ценза, должны были во главе со своими капитанами округи явиться в назначенное место. Кампания 1759 года показала, что максимально Канада способна оказалась собрать порядка 100 рот (отрядов феодальных сеньорий Канады, выступивших со своими капитанами). Несколько рот объединялось в «батальон» или «бригаду», те, в свою очередь – в ополчение губернаторств Монреаля, Труа-Ривьера или Квебека (а также городов Монреаля или Квебека).
Качество этих войск было разным. Во введении приводился отзыв о канадских милиционерах, как о бойцах, отлично подготовленных для дальних рейдов в суровых условиях бойцах.
Это было верно для небольших рейдовых отрядов под хорошим командованием канадских офицеров, которые использовались в прежних войнах. При расширении масштабов военных действий, когда помимо отрядов «лесных бродяг» и хороших охотников возникла необходимость тотального ополчения, среднее качество отрядов соответственно упало. Как писал Чамберс: «среди них было мало отставных солдат, они мало тренировались и оставляли желать лучшего».
Впрочем, бывали и исключения. Тот же канадский партизан Репентиньи сумел сколотить волонтерский отряд ополчения, остававшийся вполне на высоте.
Проще говоря, канадские ополченцы служили вспомогательными и универсальными силами, которыми затыкали второстепенные направления. Например, не только в боях и набегах, но и на строительных, перевозочных работах. Тотальная мобилизация ополчение, кроме снижения качества отрядов, таила в себе и другую, ещё большую опасность –окончательно подрывала и без того слабую экономику колоний.
Англичане (у которых ресурсов было больше) для малой войны пошли по пути создания специализированных формирований. Для рейдов набирали рейнджеров (что-то вроде тогдашнего спецназа), для транспортного обслуживания сколотили два полка, лодочников-батоменов и вагонеров, которые перевозили грузы для действующей армии по рекам и по дорогам. Численность полков достигла в 1759 году значения в 4000 человек (по 2000 бойцов на полк).
(Кстати, родоначальником легендарных рейнджеров, предков нынешних спецназовцев США, был вовсе не знаменитый Роберт Роджерс, фальшивомонетчик, решивший за деньги послужить королю. Ещё в 1744 году создали две роты по 60 стрелков, из стоунбриджских индейцев и американских колонистов, отправившихся защищать Аннаполис – Порт-Рояль.
Прославленным командиром одной из рот стал капитан Горхэм, ветеран боевых действий. Именно он в 1747 году пытался предупредить массачусетсцев Нобла перед разгромом при Гран-При. В 1755 году на полуострове Новая Шотландия уже имелось семь рейнджерских подразделений численностью от 90 до 95 человек каждое).
Расцветки обмундирования были следующие. Англичане имели в основе линейных войск красный мундир с белыми элементами (очень заметный, за что годы спустя, во время войны за Независимость, американские колонисты прозвали их «омарами» и «красными мундирами»).
80-й полк лёгкой пехоты, созданный в процессе войны, а также рейнджеры обладали своей собственной экипировкой, позволявшей лучше маскироваться в лесной местности. Американское провинциальное ополчение также имело свою собственную униформу, довольно отличную. Так, цвета полков милиции Нью-Джерси и Вирджинии были синими (из-за чего их путали с французами).
Форма французских частей (что линейных, что колониальных) была унифицирована. Кафтан-жюстакор, одеваемый поверху, был грязно-белый, почти серый, что у королевских регулярных полков, что у колониальной морской пехоты.
Отличие имелось в деталях: в полках Ля Сарр, Королевского Руссильона, Лангедока и Королевы это был белый с синим, Берри, Гиени и Беарна – белый с красным. Различным также был цвет рукавов (красных или синих), пуговиц и галунов на шляпах (серебряных или золотых). Барабанщикам и артиллеристам всех частей был положен синий с красным.
Впрочем, стоит отметить, что светло-серый жюстакор французского пехотинца (и бойца Вольных рот) – фактически одежда на холодный период. Лето в Канаде жаркое и солдаты Вольных рот, помимо того, что имели в одежде много индейских элементов, жюстакор не носили, оставаясь в камзоле – а он как раз синий.
Даже солдаты полков метрополии летом часто снимали жюстакоры и оставались в цветных камзолах. Перед Карийоном Монкальм специально приказал солдатам одеть жюстакоры, чтобы они в «тумане войны» не перебили друг друга, ориентируясь на цветные камзолы. Просто потому, что у некоторых полков они были красные, как мундиры у англичан.
Новые времена накладывали новые требования к уровню боевых действий. В 1744 году толпы французских и индейских партизан оказались совершенно беспомощны против современной фортификации Порт-Рояля. Наоборот, применив при помощи моряков Уоррена современные способы ведения войны, американские колонисты взяли Луисбург в 1745 году.
Старые форты, представлявшие собой частоколы или блокгаузы против набегов индейцев, оказывались бессильны против сокрушительного огня пушек и гаубиц. В то время как в Европе уже давно господствовала система Вобана, комбинированной методики взятия крепостей через артиллерийское воздействие и окопную войну, в Америке по-прежнему надеялись на эффективность набегов и штурмы с лестницами и топорами.
И вот здесь на первые план вышли регулярные подразделения, которые стороны отправляли за океан. На начальном этапе войны (1755-1756 годы) объём отправляемых за океан подкреплений был примерно сопоставим. В 1757 году Великобритания резко вырвалась вперёд (к тому же, англичане активно создавали местные постоянные части – 60-й линейный полк или корпус Королевских американцев и 80-й полк лёгкой пехоты).
Франция в 1755-1758 годах выслала 12 батальонов сухопутных войск и 2 артиллерийские роты, а также свыше 4142 рекрутов и волонтёров, включая период 1759-1760 годов и тех из них, что отправились в Луизиану (линейные части и Вольные роты доукомплектовывались людьми, посылаемыми из Европы). Всего 10959 человек, из которых 6817 бойцов пришлось на части метрополии.
Из этого числа 1832 воинов было перехвачено англичанами. Из этого количества 401 офицер и солдат составили войска метрополии и 1431 рекрут и волонтер образовали пополнение.
Каждый батальон имел штатную численность 525 человек (в том числе 31 или 32 офицера) в 13 ротах – 12 фузилерных по 40 человек и одной гренадёрской по 45 бойцов. Полк Камби, высланный после мобилизаций 1756-1757 годов, имел расширенную структуру из 17 рот (в том числе гренадерской) и 685 офицеров и солдат. Кроме того, атипичной была организация полков Иностранных добровольцев (11 рот и 660 человек) и Берри (9 рот по 63 военнослужащих).
8 батальонов (вторые батальоны полков Королевы, Лангедока, Гиени, Беарна, Королевского Руссильона и Ля Сарра, 2-й и 3-й батальоны полка Берри) отправились в Канаду. Ещё 4 батальона (полков Камби, Бургундии, Артуа и Иностранных добровольцев) попали в Луисбург.
Это была целая армия, которой командовал сперва генерал-майор, а с 1759 года – уже генерал-лейтенант (формально они подчинялись генерал-губернатору, адмиралу по званию, аналогичному генерал-лейтенанту). В 1755 году функции главнокомандующего исполнял Жан Арман Дискау, в 1756-1759 годах – Монкальм, а 1759-1760 годы – Леви, будущий маршал Франции.
(Проведя несколько лет, живя и сражаясь в Канаде, многие из них, кто выжил, основались здесь и обзавелись семьями. В 1760 годах, когда остатки войск метрополии сдались, окружённые, в Монреале, фактически порядка 500 из 2500 солдат капитулировавшего корпуса Леви пожелали остаться в Канаде на поселении).
Британцы просто затопили континент своими пополнениями. Всего за годы боевых действий через Атлантику отправилось 22 батальона и 23000 кадровых офицеров и солдат, а также рекрутов, которые стали основой для формирующейся армии. Всего на театре военных действий (считая созданные на месте части) участвовало порядка 30 батальонов (в том числе артиллерийский) английский королевской армии.
Убыль в полках пополнялись рекрутами как из местного контингента, так и из метрополии. Это ещё более увеличивало военные усилия Британии в войне за Океаном.
Основное развёртывание происходило на месте. Так, в 1758 году из примерно 65000 бойцов сухопутных войск свыше 20 тысяч человек составили «люди из-за моря» и 45 тысяч военнослужащих – элемент, набранный из числа местного населения.
Рост ранга командующего также происходил пропорционально накачке театра подмогой. В 1755 году им был генерал-майор Брэддок, 1756-1758 годы – генерал-майоры Лаудон, Аберкромби и Эмхерст. В 1759 году Эмхерст, к тому времени единоличный главнокомандующий британской армией в Северной Америке, стал генерал-лейтенантом.
1.4. Столкновение.
Война по факту уже шла. Боевые действия разгорелись в 1754 году в Огайо, где столкнулись вооружённые отряды сторон, и где хватило провокации Вашингтона, инициатора войны и будущего первого президента и основателя США.
Продолжались столкновения и в Акадии. Здесь переплетались финансовые и прочие интересы бостонских деловых кругов, представленных массачусетским губернатором Ширли (инициатором атаки на Луисбург в 1745 году), и местной военной администрации в лице генерал-губернатора Лоуренса. Последний грезил перспективами депортации нелояльного французского населения и заселения освободившихся земель англоязычными эмигрантами из Европы.
Спорным был и вопрос о статусе французского форта Сен-Фредерик на южном Шамплейне, а также английской фактории в устье Осуиго. Последняя, на берегах озера Онтарио, в будущем могла представлять угрозу сообщениям Канады с Луизианой, преврати её англичане в укреплённый плацдарм, накачанный войсками и оружием.
Узнав о столкновениях в Огайо, в Лондоне задумали решить вопрос кардинально. 14 января 1755 года из Корка в Ирландии в Вирджинию отправилась военная экспедиция из двух батальонов (44-го и 48-го Пеших полков) генерал-майора Брэддока, под эскортом двух линейных кораблей. Кроме того, решено было набрать два полка в Новой Англии, для операций на севере.
Полки Брэддока насчитывали по 500 человек каждый, планировалось на месте довести их численность до 700 офицеров и солдат. Части, формировавшиеся в Новой Англии, получили номера 50-го и 51-го Пеших.
(Это было, по большому счёту, авантюрой герцога Ньюкастла и секретаря Генри Фокса. Их действия основывались на американском лобби и секретном плане Уильяма Питта, будущего премьер-министра Великобритании, от ноября 1754 года, подразумевавшего поэтапное вытеснение французов из всех спорных приграничных районов. Такие действия могли привести к войне – и привели).
Париж отреагировал мгновенно. В декабре 1754 года во Франции узнали о секретной экспедиции Брэддока, после чего последовал немедленный отзыв посла из Англии.
(Конфликт вообще становился нетипичным на фоне предшествовавшей плеяды войн. Раньше экспорт боевых действий приходил из Европы, где сталкивались империи, местные стычки не влекли эскалацию за океаном. Сейчас назревало что-то иное, и старый принцип доктрины о двух сферах уже не работал).
13 января 1755 года французский король Людовик Пятнадцатый утвердил план отправки подкреплений в Новую Францию. Семь линейных кораблей должны были вести четыре батальона подмоги в Квебек, и ещё четыре линкора – два батальона в Луисбург.
Это тоже была авантюра. Обе стороны играли на нервах друг друга. Французы сильно рисковали, бросая больше половины наличного состава своего флота (11 из 21 линейного корабля, два дивизиона брестской эскадры под началом адмирала Дюбуа де ла Мотта и шефа эскадры Перье де Сальвера) в опасное предприятие за океаном, особенно учитывая тот факт, что англичане имели в строю в три раза больше боеготовых судов (61 единицу).
Французские корабли к тому же шли частично, как транспорты. 9 из 11 линкоров разоружили, превратив во флюйты (то есть, сняли тяжёлые пушки нижних палуб и убрали большую часть команды, полностью обесценив как боевые единицы).
Наперехват конвою вышла эскадра вице-адмирала Боскауэна (13 вымпелов, в том числе 11 линейных). Англичане намеренно пропустили выход французов из порта (ведь столкновение у родных берегов могло означать войну). Эта эскадра должна была дежурить возле Ньюфаундленда, ожидая караван из Бреста.
Ей на помощь следовали ещё 6 линейных кораблей британского королевского флота под вымпелом контр-адмирала Холбурна. Целая армада собиралась на небольшом пятачке, преграждая путь в Луисбург и устье реки Святого Лаврентия.
Узнав о таком развёртывании врага, в Париже решили подстраховаться, и ещё более усилили своё присутствие за океаном. 3 мая из Бреста выдвинулась эскадра адмирала МакНамары, 6 линейных кораблей и 3 фрегата. Тем самым, французы бросили почти весь боеспособный состав флота в экспедицию через океан.
В Канаде ещё не знали о сгустившихся тучах. Но в высших эшелонах колониальной власти уже зрели противоречивые настроения.
Генерал-губернаторы приезжали и уезжали, не задерживаясь больше, чем на три года. Биго и Понбриан, которые оставались тут, с которых спрашивали в Париже и папском Риме, понимали всю сложность положения Канады перед лицом английской угрозы с юга, в то же время упорно продвигая идею реванша…
10 апреля 1755 года на фрегате «Фидель» в Квебек были доставлены печальные новости о готовящейся войне. Столица Канады переполнилась томительного ожидания.
25 мая 4 линейных корабля и 2 фрегата Сальвера доставили два батальона подкрепления в Луисбург. Поход второго дивизиона был удачно завершён, он мог возвращаться в Европу. На родине его должен был ждать адмирал Гуа (сменивший МакНамару) у берегов Португалии, чей поход свернули, поставив задачу ждать возвращения судов атлантического конвоя.
4 июня дивизион под командованием де ла Мотта был у входа в устье реки Святого Лаврентия. Но здесь его уже поджидал Боскауэн со всем своим флотом.
Несмотря на то, что 6 из 7 его линейных кораблей несли только по 12-24 лёгких пушки вместо положенных 56-74 орудий, де ля Мотт решил прорываться. Для чего французский адмирал разделил караван на две части. Воспользовавшись туманной погодой, они должны были проскочить.
7 июня, когда установилась подходящая погода, 8 судов (7 линейных кораблей и 1 фрегат) де ля Мотта двинулись на прорыв. Британский флот находился всего в 10 километрах от них, но 5 французских кораблей (включая фрегат «Сирен») успели пройти.
Однако 3 линейных судна постигла неудача. Наутро 8 июня англичане настигли их, атаковав сперва эскортный «Алкид», а затем и превращённый в транспорт «Ли», заставив спустить флаги. Потери французов составили 80 убитыми и ранеными, англичан – 6 человек.
В плен попали солдаты и офицеры 8 рот полков Королевы и Лангедока, а также артиллеристы бригады Дискау (всего 400 человек). Третье судно, «Дофин Рояль», сумело пройти и благополучно достигло Квебека.
С 19 по 27 июня суда каравана де ля Мотта прибыли в Квебек. Это был триумф французского адмирала, сумевшего доставить подкрепления (примерно 1770 из 2170 солдат) по назначению, несмотря на английскую блокаду.
С войсками в колонию с помпой прибыл также новый канадский генерал-губернатор, сменивший Дюкена. Это был Пьер де Риго, маркиз де Водрёй-Каваньяль, последний французский правитель этого северного края. Личностью он был незаурядной, поскольку, в отличие от своих предшественников, был местным уроженцем.
Его отцом был Филипп де Риго Водрёй, губернатор Новой Франции в 1703-1725 годах, удержавший колонию от британских нашествий во время войны королевы Анны. Тем самым, Водрёй-младший всю жизнь прожил в Америке, побывав в 1743-1753 годах в роли губернатора Луизианы, и местные особенности знал не понаслышке.
Достигнув колонии, он быстро провёл церемонию инаугурации, торопясь вступить в должность. Понимая всю сложность системы власти в Канаде, постарался быстро войти в дружбу с Биго, интендантом колонии. Последний приворовывал, к оному, возможно, прикладывал руку и Водрёй, понимая в то же время важность сохранения хороших отношений.
В Канаде была объявлена мобилизация – пока ещё не тотальная. Новому командующему сухопутных войск, Дискау, требовались войска.
С армией в 3000 человек регулярных войск, ополченцев и индейцев тот выступил вверх по реке Святого Лаврентия, присоединяя по пути милиции Труа-Ривьера и Монреаля. Промежуточной целью движения был Монреаль, который планировалось превратить в базу для военных операций. Главное внимание оказалось обращено на Онтарио, где ожидалось наступление колонистов Новой Англии и Нью-Йорка.
Водрёй остался в Канаде. Его задачей было упорядочивание хозяйственной деятельности колонии, снабжение действующей армии.
24 августа де ла Мотт двинулся со своей флотилией назад, во Францию. За месяц до того, его оппонент, Боскауэн, упустивший проводку французского конвоя в Квебек и соединившийся с Холбурном, снял блокаду устья реки Святого Лаврентия и увёл свой флот в Галифакс. Путь домой был свободен: Боскауэн пополнял запасы и ремонтировал корабли в Галифаксе, Холбурн с малой эскадрой крейсировал вокруг Луисбурга.
Стороны сходились, подобно тучам. Теперь вопрос стоял так: какая из метрополий, Великобритания или Франция, деятельнее обеспечит свои колонии, предоставив им шанс на победу.
Роковая схватка за Америку началась.
ГЛАВА II. ОГАЙО.
2.1. «Что за земля – Огайо».
Свой первый самый сильный удар в Америке британское правительство планировало нанести в Огайо. Именно сюда направлялись отборные части во главе с командующим экспедиционными силами на континенте Брэддоком. Именно эти спорные земли привлекли наибольшее внимание двух крупнейших европейских кабинетов 18 века.
Огайо… В первой половине 18 века это слово подразумевало не только территорию штата в составе современных США, но и обширные просторы в треугольнике между Аппалачами на востоке и на юге, Великими озёрами на севере и рекой Миссисипи на западе.
Земли не только собственно Огайо, но и часть Пенсильвании, Западной Вирджинии, Индианы и Кентукки практически целиком – вот что такое Огайо тогда, больше 250 лет назад. Вся площадь водосборного бассейна одноимённой реки, колоссальная чаша между северными, восточными и южными горами. К западу и северу лежал Иллинойс, а на юго-западе, где река Огайо впадала в Миссисипи, начиналась уже Луизиана – огромное южное владение французской короны.
Площадь всех этих владений достигала 350 тысяч квадратных километров. По сути, вся территория Соединённого Королевства Великобритании (метрополии, без колоний) уместилась в этой обширной заокеанской стране.
«Что за земля – Огайо!» – восклицал герой Тарлетона в известном фильме «Патриот». И был, безусловно, прав. Обширные просторы величиной с приличное европейское государство, безлюдные холмистые равнины, заросшие непроходимыми лесами, на западе переходящие в прерии, широкие реки, на берегах которых жили враждебные племена – всё это Огайо в те годы, настоящая «терра инкогнита».
На территории Огайо к 1750-м годам сталкивались самые разные интересы. Помимо собственно французов и американских колонистов, здесь сосуществовала пресловутая Лига Ирокезов и индейские племена, вытесненные в Огайо в ходе «бобровых войн».
Все эти общности нередко ещё и враждовали между собой. Сюжет, достойный отдельной книги – «бобровые войны», – вынудили к переселению большое количество племен алгонкинской и ирокезской группы из не входивших в состав лиги (гуроны). С места снялись вейандоты (гуроны из не ушедших в миссии Канады), шауни, фоксы, сауки, делавары, майами, иллинойсы, оттава и прочие.
С 70-х годов 17-го века стала складываться «договорная цепь» Лиги с побежденными племенами. Но после успеха у форта Сен-Луи и организации своих индейских союзников в антиирокезскую лигу, французам удалось оттеснить Лигу ирокезов на исконные территории, и добиться заключения Великого мира 1701 года.
(Часть племен алгонкинской группы выпала из влияния Лиги ирокезов, так как все договоры и вопросы с ними должны были решаться через французское посредничество. После постройки форта Детруа (Детройта) французы также утвердили своё влияние на озере Эри, где нашли пристанище многие их союзники из числа индейцев.
Однако сам факт отказа Лиги Ирокезов от претензий на владение Огайо не оговаривался. Плюс официально было разрешена миграция в Огайо части ирокезов, преимущественно из кайюга и сенека).
В итоге Огайо Лига ирокезов считала своей территорией, а местные племена обязанными подчиняться системе «Договорной цепи». Сами местные племена (вейандоты, делавары, майами, шауни) стремились к независимости от Лиги. Французы и в Иллинойсе, и в Огайо поддерживали «своих» (так родились войны фоксов) и старались не допустить англичан.
Регион «кипел».
Очень большие потери в ходе последнего этапа «бобровых войн», недовольство поддержкой со стороны Нью-Йорка, привели к расколу Лиги. Но стремление удержать племена «Договорной цепи» в подчинении явно прослеживалось и далее, с этой точки зрения вождь, известный под именем «Полукороль», являлся эмиссаром от Лиги для контроля за племенами Огайо.
Поэтому в войну 1746-1748 (имеется в виду ирокезский период участия в войне короля Георга), по сути, только могавки поддержали британцев. Прочие из «Шести наций» прислали лишь небольшие контингенты или вовсе ограничились нейтралитетом.
В 1747 году оказались отмечены лишь отдельные случаи нападения на канадских торговцев, начавших проникать в долину Огайо в начале 18 века. Представители монреальских и квебекских концессий ехали в края к югу от озера Эри за мехами – а местным индейцам становилось выгодно иметь с ними дела. Это превращалось в взаимовыигрышное сотрудничество.
Но в первую очередь Огайо интересовало Новую Францию как транзитная транспортная артерия. Как короткий водный путь, позволявший существенно сократить издержки при движении на юг, к Мексиканскому заливу, в далёкую Луизиану.
Огромный торговый путь, «дорога жизни» Канады, начинался от Лашинских причалов под Монреалем. Минуя труднопроходимые Лашинские пороги, через Онтарио, волок под Ниагарским водопадом, озёра Эри, Гурон и Мичиган он выводил в верховья Миссури, образуя колоссальную дугу. При взгляде на географическую карту, соответственно, возникал соблазн срезать этот угол, проложив прямую дорогу через Огайо поближе к Аппалачам (и сэкономив несколько сотен километров).
Сперва канадские первопроходцы, охотники за пушниной, а после и географы, со слов местных индейцев, обратили внимание, что горный хребет к югу от озера Эри полог и узок, что там имеются проходы и доступные ущелья. Соответственно был сделан вывод, что, там, за этим хребтом, из угла между ним и Аллеганами (отрогом Аппалачей), начинаются потоки, несущие свои воды на юго-запад, к Миссисипи, рассудили они.
Было найдено два волока в верховья таких потоков. Один, протяжённостью 32 километра, начинался восточнее и выводил к озеру Шотока, от которого ручьём Коневанго можно было достичь большой реки Алегейни, ведущей к Огайо. Второй, проход длиной 24 километра, позволял быстрее достичь Алегейни через реку Бёф (или Френч Крик).
Река Алегейни вскоре сворачивала на юг и примерно через 200-250 километров от окончания каждого из волоков сливалась с рекой Мононгахелой, спускавшейся с юга со склонов Аппалачей, образуя собственно реку Огайо. Стрелка слияния двух рек, место, где сейчас стоит современный город Питтсбург, образовывала перекрёсток, где сталкивались пути движения французов с севера и англичан с юго-востока.
Далее, на протяжении 2100 километров Огайо без особых приключений бежит на юго-запад, до самого своего впадения в Миссисипи. В устье река очень широко разливается в степях, которые именуют прериями, и напоминает море. Огайо славится своими разливами и подъёмами воды в период половодий (порой – до 20 метров в особо «бурный» сезон).
С юго-востока приближались англичане: Вирджиния, Пенсильвания и обе Каролины. Ареал обитания американских колонистов постоянно расширялся, племена индейцев оттеснялись. По договору в Олбани 1722 года граница распространения Вирджинии доходила до Блю Ридж, по Ланкастерскому договору 1744 года по Аллеганам с включением долины Шенандоа в зону расселения колонистов.
Западные земли за Аллеганами тоже привлекали внимание Вирджинии и Мэриленда. Логстаунский договор 1752 года (о разрешении на пересечение Аллеган) и встречи 1754-1755 годов, когда напоенные алкоголем представители Лиги «уступили» Огайо Пенсильвании – естественный ход развития колонии с экстенсивных плантационным хозяйством.
С севера надвигались французы…
Отчёты со стороны торговцев и шпионов, проникавших в долину Огайо, стекались в Квебек. Франция с 1731 года уже имела «короткий путь», западнее, через крайнюю юго-западную точку Эри и верховья реки Уобаш, в лице форта Винсенн (торговой фактории в 80 километрах от слияния с Огайо), но эта коммуникация была длинна и неудобна и следовало подыскать другую.
В 1744 году в замке Сен-Луи в Квебеке губернатор Канады Богарнэ, на базе собранных сведений, принял решение об экспедиции в долину Огайо. Однако начавшаяся война прервала эти планы. Скудные ресурсы Новой Франции, брошенные на борьбу с британцами, не позволяли ей одновременно сражаться с врагом и расширять подконтрольные территории.
Решение «огайского вопроса» оказалось отложено до лучших времён. Такие времена наступили после заключения мира с англичанами в 1748 году.
В июне 1749 года канадская Вольная рота (30 человек) во главе с капитаном Селероном де Бленвиллем, 180 канадских ополченцев и горсть индейцев-сопровождающих покинула Монреаль. В течение нескольких последующих месяцев она прибыла в верховья Огайо, обследовала долину, соседние горы и Аллеганское плато и составила подробные географические описания этих мест. Только начавшаяся череда смен губернаторов в Квебеке не позволила сразу воспользоваться изысканиями де Бленвилля.
Между тем, интерес англичан к диким землям за горами тоже возрастал. Всё новые торговцы проникали, подобно французским собратьям, за хребет, появились и первые переселенцы, а активно развивающимся американским колониям Юга (будущим «южным штатам») требовалось больше места под солнцем.
В 1747 была создана так называемая «Компания Огайо». В рамках данной организации оказались тесно переплетены финансовые интересы не только ряда крупных американских дельцов (Лоуренса, Ли, Чапмена, братьев Мерсеров и Вашингтонов), но губернатора Вирджинии Динвидди и даже отдельных лондонских правящих и деловых кругов. В 1748 году компания получила грант на освоение 800 квадратных километров земли в Огайо.
Проект подразумевал не только развитие коммерческих взаимоотношений, но и создание колоний-поселений за Аппалачами, возле слияния Мононгахелы и Алегейни (то есть, на «перекрёстке»). На начальном этапе предполагалось переселить порядка двухсот (по другим данным, сто) семейств.
В 1750 году компания наняла некоего Кристофера Гиста (в будущем получившего плантацию в 60 километрах от «перекрёстка»), опытного топографа и следопыта. За два года тот исследовал земли запада современных американских штатов Западная Вирджиния и Пенсильвания и заключил ряд соглашений с местными индейцами майами. Кроме того, было основано несколько опорных фортов в горах и проложена дорога к ним из Винчестера.
Это была уже угроза. Однако в Квебеке, где правил равнодушный к делам дальнего Запада губернатор Ла Жонкьер, предпочли не замечать её.
Между тем как колонисты во главе с губернатором Динвидди продолжали последовательно воплощать свои планы в жизнь. Началась практика сбора сводного полка провинциальных милиций южных колоний в городе Винчестер. Численность «полка» была «плавающей» и никогда не превышала 500 человек, боевые качества и подготовка также оставляли желать лучшего.
(Винчестерский полк мог служить канадским Вольным ротам не более, чем на закуску. Тем не менее, он являлся кузницей кадров и основой для развёртывания более многочисленных подразделений).
Обстановка накалялась. Долина реки Огайо постепенно превращалась в новую «горячую точку» на американском континенте, подобно Акадии на востоке.
В начале 1750-х английские торговцы постепенно стали вытеснять французских оппонентов из спорных приграничных районов. Подбитый ими, вождь Мемеска Ла Демуазель, правитель майами, поднял «Юнион Джек» над своим домом в деревне Пикавиллани (современный город Пика в западной части штата Огайо). Он провозгласил себя британским подданным, а свои земли – уделом короны Соединённого королевства.
В конце весны 1752 года молодой кадет (должность, предшествовавшая офицерской в канадской колониальной армии), вождь-метис Шарль Ланглад из племени оттава, находившийся в форте Мичилимакинак (или Детруа) на Дальнем Западе, узнал об этом. Собрав 250 ниписсингов, подбив на дело несколько авантюрно настроенных канадцев и не дожидаясь согласования с Квебеком или Версалем, он выступил в поход на Мемеску.
21 июня 1752 года эта набеговая партия внезапно появилась под Пикавиллани. Деревня была захвачена и стёрта с лица земли, вождь Мемеска – убит и съеден (!) оттава по их боевому обычаю. Это был сигнал другим племенам Огайо.
Между тем как власть в Канаде поменялась. Генерал-губернатор Ла Жонкьер оставил свои полномочия в марте 1752 года и убыл во Францию.
Временно его обязанности исполнял барон Лонгёй, ветеран войн на канадском фронтире. Это он убедил прибывшего в августе 1752 года нового назначенца, Дюкена, предпринять военную экспедицию в Огайо. Сторонники силового решения «огайского вопроса» возобладали, самоуправство Ланглада осталось для него безнаказанным.
Весной 1753 года целая армия из 1000 канадцев (колонистов, сводного батальона регулярных солдат из канониров-бомбардиров и Вольных рот) и примерно 200 союзных индейцев собралась в Монреале. Под знаменем своего губернатора (и как только река Святого Лаврентия стала свободна от льда), она выступила в поход.
Масштабы акции впечатляли. Даже в минувшую войну в рейды против границ Новой Англии и Нью-Йорка разом не снаряжалось столько. Войска волокли не только лодки, шанцевый инструмент и припасы, но и многочисленную малокалиберную артиллерию: шестифунтовки и вертлюжные пушки.
(По крайней мере, только в Лебёфе в декабре 1753 года Джордж Вашингтон насчитал 8 таких орудий. Общий огневой наряд был ещё больше).
Целью экспедиции была не только и не столько демонстрация перед индейцами Огайо, но и закрепление в долине этой реки. В мае 1753 года разношёрстое воинство Дюкена прибыло к водоразделу и волокам между Эри и верховьями Алегейни.
Здесь новый генерал-губернатор Новой Франции основал (один за другим) укрепления Прескиль, Лебёф и Машо (Венанго). Сенека выступили было против французов, однако майами, напуганные прошлогодним разгромом в Пикавиллани, быстро переметнулись на сторону последних, принеся скальпы двух английских пленников. Оставив в новых фортах гарнизоны на зиму под началом некоего Контрекёром и испытывая трудности со снабжением, губернатор Дюкен в сентябре 1753 года увёл свои войска в Монреаль.
(Согласно Паркману, общая численность этих гарнизонов составляла 300 человек – исходя из донесения Вашингтона, что 100 солдат и ополченцев находятся только в Лебёфе с Контрекёром. По другим данным, совокупная численность гарнизонов всех трёх фортов не превышала 150-200 штыков с ядром из 90-100 бойцов в Лебёфе).
2.2. Манёвры и первые выстрелы.
Прибытие французской армии застало англичан врасплох. Некто Джон Фрейзер, находившийся в то самое время в верховьях Алегейни, вынужден был спешно бежать на юг, чтобы предупредить своих.
В Вирджинии были в панике. «Ход конём» французов оказался полной неожиданностью для властей колонии (и соседней баптистской Пенсильвании – тоже). Губернатор Вирджинии Роберт Динвидди (уже считавший край за Аппалачами своим) лихорадочно искал выход из создавшегося кризиса.
И вот здесь-то на сцену вышло новое действующее лицо и главный зачинщик драки, чьё имя ныне известно во всём мире. Джордж Вашингтон, будущий первый президент Соединённых Штатов (и один из их «отцов-основателей» этой могучей заокеанской страны).
В те дни он был молод, всего 21 года от роду, однако обладал огромным ростом, недюжинной силой и железным здоровьем. К тому же, братья его, вирджинские плантаторы-землевладельцы, являлись пайщиками Компании Огайо. Соответственно, Джордж Вашингтон был кровно заинтересован в удачном для английской короны исходе дел за горами.
К тому времени, как мы помним, на северо-западе Вирджинии в Винчестере вовсю сколачивалась армия. Конечно, армией назвать этот сброд из нескольких сотен человек американской провинциальной милиции было сложно, однако, собранные и вооружённые, они представляли собой некоторую силу.
Южная Каролина согласилась прислать лучших людей из состава расквартированных на её территории трех Независимых рот в составе сводной роты. Это была своего рода гвардия для грядущих битв. Кроме того, вирджинцы подполковника Мьюза готовились выставить полк на базе того сводного, что собирался каждую весну в Винчестере.
Оставалось выиграть время. Для этого предполагалось отвлечь французов дипломатическими переговорами.
Выбрали Вашингтона. Осенью 1753 года, как следует экипировавшись, будущий президент США в сопровождении семи попутчиков отправился в путь. Его ждала долгая дорога через горы, вдоль рек, среди не всегда дружественных индейских племён.
Следует сказать, что первая, дорожная, часть посольства удалась (хотя молодой тёзка правящего британского монарха чуть не погиб). 4 декабря 1753 года, преодолев все трудности, измождённый Вашингтон достиг строившегося форта Машо.
Здесь, измученный, вместе со своим эскортом он был встречен канадцами и препровождён в такой же строящийся Лебёф. Это было 11 декабря 1753 года. На севере, в Канаде, уже вовсю буйствовала зима, но тут, на южных широтах, сохранялось ещё относительное тепло.
Комендант укрепления Контрекёр с изумлением выслушал ультиматум Динвидди. Вирджинский губернатор предлагал французам, в общем-то, убраться с занятых ими земель.
(С таким же апломбом представитель американских колонистов мог потребовать у французов покинуть Канаду. То есть, оставить земли, с такими трудами ими занимаемые и удерживаемые).
Ответ последовал незамедлительно. В максимально вежливой форме, Контрекёр ответил отказом. Пробыв в Лебёфе до 16 декабря и несолоно хлебавши, будущий победитель при Йорктауне отправился обратно.
Попытка дипломатического урегулирования провалилась. Никто не хотел уступать, и стороны склонились к войне.
Вернувшийся в январе 1754 года Вашингтон вскоре получил чин подполковника колониальных войск и был назначен командующим группировки вторжения. Вскоре он отбыл в Винчестер, место, где собирались войска для грядущей кампании. Квоты были выделены, оказалось назначено финансирование, осталось собрать войско (разошедшееся на зиму по домам).
В январе 1754 года легислатура Вирджинии обязалась собрать и вооружить две роты провинциальных солдат численностью 100 человек каждая. В дальнейшем (весной 1754 года) число этих подразделений было увеличено, вместе они составили Вирджинский провинциальный полк, который усилили ротами Мэриленда и Северной Каролины.
Вашингтон понимал, что следовало действовать на опережение. Ещё до того, как французы оправились бы от зимовки и получили подкрепления из Канады, следовало занять стратегически важные позиции и удержаться на них.
План будущего первого президента США был прост. До того, как все войска соберутся в Винчестере, пойти с передовыми через Аллеганы, построить базы-форты и закрепиться на них, подготовив плацдарм для грядущего вытеснения врага из его укреплений на Алегейни.
Посему войска разбили на несколько эшелонов. С теми, что были под рукой, Вашингтон предполагал идти вперёд и строить форты. Остальным следовало подтягиваться по мере готовности.
По сути, очень логичный план. Однако он мог быть успешен только в одном случае: если пронырливые французы не раскусили его и не попытались контратаковать, разбив выдвигавшиеся отряды по частям.
(Последствия такого поражения могли стать катастрофическими. Вопрос стоял не только в занятии целой области – вопрос стоял в поддержке многочисленными аборигенами Дальнего Запада той или иной стороны. Впрочем, времени для раздумий у Вашингтона особо не оставалось).
В конце зимы 1754 года воинство из 185 человек при 3 орудиях выступило в дальний поход. Ядром его являлась вирджинская милиция.
Спустившись в долину реки Мононгахела, Вашингтон отправил передовые силы из 42 человек строить форт при слиянии с Алегейни (на пресловутом «перекрёстке»). Они начали там сооружение форта, строившегося по общему для ранних колонистских войн стилю: высокий частокол, окружавший приземистый блокгауз-дом. Весьма хлипкое укрепление, неспособное выдержать серьёзное нападение.
Французы, чутко воспринявшие данное покушение на считавшуюся ими уже своей территорию, отреагировали быстро. 16 апреля 1754 года целая армия из трёх их фортов к югу от Эри с оравой привлечённых индейцев (всего, по некоторым данным, до 100 человек канадцев и столько же дикарей) появилась под стенами нового укрепления. Вирджинский отряд быстро капитулировал 17 апреля, отбыв на соединение к Вашингтону.
Возведённое вирджинцами сооружение оказалось быстро снесено французами как совершенно непригодное к обороне. На его месте Контрекёр тут же начал строительство своего более мощного форта (названного по имени действовавшего генерал-губернатора Канады Дюкеном).
Вашингтон, находившийся в Уилл-Крик на западных склонах Аллеган (будущий форт Камберленд), быстро оценил ситуацию. Оставив в Уилл-Крик горсть своих людей, с остальными он продвинулся на 70 километров вперёд, на запад в сторону плантации Гиста, и, не доходя до последней, начал в противовес французам сооружение укрепления, названного им Несессити («Необходимость»). До его оппонентов в Дюкене в 100 километрах на северо-северо-западе оставалось (по прямой) менее 100 километров.
Французы в Дюкене отнюдь не бездействовали. Контрекёр, находившийся там, тут же разослал разведчиков на восток и юг с целью установить расположение отряда Вашингтона (видимо, вирджинские капитулянты ничего толком ему не сказали).
Разведчики вскоре вернулись, вскрыв дислокацию отряда противника. Контрекёр тут же оказался перед дилеммой: оставить Вашингтона в покое или попытаться надавить на него, освободив оспариваемую территорию. Канадский командующий выбрал второе.
23 мая 36-летний офицер Жюмонвилль с партией из 32 человек (включая барабанщика и переводчика) отправился к местечку под названием Грейт Медоуз, где окопался Вашингтон в своём Несессити. Он вёз с собой ультиматум с требованием оставить земли Огайо французскому королю и решить дело миром.
Об этом стало известно Вашингтону, который с передовым отрядом из 75 бойцов находился возле плантации Гиста, чуть западнее Несессити. Взяв с собой отряд из 40 вирджинцев, он отправился навстречу Жюмонвиллю. По дороге к нему присоединилось от 20 до 30 индейцев племени сенека…
Дальнейшее стало причиной шести с лишним лет кровопролитных сражений на американском материке, перекинувшихся в жесточайшую Семилетнюю войну в Европе. Оное же надёжно легло пятном позора на репутацию будущего командующего Континентальной армии…
Партия Жюмонвилля двое суток стояла у скалистого кряжа в 8 километрах от Вашингтона. По версии самого 22-летнего американского подполковника, французы собирались атаковать, но факты говорили другое. Жюмонвилль ждал реакции противника для проведения переговоров.
Вместо этого 28 мая Вашингтон внезапно подкрался и также неожиданно атаковал, устроив засаду. В ходе 15-минутной перестрелки 1 вирджинец погиб и 1 оказался ранен, французы потеряли, по разным данным, 9-10 человек убитыми; также 20-21 канадец был взят в плен (ещё кое-кто сумел убежать и сообщить своим).
Рядовая, в общем-то, стычка имела колоссальный эффект. Когда новость о нападении дошла до Дюкена, весь гарнизон горел жаждой мести за погибшего Жюмонвилля. Когда известия достигли сперва Квебека, а после – Парижа, все заголовки газет пестрили передовицами об «убийце Вашингтоне».
Вашингтон в спешке вернулся в Несессити и принялся укреплять форт. За 5 дней был построен круглый частокол (оказавшийся слишком маленьким, не закрывавшим весь периметр и, как следствие, совершенно бесполезным в итоге) и палисад.
29 мая он писал Динвидди, оправдываясь за совершённое преступление (как не крути) и выставляя французов хищниками, а себя – жертвой. 9 июня 1754 года к нему подошли подкрепления, остатки вирджинского провинциального полка, доведя численность подчинённых ему сил до 293 штыков. 1 июля прибыла последняя подмога из 100 человек, Независимая рота из Южной Каролины под началом капитана МакКея, после чего у Вашингтона стало порядка 400 бойцов.
(МакКей, как королевский офицер, саботировал приказы колониста Вашингтона. Тем самым, он вносил ещё большую путаницу в непростое положение форта).
Но оказалось уже поздно. В Дюкен уже шла подмога из Канады во главе с прославленным в кампаниях 1744-1748 годов Кулоном де Виллье – братом погибшего Жюмонвиля, горевшим жаждой мести.
26 июня 1754 года де Виллье (50 канадцев и порядка 100 индейцев) с конвоем с припасами прибыл в Дюкен из Ниагары. Соединившись с главными силами Контрекёра и отдохнув несколько дней, оба французских командира разработали план атаки…
28 июня наступление началось. В отличие от расхожих стереотипов, «бледнолицых» в армии французского короля было, по-видимому, совсем немного, порядка сотни человек. Главную ударную силу составили союзники-индейцы, как прибывшие с де Виллье, так и присоединившиеся в долине Огайо (всего – в пределах 300 краснокожих, по информации одного из солдат Вольных рот).
1 июля, присоединив ещё один отряд индейцев (совокупные силы достигли 450-500 человек), де Виллье оставил лодки и двинулся на Нессесити «сухим путём». Здесь его достигли слухи от разведчиков, что 20 человек уже дезертировали из армии Вашингтона (это были индейцы-сенека Полу-Короля).
3 июля, оттеснив в стычке разведывательный отряд Вашингтона из 50 человек, де Виллье стремительно подошёл к Несессити с севера. Его маленькое войско после неудачной попытки взять вражеский форт с ходу обтекло укрепление с востока и с запада и заняло позиции на лесистых холмах, скрытое зарослями. Внизу на открытой поляне, на небольшом возвышении, противник в Несессити готовился к бою.
И вот здесь-то выяснились все недостатки конструкции Несессити. Круглый частокол и дом за ним физически не могли вместить четыреста оборонявшихся людей и достаточное количество провизии для них.
Вместо этого вирджинцы и южнокаролинцы заняли позиции за вырытым вокруг форта палисадом с окопами (на две трети незавершёнными), спрятаться за которыми было невозможно. Тем самым, они оказались на виду на открытом месте. Канадцам с индейцами с их старыми гладкоствольными кремнёвыми ружьями, способными бить прицельно максимум на 100-200 шагов (многие из которых, особенно канадцы, правда, являлись профессиональными охотниками или солдатами), этого оказалось достаточно.
Примерно в 11:00 битва началась. Прячась за зарослями, используя ветки и коренья в качестве упора, канадцы с союзными им индейцами целый день методично выбивали англичан с безопасного расстояния.
К утру следующего дня, когда Вашингтон вынужден был пойти на переговоры, у него уже числился 31 человек убитым и 70 – ранеными. После недолгих препирательств, Вашингтон и де Виллье встретились в шатре последнего. Здесь они выпили горячительные напитки и согласовали текст капитуляции.
(Правда, переводчик Ван Браам с британской стороны плохо знал французский язык. В результате текст соглашения оказалась коварным образом вкраплена фраза о том, что американцы полностью признавали свою вину за убийство Жюмовилля при Грейт-Мидоуз).
Противник американских колонистов, прятавшийся за лесными дубравами, потерял 3 убитыми и 16 ранеными.
4 июля 1754 года, за 22 года до провозглашения независимости США, будущий отец-основатель этой страны, а тогда – 22-летний подполковник колониальной армии (о, какая ирония!) Джордж Вашингтон взорвал Нессесити и повёл свои потрёпанные силы в Вирджинию. Французы не преследовали их, и битые американские провинциальные части в середине июля, перевалив через горы, достигли родины. Кампания 1754 года в Огайо завершилась.
(Де Виллье, по сути, мог ещё избивать гарнизон ещё несколько дней, после чего принять сдачу. Однако припасы сторон были ограничены, да и французу явно была дана установка не доводить до крупной войны и стремиться определить позицию «мстящей за вероломное нападение» стороны).
Маленькая спонтанная кампания 1754 года закончилась. Ресурсов для дальнейшего наступления у де Виллье не было.
Основная часть его силы составляли индейцы. Они после одержанной победы спешили разойтись по своим вигвамам праздновать успех, а запасы еды и боеприпасов оказались взяты в обрез. К тому же, вторжение через Аппалачи могло иметь непрогнозируемые политические последствия.
2.3. Брэддок.
Новость достигла Европы быстро. В 18 веке посыльный быстроходный парусник мог пересечь Атлантику (при попутном ветре) меньше чем за месяц. Как следствие, уже к осени 1754 года в столицах двух колониальных империй знали, что же произошло в далёкой глуши в Огайо.
Сперва французы (со слов посыльных от Контрекёра) проведали об «убийце Вашингтоне». Потом англичане в Лондоне (согласно показаниям битого вирджинского плантатора-военачальника) услышали о «вероломном нападении на Несессити». Затем в Париже (по итогам «осады» Несессити) изложили свою версию событий от Контрекёра, теперь уже помноженную на подписанную Вашингтоном капитуляцию.
Ещё в сентябре 1754 года секретарём Генри Фоксом оказались набросаны наметки той стратегии, что была принята в кампанию 1755 года: наступление растопыренными пальцами по четырём направлениям. В ноябре 1754 года некто Уильям Питт, будущий отец тотальной войны против Новой Франции в 1757-1760 годах, утвердил данный план при посредничестве высших должностных лиц.
(Закрепление «американских ястребов» в высших эшелонах власти в Британии привело в итоге к капитуляции в сентябре 1760 года окружённых остатков канадской армии Леви в Монреале. Безусловно, интересной, но не самой выигрышной стратегии. Удар главной мощью по французским Сахарным островам на Антилах мог принести куда как более значительные дивиденды).
План, по сути, представлял собой осторожное (чтобы, не дай Бог, не принести войну в Европу!) вытеснение противника со всех спорных территорий и из не конвенционных фортов: в Огайо, на Онтарио, Акадии и на Шамплейне. Привести положение вещей к знаменателю Утрехтского мира 1713 года – вот как видели план разработчики.
Основанное преимущественно на местных ресурсах наступление разрозненными силами на отдельных направлениях. Каждый такой удар имел свою отдельную задачу. Для цементирования вторжения намечалась посылка двух однобатальонных полков генерал-майора Брэддока из Ирландии, роты Королевской артиллерии и формирование двух таких же полков на местах, из колонистов.
В колониях считали иначе. Человек, который фактически организовал взятие Луисбурга в 1745 году, массачусетский губернатор Уильям Ширли грезил о вторжении прямо в Канаду.
(Армии должны были соединиться прямо под Монреалем, считал Ширли. Грозный северный сосед должен бы перестать быть бастионом, несокрушимым в глазах отдельных категорий американцев. То, что такой подход может привести к большой войне, особо и не думали (по опыту прошлых войн), но даже если и так – почему бы и нет, ведь Тринадцати колониям это выгодно).
Из названных переплетений интересов и родилось то, что стало кампанией 1755 года. Явлением неоднозначным и отнюдь не бесспорным, предвестником большой всемирной войны.
Армия Брэддока состояла в общей сложности из 1100 солдат. Каждый из двух полков, расквартированных в Ирландии, насчитывал по 350 штыков. Включив в их состав контингенты других подразделений, численность довели до 500 бойцов в каждом.
14 января 1755 года Брэддок под эскортом из 2 линейных кораблей и 4 фрегатов отплыл из Корка в Ирландии. Путь его лежал через океан в Северную Америку.
О Брэддоке известно мало. В 1755 году ему было около 60 лет, с 25 лет он служил в армии, начав в гвардии, и в кампании 1744-1748 годов сражался в Нидерландах. В 1754 году он получил звание генерал-майора и с ним отправился через Атлантику.
Ничем примечательным этот человек, по сути, не выделялся. В Америку послали абы кого, в колонии на непрестижную должность (чему сам новый главнокомандующий в Новом Свете вряд ли был особо рад).
Генерал отличался непростым характером. Он был неуживчивым, тщеславным, амбициозным, высокомерным человеком и, соответственно, не очень подходил на роль командующего и администратора того непростого театра военных действий, который ему выделяли. Здесь требовались талант дипломата и определённая гибкость, качества, которыми Брэддок не обладал ни в коей мере.
Фраза: «С этими солдатами я дойду хоть до Монреаля» также принадлежала ему.
Брэддок был профессионалом европейской войны – но не американской. А здесь имелась своя специфика, ему, ветерану кампаний 1710-1713 и 1744-1748 годов, незнакомая.
Прежде всего, Брэддок сильно недооценивал местный элемент. Тех же колонистов он откровенно презирал и не стеснялся говорить им об этом в лицо, колониальные офицерские звания (всех этих «доморощенных» полковников и генералов) не воспринимал вовсе. К индейцам генерал относился с максимальным пренебрежением, проигнорировав их главные достоинства – разведку и боевое охранение колонн на марше.
За что в итоге и поплатился. Проведённая им кампания надолго стала в Тринадцати колониях символом провала при большом количестве задействованных ресурсов).
20 февраля 1755 года Брэддок высадился в Хэмптоне в Вирджинии (не самом удачном месте для высадки, из-за удалённости места) и, после недолгих размышлений, повёл своих ирландцев вверх по Потомаку. Путь его лежал в пенсильванскую Александрию, где заседал военный совет колоний. Здесь планировалось довести численность батальонов полков до 700 штыков и подготовить материальную базу для грядущего вторжения.
(Штат полков был более 1000 человек с офицерами. 700 солдат определил сам Брэддок после первого знакомства с колонистами, которых охарактеризовал, как ленивую индифферентную массу)
Тот факт, что ирландцы были закоренелыми католиками, а набирать предполагалось протестантов, особо никого не смущал. Стоит отметить, что Брэддок всё же попытался компенсировать конфессиональные противоречия, мобилизуя англичан-католиков в Мэриленде и отводя новобранцев в отдельные подразделения.
(Туманный Альбион вообще любил посылать не самые лояльные части за океан восвояси, подальше от дома. Тех же ирландских католиков, вечно неспокойных горцев-шотландцев, строивших свои батальоны и полки по клановому принципу, «героев» восстания 1745-1746 годов. Так лондонский королевский двор избавлялся от сепаратизма на островах метрополии).
Между тем как (ещё до прибытия Брэддока) представители 12 из 13 колоний (без Джорджии) совещались. Это была первая их ассамблея, достижение Бенджамина Франклина, ею они стремились воспользоваться каждый по-своему.
Массачусетс в лице Уильяма Ширли ратовал за решительное нашествие на Канаду. Губернатор самой северо-восточной колонии уже имел перед глазами секретный план Фокса-Питта, и потому стремился выжать из него по максимуму. Он пока ещё не начал формировать подотчётные ему полки (получивший номера 50-го и 51-го Пеших), но уже ожидал от новой войны многого (например, общего похода на Монреаль).
В его лице амбициозный и нетерпеливый (несмотря на возраст) Брэддок мог встретить единомышленника. Как и в лице вирджинского губернатора Динвидди, игравшего существенную роль в утверждении военного бюджета южных колоний.
В этот котёл противоречий прибыл и погрузился Брэддок, появившись в Александрии во главе своих 44-го Халкета и 48-го Данбара Пеших полков, шедших под развёрнутыми знаменами. И сразу оказался вовлечён в местные колонистские интриги. Они ему, как человеку военному, сразу не понравились.
Во-первых, как оказалось, разворачивавшаяся война с французами и индейцами (название, которое закрепилось позднее) стала скорее средством обогащения, чем формой патриотического подъёма для местных жителей. Американские торговцы тянули время, не спешили выполнять государственные контракты, старались обмануть и выскрести свою монету…
Так, Брэддок надеялся получить 2500 лошадей и 200 фургонов из Вирджинии и Мэриленда – но получил только 200 животных и 20 транспортных средств. В итоге всю потребную матчасть (146 недостающих повозок и 510 голов гужевого скота) английскому командующему доставили из Пенсильвании, благодаря деятельности Франклина, ставшего главным интендантом готовившегося похода.
Во-вторых, обитатели заокеанских владений Великобритании совсем не торопились записываться в войска. Вербовка в полки бригады Брэддока шла с огромным скрипом. Тем не менее, в итоге запланированные Брэддоком лимиты оказались даже превышены и в полках вместо потребных 1400 человек оказалось к 8 июня 1755 года порядка 1600 офицеров и солдат (включая, правда, больных).
Развёртывание группировки вторжения производилось, пусть и медленными темпами. Из колонистов Вирджинии, Мэриленда и Северной Каролины оказался сформирован провинциальный полк, насчитывавший, согласно расписанию самого Брэддока, 571 бойца (не считая слуг и сопровождающих), включавший 8 «рейнджерских» и 2 «плотницкие» роты (согласно своеобразной терминологии самого Брэддока). Пополнялась артиллерия и боеприпасы, из регулярных частей колоний в лагерь Брэддока прибыли Независимые роты Южной Каролины (уже участвовавшая в походе Вашингтона) и Нью-Йорка (всего – 240 офицеров, унтер-офицеров и рядовых).
Помимо названных отрядов, в распоряжении Брэддока имелась рота Королевской артиллерии капитана Орда (92 пушкаря, включая гражданский персонал) и 36 моряков королевского флота лейтенанта Спинделоу. Артиллерия составила 29 орудий, в том числе 4 двенадцатифунтовых, 6 шестифунтовых орудий, 4 восьмидюймовых гаубицы и 15 малых мортир Кухорна (калибра 112 миллиметров). Всего Брэддок располагал к 8 июня 1755 года армией из 2650 комбатантов (в том числе 1600 человек из 44-го и 48-го полков), из них 45 верховых рейнджеров (включая 8 вестовых), не считая 300 лиц невоенных специальностей (тех же вагонеров – погонщиков скота и фургонов, – а также слуг, женщин и маркитантов).
Организация у войск вышла следующая. Артиллерия, моряки и конные рейнджеры находились в непосредственном ведении Брэддока, прочие части были сведены в две бригады на основе двух линейных полков: к батальону каждого как сильному пехотному ядру прикреплялось по 3-4 роты рейнджеров, по Независимой роте и по роте плотников.
Это было что-то вроде прообраза амальгамы, изобретённой Леви спустя 5 лет в находившейся на последнем издыхании французской Канаде. Однако в американских колониях подобное нововведение так и не получило своего развития, а прикреплённое к регулярным войскам ополчение служило скорее рабочей партией, чем боевым составом. Хотя Брэддок размышлял об организации боевого охранения в походе силами «рейнджеров» и предполагал их использование для организации засад и разведки – его личное невысокое мнение о своём колониальном контингенте и о «индейских методах» войны не способствовали реализации этих планов.
С индейцами-аборигенами вышел полный конфуз. Отряд краснокожих воинов из Южной Каролины так и не пришёл, былые союзники-ирокезы тоже не стремились воевать на стороне английского короля. Колонии не выделили средств на привлечение индейских отрядов, Каролина не стремилась отпускать «своих» чероки и катавбе, а ирокезы ни в коем разе не полагали выступать вместе с чероки, которых считали нарушителями «договора» – в итоге не пришли ни те, ни другие.
В итоге к экспедиции присоединилось только 8 человек из минго во главе со своим вождём Скаруди. Стоит отметить, правда, что для разведки хватило бы и этого: и Дискау, и Джонсон спустя месяцы на озере Джордж, имея толпы союзных индейцев, обходились для обсервации группками следопытов по 3-4 человека. Тем более что у Брэддока имелось достаточно лёгких войск, чтобы компенсировать недостачу аборигенных.
Джордж Вашингтон, после поражения при Несессити едва не ушедший в отставку, сделал всё возможное, чтобы попасть в ряды собирающейся армии, и в итоге оказался определен в адъютанты Брэддока. Он был в ужасе. На все предложения попытаться набрать больше индейцев британский командующий в свойственной ему высокомерной форме ответил отказом, мотивировав это тем, что и так было затрачено уже слишком много времени.
(Вообще отношения Брэддока и Вашингтона достаточно многолики. Вашингтон был впечатлен британскими войсками из метрополии и очень желал чина полковника британской армии, что ему Брэддок обещал по результатам похода. Основные высказывания Вашингтона о плохом планировании относятся ко времени после поражения. В ходе подготовки он, рассчитывая на чин в британской армии, не сильно настаивал на своих предложениях).
В конце марта, не закончив сосредоточение, караван войск и фургонов из Александрии медленно пополз в сторону гор берегом Потомака. Брэддок очень спешил, мечтая сокрушить французов в Огайо до конца лета. То, что ему могло потребоваться банально больше войск и лодки для сплава к Дюкену, как-то не приходило генералу в голову.
10 мая войска, срезая забиравшую к северо-востоку петлю излучины Потомака, перевалили через горы Уилла (отрог Аппалачей). Здесь они достигли возведённого Вашингтоном в прошлом году форта Уилл-Крик, тут же переименованного Брэддоком в Камберленд.
Гарнизон форта оказался слаб, жил в страхе перед нашествием диких орд из подножия гор, его артиллерийский парк составлял всего 10 лёгких пушек.
Здесь и остановились, на три недели. Брэддок усилил гарнизон форта на 50 человек за счёт служак 48-го Пешего полка и разбил здесь свой лагерь. Целый месяц он подтягивал отставших, тащившихся через горный хребет, подвозил припасы и ждал артиллерию, которая завязла на ухабах неважной горной дороги.
Впереди лежала таинственная страна Огайо. Туманное место, где, за лесами и реками, армию вторжения ждали французы.
29 мая авангард майора Чэпмена из 600 военнослужащих при 50 повозках выступил на запад. Его задачей была разведка и обеспечение маршрута движения главных сил.
Брэддок с главными силами по-прежнему стоял в Камберленде, поджидая орудийный наряд. Узнав, что Чэпмен на марше столкнулся с многочисленными логистическими трудностями (которые вскоре ожидали и основную армию), он решил усилить его 300 своими людьми. Эти отряды использовались как инженерно-саперные или, в соответствии с традициями тех времён, пионерские: прокладывали дорогу, используя фашины.
10 июня главное войско, за вычетом гарнизона Камберленда (250 штыков) и примерно 200 больных на карантине, оставленных в форте, наконец выступило в поход на Дюкен. Их ждала самая трудная экспедиция из всех возможных.
Общая численность каравана достигала 2500 человек. Из которых только две трети (1600 шедших в огромной колонне и 900 лошадей) составили те, кто непосредственно двигались с Брэддоком и Данбаром позади.
(Прорубаемая дорога оказалась слишком узкой, чтобы вместить всю массу людей и повозок. Войска растянулись на многие километры, скорость продвижения составляла от двух до семи километров в сутки. То, что в месте пересечения с реками Брэддок не перегрузил часть поклажи на лодки, которых у него не было, по примеру соперников-французов, можно было поставить в вину британскому командующему).
Стоит отметить, что поначалу (по тракту, построенному Чэпменом) движение проходило быстрее. Отряды достигли Грейт Медоуз и пепелища на развалинах Несессити уже 25 июня (3000 человек при 14-15 орудиях, как предполагали французы), сумев пересечь два больших потока (в том числе Йохогани, правый приток Мононгахелы, в месте, где над этой рекой сходились утёсы горного кряжаЛорел и она очень сильно сужалась и мелела).
Дальше (когда войска собрались в одну большую массу) продвижение замедлилось. Фактически, оставшиеся 70 километров до Дюкена армия шла почти две недели. 28 июня она вторично форсировала приток Мононгахелы Йохогани, оказавшись на подступах к Дюкену 8 июля.
Часть артиллерии пришлось вернуть (не смогла пройти по узкой просеке между буреломами), как и некоторое число сопровождавших её людей. Однако остальные, за вычетом многочисленных дезертиров, продолжили движение.
Повторяя сказанное ранее: марширующие войска не в полной мере воспользовались особенностями местности. Из-за множества поперечных водных преград (и труднопроходимых водоразделов между ними) оптимальнее было бы от Грейт Медоуз продвинуться дальше на запад, к Мононгахеле, где перегрузить всю амуницию и людей на плоты и лодки и дальше за 3-4 суток сплавиться до впадения Йохогани. Река Мононгахела судоходна от самого впадения реки Чит чуть выше названного места, практически не имела порогов на всём отрезке пути до слияния с Алегейни и, соответственно, обладала нужными преимуществами как водная транспортная артерия.
К тому же, уровень воды, из-за отсутствия вырубок лесов и промышленного воздействия, в 18 веке был куда выше. Однако британцы так и не прибегли к названной специфике ландшафта Огайо.
2.4. Передислокации французов.
В Квебеке догадывались о грядущем наступлении врага на Огайо. Помимо запасов из провизии и лодок, созданных на всём пути движения войск через Онтарио, Эри и верховья притоков Огайо, осенью 1754 года был разработан план усиления военного присутствия в долине этой реки.
В начале 1755 года в Огайо была отправлена партия из более чем 600 регулярных солдат и ополченцев под началом офицера корпуса канониров-бомбардиров Шарля-Жозе Бонена, автора известных записок за подписью «Жоликёр». 17 февраля эти силы покинули Монреаль и, двигаясь на снегоступах, а также волоча на санях припасы, начали свой знаменитый, достойный песни трек на запад. 5 марта, после 16 дней похода, ночуя в вырытых снежных ямах, обладавшие звериной выносливостью северяне Бонена достигли Фронтенака.
Здесь они перегрузились на лодки и спустя 10 дней прибыли в Ниагару, промежуточный пункт следования в Огайо, место перевалки грузов сухим путём между Онтарио и Эри возле знаменитого водопада. Здесь они оставались совсем недолго и, передыхая и набираясь сил.
Отсюда они отправились в Прескиль. В Прескиле Бонен, у которого в отряде было много больных, оставил почти 300 человек (всех небоеспособных плюс усиление для гарнизона форта), а остальных повёл в Лебёф. Миновав и этот форт, а также более южный Машо, отважный воин 8 апреля с триумфом прибыл в Дюкен, сильно увеличив количество защитников его цитадели.
В общей сложности зимний поход занял 50 суток от Монреаля. В итоге численность французских войск от Ниагары до Дюкена достигла 1082 человек морской пехоты и милиции, а также 200 индейцев-католиков из долины реки Святого Лаврентия, не считая примерно 500 местных индейцев, собравшихся летом под стенами Дюкена. В общей сложности 617 канадцев и 100 краснокожих дикарей-христиан из них составили подкрепления, сосредоточенные в фортах южнее Эри, от Прескиля до Дюкена.
Кроме того, среди прочих 20 апреля 1755 года в долину Огайо из Монреаля отправился новый командующий, капитан Даниэль-Льенар де Божё, «звезда» легендарного рейда на Гран-При в Акадии в 1747 году. Он сопровождал конвой из 13 лодок с тоннами амуниции и прибыл в Прескиль в начале июня, где получил известия от Контрекёра о том, что огромная 3-тысячная армия англичан перевалила через юго-восточные горы и на пути к Дюкену.
(Все канадские полевые командиры были капитанами. Просто один из них становился «старшим» в зависимости от назначения, подобно маршалам в праматери-Франции).
Между тем как в Дюкене готовились к отражению британской агрессии. Покуда всё новые подкрепления из Канады вливались в оборону Огайо, всё ещё не сменённый Контрекёр развил бурную деятельность.
Новости о концентрации британских войск в Уилл-Крик на сходе с гребня Аппалачей оказались получены ещё в середине мая от английского перебежчика. Вскоре прибыли соответствующие подтверждения.
Уже 18 мая Контрекёр писал Божё, более-менее точно определив численность вражеских полчищ: три тысячи человек. 8 июня подтвердились сведения о том, что армия противника уже находилась на марше (оперативно, с учётом дистанции и пересечённого характера местности). В тот же день вперёд была выслана партия из 60 индейцев и 11 кадетов Вольных рот морской пехоты для наблюдения за перемещением колонны противника.
Одновременно приказом губернатора Дюкена (узнавшего о накоплении английских сил в устье Осуиго) от 5 июня Кулон де Виллье снялся со своих позиций и отправился к Ниагаре. Его отряд насчитывал 200 канадцев и 70 дикарей: с такой подмогой гарнизон форта у подножия знаменитого водопада достиг 300 человек.
Между тем к стенам форта Дюкен начали прибывать каноэ с воинами от всех племён Дальнего Запада, от Мичигана до Луизианы и Канады: осейджи, отава, одживбе, саки, фоксы (несмотря на две войны фоксов), потаватоми, вейандоты, майами, шауни, делавары, гуроны Лоретт (крещёные), ирокезы Огайо (минго), сенеки (можно отнести к минго), ниписсинги, миссиссаги, «французские ирокезы» канавага и Двух гор. 16 июня Контрекёр встретился на переговорах с их вождями с предложением «присоединить свои томагавки в войне против английских отцов».
Эти слова не были услышаны. Сотни прибывших индейцев ничего не ответили, но и не уходили, расположившись шумным табором вокруг французского форта. Их устрашающие предводители в племенной боевой раскраске заняли выжидательную позицию.
Наконец, в Дюкен прибыл новый командующий Божё. Его сопровождал герой рейда на Мемеску, юный вождь оттава Шарль Ланглад, а также колониальный офицер Дюма.
Приезд этих троих в корне поменял ситуацию. В то время как британская армия на юго-востоке боролась с природой, форсируя один горный поток за другим и штурмуя всё новую лесистую гряду, эта троица своей деятельностью сумела переломить настроения индейских контингентов в свою пользу.
К июлю общая численность канадских отрядов в Дюкене достигла порядка 350 человек (в том числе свыше сотни регулярных солдат). Индейцев, окружавших небольшое приземистое сооружение, было почти вдвое больше.
Британцы приближались, и 8 июля армия Брэддока, срезая излучину Мононгахелы, форсировала реку всего в 20 километрах от форта. На подступах ко второму броду, её заметили разведчики Божё. То, что враг уже рядом, узнали в Дюкене в считанные часы.
Надо было действовать. Вскочив на бочку, колониальный офицер Дюма (второй или, после прибытия Божё, уже третий в иерархии командования) разразился по отношению к собравшимся вождям проникновенной речью.
Он сумел найти такие слова, надавить на такие струны, что предводители племён дрогнули и решили присоединиться. Затем последовало обращение к канадскому гарнизону. Вызвались идти почти все.
Это решило дело. Наконец мотивированная армия (108 морских пехотинца из Вольных рот, 146 канадских ополченцев и 637 союзных индейцев), 9 июля в 8:00 выступила на восток навстречу переправлявшимся у дома Фрейзера британцам. Навстречу вставало солнце…
Ещё 100 человек, уклонившиеся и больные, остались с Контрекёром в гарнизоне Дюкена, не приняв участия в битве. Они почти не услышали звуки стрельбы, разгоревшейся в глуши, в распадке за лесистыми холмами в нескольких километрах отсюда.
2.5. Мононгахела.
Примерно в 25 километрах от устья притока Йохогани, Мононгахела круто меняла направление с северо-западного на северо-восточное и затем на западное, формируя широкую дугу. Чуть ниже она сливалась с водами Алегейни, образуя Огайо.
Здесь, у истока Огайо, находилась «стрелка», на острие которой и был расположен форт Дюкен. Путь к форту пролегал через серию перемежавшихся холмами поросших лесом долин, типичный пейзаж Аллеганского плато. В 13 километрах выше по течению Мононгахелы (по прямой от устья – река изрядно петляет) в местечке, известном как «дом Фрейзера», реку шириной порядка 300 метров можно было форсировать по имевшемуся здесь броду.
Ещё 18 июня, устав от тяжелой борьбы с непроходимым Аллеганским плато, Брэддок принял решение, ставшее в итоге роковым. Он решил пойти вперёд с частью сил, чтобы атаковать Дюкен или занять позиции под фортом до подхода обоза и осадного парка.
Всего для операции выделялось, по данным самого Брэддока и некоторых других участников похода, 1200 человек регулярных войск. Эти войска состояли из авангарда подполковника Гейджа численностью 400 штыков и главных сил полковника Халкета вместе с самим Брэддоком (ещё 800 бойцов – обе гренадерские роты, 500 солдат прочих подразделений 44-го и 48-го Пеших полков, отряд моряков, артиллеристы и 18 конных рейнджеров Стюарта). Они имели запас провизии на колёсах на 35 суток и 13 из 29 орудий.
(Более поздние подсчеты предполагали, что Брэддок располагал в передовых силах несколько большими силами, а именно 86 офицерами и 1373 унтер-офицерами и рядовыми, всего 1459 военнослужащими. Это число не включало ещё нескольких десятков погонщиков лошадей и фургонов, сопровождавших армию Брэддока).
Прочие (800 человек, включая некоторые подразделения 48-го и 44-го полков (преимущественно из набранных в колониях), сводную роту Каролины, 3-ю роту Нью-Йорка (вторая входила в состав сил Брэддока) и гражданских лиц) следовали позади вместе с обозом под командованием полковника Данбара. Тем самым, армия, вышедшая из Камберленда в количество 2500 человек разных специальностей и оставившая в форте 450 человек, ослабла примерно на 200 штыков. Из них 128 бойцов Брэддок сам отослал назад, а иные потери пришлись на дезертирство и незначительный урон от стычек с французами и индейцами и утраты от несчастных случаев.
Рещающий марш на Дюкен начался. Полторы тысячи, что шли с Брэддоком впереди, растянулись на 6 километров.
8 июля они достигли первого брода через Мононгахелу, чуть пониже впадения Йохогани.
Здесь решено было разбить лагерь. Наутро Брэддок рассчитывал срезать петлю, дважды перейдя Мононгахелу – сперва у брода перед ним, потом у второго брода, возле дома Фрейзера. Данбар с обозом благополучно застрял в 20 километрах позади, у Брэддока, по его собственным словам, не было времени ждать его тыловую колонну (и сотни отборных солдат, следовавших в ней).
Ещё 8 июня оказались получены известия, что врагов в Дюкене немного, порядка 100 французов и 70 индейцев. Именно это и стало причиной последовавшего затем злополучного разделения сил.
4 июля Брэддок отправил разведчиков-минго в сопровождении уже известного нам следопыта Гиста узнать ситуацию вокруг вражеского форта. 6 июля те вернулись со «скальпом французского офицера» и подтверждением, что врагов в форте немного. 7 июля разведчики также донесли, что обнаружили броды через реку (оба упомянутых на Мононгахеле).
Это ещё раз убедило Брэддока в необходимости атаковать. Со своими войсками он был на подступах к бродам 8 июля, надеялся перейти их 9-го числа и занять позиции вокруг Дюкена 10 июля.
(Вопрос с разведчиками-минго, кстати, интересен, в плане мотивации их деятельности. Тем более что во французском лагере имелось полным-полно их сородичей-сенека, а сами британские минго с началом битвы испарились, как пар).
Выйдя к первому броду вечером 8 июля и заняв прилегающие высоты, авангард Гейджа встретил только «небольшую группу индейцев и канадцев», тут же скрывшихся при его появлении. То, что всего в одном переходе к востоку собралось до тысячи вооружённых до зубов неприятелей, никому в маленькой армии Брэддока даже не пришло в голову. Войска расположились на ночлег.
Наутро 9 июля, ещё до рассвета, «плотники» (те вирджинские ополченцы, которых Брэддок определил в соответствующие роты) начали расчистку лесных завалов и строительство дороги к броду. В 6:00 войска, построившись в одну большую колонну, перешли первый брод и через стоявшую на их пути небольшую гряду устремились ко второму.
Брэддок решил обставить своё появление эффектно. Войска шли, как на парад, под бой барабанов и вой трамбонов. Ярко-красные мундиры с белыми перевязями были хорошо различимы между стволами деревьев.
(Звуки военной музыки тонули в глуши, но оставались хорошо различимы над рекой, отражаясь от зеркала воды. Они полностью демаскировали движение).
В 11:00 войска преодолели второй брод. Форсирование реки (когда войска оставались уязвимы на открытой местности) опять произошло без единого выстрела. Враг словно бы затаился…
Далее началось втягивание походной колонны в лесную чащу. Один за другим, ряд за рядом, солдаты втягивались в колдовские дубравы, нависшие над сенью Мононгахелы.
Порядок движения войск оказался следующий. Впереди шёл авангард Гейджа, за ним, на некотором расстоянии, следовали основные силы Халкета. Обоз, артиллерия и «плотники» Синклера замыкали марш.
По флангам и впереди двигались маленькие группки солдат, образуя разведывательные партии. По ходу движения они всё сильнее сбивались к центру, однако внешнее полукольцо боевого охранения у колонны Брэддока присутствовало.
После долго марша, войска оказались изрядно измотаны. Колонна растянулась по лесу, петляя по узкой и тесной тропе между буреломами и поваленными деревьями, словно бы и не ожидая, что впереди затаился враг…
В отечественных источниках часто писали, что французы-де устроили засаду на холмах по обе стороны наезженной дороги. Однако дороги ещё не было (имелась тропа), а холмы скорее спускались уступами поперёк движения войск, параллельно сбегавшим к Мононгахеле потокам.
На деле, случившееся далее стало скорее встречным боем, с охватом и разгромом британской колонны. Французы физически не могли знать, где точно пойдут англичане (выберут ли тропу или маршрут севернее) и потому двигались на восток плотной формацией (для удобства командования ими). Заслугой Божё можно считать тот факт, что он быстро преодолел 11 километров по лесу налегке, дал сосредоточиться и отдохнуть своим силам, расположив их на склоне на сходе в глубокий распадок, на дне которого звонко шумел ручей.
2.6. Битва.
Около 14:00 конные разведчики (6 всадников) из авангарда Гейджа выявили большую массу врагов, «преимущественно индейцев», поджидавших в 180 метрах выше по склону. Их офицер (это был Божё) был одет как индеец, его войска, заметив британцев, тут же начали растекаться направо и налево для атаки, образуя полумесяц.
Гейдж тут же остановил колонну и забросил подкрепление из центра. Прибывшие две роты гренадеров и 150 прочих солдат он распределил по фронту, образовав боевой порядок (штурмовую линию). Со штыками наперевес, войска прямо через лесную чащу двинулись на приступ.
Канадцы и индейцы встретили наступающих шквальным огнём из-за деревьев, который был «очень тяжким». По воспоминаниям ветеранов, переживших бойню, враг примерно в полтора раза превосходил скромные силы Гейджа, осуществлявшие свой натиск вверх по склону.
(Впрочем, не следовало переоценивать эффективность такого огня. В лесной глуши было не развернуться, дальность выстрелов была ограничена реальной видимостью (по факту – 20-30 шагов), а скорострельность, качество и точность старых мушкетов восемнадцатого столетия оставляли желать лучшего).
Действуя слаженно, вымуштрованные англичане быстро опрокинули противника. Божё был убит, спорадический огонь из-за деревьев начал утихать, примерно 100 канадских ополченцев обратились в бегство.
Дрогнули и индейцы. Их контингенты один за другим, пятясь, начали отход, сражение уже казалось им проигранным. А сзади (примерно метрах в трёхстах) развёрнутую цепь Гейджа уже подпирали главные силы Брэддока…
В этот самый критический момент командование союзными франко-индейскими силами взял на себя Дюма (позднее также отметившийся обороной на реке Святого Лаврентия в 1760 году). Он быстро сориентировался в ситуации и отдал нужные распоряжения.
Хотя сотня дезертиров-таки покинула поле боя и добежала до самого форта, Дюма смог найти выход из ситуации. Сформировав две фланговые партии из офицера и 20 человек каждая, новый канадский командир направил их на охват крыльев цепи Гейджа. Часть войск принялась отходить, заманивая британцев в глубь леса, часть изматывала его фланги, с главными силами Дюма двинулся в обход, нацелившись на тыловые отряды противника и его обоз.
Последнее сыграло решающую роль. Схема боя резко поменялась с учётом «индейской» специфики, хотя британцы ещё не поняли этого.
Наступая в условиях ограниченной видимости (плохо видя то, что творилось далеко на флангах), солдаты Гейджа увлеклись, отчего их построение утратило должную упорядоченность. Понёсший тяжёлые потери центр далеко вырвался вперёд, крылья «провисли» сзади.
К тому же, Гейдж не имел сосредоточенных резервов прямо за фронтом, как в середине, так и по флангам. Вследствие этого его обрётшая облик стрелы линия (местами разорванная) оказалась весьма уязвима для прорывов и обходов. Брэддок же с главными силами (700 штыков) находился позади (300 метров, нужно время только на то, чтобы подтянуть войска), и быстро подойти через чащу не мог.
Между тем как в тылу допустили ещё одну ошибку.
Получив сообщение о развернувшейся схватке, Брэддок быстро направил от 400 до 500 солдат подполковника Бёртона на помощь (ещё более раздробив силы). Сам же с Халкетом и оставшимися 400 штыками остался при обозе (из которого при первых же выстрелах сбежали все вагонеры и часть «плотников»).
В итоге сложилась парадоксальная ситуация. На фронте по центру стройные шеренги гренадеров ломили вперёд, пытаясь настичь исчезавших в чащобе канадцев с индейцами (избегавших вступать в ближний бой), на флангах же у Гейджа собирались тучи. Группы Дюма, после проведённой им перегруппировки, охватывали крылья противника, отчего охотник становился жертвой, а непривычные к партизанской войне линейные части – мишенями для вражеских стрелков.
Это была партизанская схема сражения. Способ боя, неведомый англичанам, в котором участь сражения решала не коллективная подготовка крупных подразделений, а слаженность малых отрядов и индивидуальная выучка бойцов.
Подобного можно было бы избежать, будь у Гейджа изначально больше войск и длиннее линия, а также резервы под боком. Однако англичане вступали в бой поэтапно, отряд за отрядом, это-то и сыграло с ними злую шутку.
Вместо боя в правильной линии баталии, теперь происходило что-то непонятное для солдат из метрополии. Казалось бы, разгромленный, противник вырастал с новыми силами, что было странно. Индейцы оказывались то тут, то там, действуя небольшими группами по 10-20 человек, строившиеся повзводно англичане становились лёгкой добычей.
Вскоре Дюма обошёл Гейджа главными силами (о чём тот ещё не знал). Гигантскими клещами он набросился на не успевшую развернутся и изготовится к бою колонну Бёртона, тянувшуюся тонкой вереницей по лесной тропе.
Несколько сотен солдат Бёртона медленно двигались, отстукивая походный порядок, по тропе к востоку. Неожиданно холмы к северу и югу оказались буквально кишащими орущими дикарями и канадцами в боевой раскраске, выскакивавшими то тут, то там, и ведущими огонь из-за деревьев.
Выжившие вспоминали, что враг был буквально повсюду. Что индейцы, что бледнолицые канадцы в боевой раскраске выскакивали то тут, то там, избивая отряды в красных мундирах с разных сторон. Непривычные к такого рода сражениям, солдаты и офицеры британской королевской армии терялись, без должных распоряжений плохо координировали действия и гибли десятками.
Зайдя ещё дальше вперёд в тыл к противнику, воины Дюма напали на ослабленный обоз англичан. И Брэддок, и его офицеры неожиданно очутились в самой гуще боя, ничего не понимая.
(Полковник Халкет был смертельно ранен. Индейцы с канадцами самозабвенно грабили брошенные фургоны с артиллерией и амуницией и резали метавшихся среди них солдат, лишённых управления. Укрепившись на холме к северу от места боя, Дюма координировал ход сражения, больше напоминавшего бойню).
Теперь весь походный порядок британцев оказался охвачен. Началось истребление.
Далеко впереди, в авангарде, случилось то, что должно было случится. У Гейджа «посыпались» фланги: он пытался это предотвратить, но началась паника, переросшая в беспорядочное бегство. Бегущие спереди увлекали идущих позади, также находившихся под огнём, война превращалась в обыкновенную бойню.
В тылу англичане ещё сопротивлялись. Брэддок, к которому подошёл Бёртон с сотней сохранивших управляемость людей, попытался со 150 своими людьми атаковать пресловутый северный холм, где, подобно демонам, засели его лесные враги.
Он потерпел неудачу (и также оказался смертельно ранен, подобно Халкету).
Было около 16:30, когда начался отход. Отдельные командиры (Гейдж, Бёртон. Вашингтон), собрав вокруг себя не потерявшие боеспособность отряды, принялись выводить своих изнурённых подчинённых с поля боя. Начал отступление и Дюма, потерявший управление сражением (и поспешивший забрать своих канадцев, у которых к тому же заканчивались боеприпасы).
На поле битвы остались одни индейцы. Они весь остаток дня резали раненых, грабили фургоны и снимали скальпы (нередко – с ещё живых: картина была жутчайшая, крики истязаемых оглашали окрестности).
Отходивших британцев не преследовали. Дюма знал, что на подходе ещё одна колонна противника, из примерно 800 человек, что его люди были измотаны битвой и что им к тому же банально нечем становилось стрелять из-за истощения запасов патронов (а индейцы вообще вышли из-под контроля). Теперь новый французский командующий спешил принять меры, изготовившись перед возможной контратакой английских войск.
Потери были существенны. По одним данным, союзное войско потеряло 23 убитыми и 20 ранеными. По другим сведениям, ущерб французов и индейцев оказался даже больше, 30 погибшими и 57 ранеными.
Британцы лишились, по уточнённым впоследствии данным, 63 офицеров и 914 нижних чинов (итого – 977 человек). 456 из них были убиты, часть других – ранена и даже смогла покинуть поле сражения вместе со своими, а некоторые попали к французам в плен, избежав резни.
Кроме того, французы захватили всю артиллерию Брэддока. Все 13 орудий стали достоянием воинов под белыми лилиями. Это был фактор, который ещё выстрелил в последующих кампаниях 1756-1757 годов. Осаждая Осуиго и Уильям-Генри, Монкальм в том числе стрелял по этим укреплениям из тяжёлых пушек Брэддока
Но главный урон выражался не в орудиях, обозе или людях. В руки французов попали бумаги Брэддока, содержавшие инструкции секретного плана Питта-Фокса, предусматривавшие наступление на Канаду на широком фронте.
Теперь стало очевидно, что удар будет нанесён не только в Огайо, но и на Онтарио, озере Джордж и в Акадии. Узнав об этом (а также о том, что остатки армии Брэддока отступали и контратака Дюкену не грозила), Дюма принял ответственное решение. Часть войск (а также раненые и больные) оставалась в Дюкене, главные же силы с захваченными трофеями (и добытыми в бою пушками) выдвигались на север, к Ниагаре.
2.7. Разгром.
Контратака французам и правда не грозила. Разбитые отряды британцев (из которых в строю осталось меньше полутысячи) почти полностью утратили боеспособность. Некоторые из английских военнослужащих удирали так быстро, что преодолели за 30 часов безостановочного марша почти 100 километров (невероятно!), прежде чем остановились.
Сам Брэддок на упряжке из четырёх лошадей въехал в лагерь Данбара рано утром 10 июля. Здесь смертельно раненый генерал приказал уничтожить часть артиллерии (8 мортир Кухорна) и трубить отступление.
Данбар, у которого из 800 человек только 400 составляли регулярные солдаты, подчинился. Масштабы разгрома изрядно преувеличивались беглецами, в британском лагере всё время ожидали нападения. Уцелевшие и присоединившиеся к ним начали отход.
Командующий экспедицией прожил ещё 3 дня. Он скончался 13 июля возле Грейт-Мидоуз.
Последними его словами стали, согласно традиции: «Мы будем лучше знать, как иметь с ними дело в другой раз». Его похоронили возле руин форта Нессесити. Повозки несколько раз проехали по могиле генерала, чтобы скрыть от надругательства со стороны индейцев.
Выжившие (за вычетом дезертиров) собрались 25 июля в форте Камберленд. Их число (вместе с гарнизоном и больными, не принимавшими участия в походе) составило 1946 человек. К августу подтянулось ещё некоторое количество отставших.
Поначалу, как предполагалось, потеряно было 896 человек. Позднее удалось уточнить, что урон достигал 977 человек.
(Следовало отметить, что из той колонны бойцов, которых Данбар в августе увёл в Филадельфию, часть составляли раненые. Из числа линейных полков в строю – то есть, не лежавшими ранеными или больными в карантине, – осталось только 459 солдат).
Потрясение оказалось велико. Никто не ожидал такого разгрома.
Главным выступал пропагандистский эффект. Меньшая по численности, ополченческая армия противника (состоявшая преимущественно из дикарей и не достигшая к тому же сосредоточения – у того же де Виллье в Ниагаре было больше людей) оказалась способна разгромить в лесной схватке первоклассные части британской короны. Это надолго сформировало в южных колониях ореол непобедимости над канадской армией (хотя, будь у англичан больше войск в лесу, развёрнутых в линию, всё могло бы кончиться для сборных войск Божё куда печальнее).
2 августа из находившихся в его подчинении 2000 человек (включая раненых и больных) Данбар взял 1600 штыков (в том числе 459 боеспособных регулярных солдат) и 8 сохранившихся у него орудий и повёл эти силы на восстановление в Филадельфию. В Камберленде остались только вирджинцы, 400 человек, под началом Вашингтона.
Тем самым, на 550-километровом фронте вдоль южных границ образовалась дыра. В неё тут же хлынули воодушевлённые орды краснокожих. Заполыхали пограничные селения.
Напуганная нашествием Вирджиния тут же мобилизовала четыре дополнительных роты и довела численность своих провинциальных войск до 1000 вооружённых мужчин. Но этого оказалось мало: не только многие племена Огайо, но и некоторые прошлые союзники англичан, делавэры и шоуни, обратили против них своё оружие.
Семь военных партий, ведомых французскими военными советниками, пересекло границы Пенсильвании, Вирджинии и Мэриленда и подвергли опустошению земли на глубину в 120 километров. Порядка 100 селян было уничтожено в начале октября возле Камберленда, ещё 240 мирных жителей погибло в Паттерсон Крик, ирокезы сожгли и разорили Тульпехокен (с богемскими эмигрантами) всего в 100 километрах от Филадельфии. Война собрала свою кровавую жатву.
Вашингтон был вынужден в эти дни сражаться. Осенью у него стало 1500 провинциальных солдат американской милиции, но этого всё равно не хватало.
(Битвы велись и в 1756-м, и в 1757 годах. Название «Тру», «Сиделин Хилл», «Грейт Сасапон», «Киттанинг» (места столкновений с индейскими набеговыми партиями) говорили сами за себя. Недаром в 1758 году, когда решено было повторить вторжение в Огайо, южные американские колонии так единодушно вызвались сокрушить «это разбойное гнездо»).
Ошибки Брэддока слишком дорого стоили американским колонистам. Помимо несколько сотен погибших военных, лишились жизни также сотни человек гражданского населения.
Катастрофы можно было избежать, не торопись так британский командующий. Набор в войска к лету 1755 года улучшился. За два месяца Брэддок вполне мог довести размеры только двух своих регулярных полков до штатной численности в 2200 человек.
(Только вирджинцы к декабрю 1755 года набрали в ополчение порядка 2000 бойцов, не считая некомбатантов. С должным образом мотивированными каролинцами, пенсильванцами и мэрилендцами, ротами по 100 человек, что постоянных войск, что милиции, большим отрядом моряков и морских пехотинцев с кораблей, базировавшихся в Ньюпорте, а также индейцами это количество могло стать ещё большим).
С армией в 5000-6000 человек, не разбитой на части, и решёнными логистическими проблемами (тем же сплавом по рекам), английский генерал мог не бояться лесной баталии. Все манёвры и обходы французов такое войско банально парировало бы числом. Иррегулярные силы из Дюкена попросту раздавили бы (чего почти добился Гейдж с авангардом из 700 солдат).
Впрочем, битва при Мононгахеле стала триумфом, самым выдающимся в Новой Франции с давних времён. На данном направлении, самом удалённом, Белая Лилия в 1755 году достигла наиболее впечатляющих результатов начала войны.
ГЛАВА III. АКАДИЯ.
3.1. Страна обетованная.
Второй удар предполагалось нанести в Акадии – на территории современных Приморских провинций Нью-Брансуик и Новая Шотландия в Канаде.
Война за владение Акадией шла с самого начала её появления. Сам топоним этот происходил от слова «Аркадия» (так древние греки понимали рай на земле), однако североамериканская страна обетованная стала ареной многочисленных столкновений. Первые французские феодалы боролись с губернаторами, присланными королевской властью (так называемая гражданская война Ла Тура и д'Оне), французы грызлись с шотландцами, потом басками, потом англичанами.
Причина тому была проста. Если сам край представлял собой довольно бедные, труднопроходимые земли (леса, болота, реки и горы), то гавани Акадии оказывались исключительно удобны для базирования рыболовецкого и военного флотов, а неподалёку находились рыбные банки Ньюфаундленда, кормившие половину Европы.
Первые французские поселения появились здесь в 1604 году. Местность несколько раз переходила из рук в руки, прежде чем в 1633 году не закрепилась за французами. В 1654 году они снова потеряли Акадию и её столицу Порт-Рояль (более правильно Пор-Руаяль, но Порт-Рояль уже утвердился в русском) и спустя 18 лет, в 1672 году (официально процесс передачи колонии прошёл в 1670 году), снова вернули себе эти владения.
Такая постоянная борьба за переходящий приз приводила к тому, что население колонии (куда не успевали прибывать поселенцы) росло крайне медленно. К 1697 году, после очередной войны, в Акадии насчитывалась только 1251 живая душа франкоговорящего населения.
(Для сравнения: в американских колониях Англии тогда же обитала треть миллиона жителей. Во французской Канаде в 1697 году жило 15 тысяч выходцев из Европы и их потомков).
Периодические захваты колонии шотландцами и англичанами (точнее, до начала 18 столетия – новоанглийскими колонистами из Массачусетса) объяснялись просто. Географически Акадия, вернее, та часть, что являлась полуостровом Новая Шотландия, очень трудна для обороны стороной, не имеющей господства на море. Побережье протяжённое и извилистое, разрезанное на квадраты речных долин между спускающимися к морю горными хребтами, сообщение между указанными долинами затруднено пересечённым характером местности.
Соответственно, оборона Новой Шотландии самим устройством мироздания оказывалась изолирована и разбита на части (Новая Франция в миниатюре). С учётом сложности навигации здесь, противник мог сосредотачивать свои силы против отдельных элементов и бить ополчение Акадии по частям, а превосходство британского флота (после войны за Испанское наследство 1701-1713 годов переросшее скорее в господство) решало всё.
Другое дело – территория современной провинции Нью-Брансуик. Эта была природная крепость, аналогичная Нижней Канаде. Залив Фанди (в рассматриваемый период также – Французский залив) очень труден для судоходства (отмели, течения, туманы и ветра, самые высокие в мире приливы – до 18 метров), с запада область ограничена труднопроходимыми Акадийскими горами или плато (которым предшествует болотистый ландшафт Мэна), с хребтом Нотр-Дам к северу (ограничивавшими Акадию до самого полуострова Гаспе и отделявшими её от Канады), удобных мест для высадки на восточном побережье немного.
(Поэтому существовали проекты переселения акадского населения сюда, за перешеек Чинекто (английский вариант – французы говорили: «Шиньекто»), из-под английской оккупации. Важные стратегические проекты, так и не нашедшие претворения в жизнь. Существовала и противоположная идея, изложенная пленным на тот момент Дискау в его «Диалогах с Морицем Саксонским», где он предлагал вообще разменять с англичанами Канаду на Акадию, переселив всё франкоговорящее население на полуостров Новая Шотландия).
Постоянные рейды массачусетсцев на Порт-Рояль в 1680 году привели к тому, что часть жителей вокруг этого городка снялась с места и устремилась на северо-восток. Она двигалась вдоль северо-западного побережья Новой Шотландии и осела в местности под названием Ле Мине («Минас» по-английски или Гран-При) и Бобассен к югу от перешейка Чинекто.
Переселение вкупе со сбалансированностью мужского и женского населения Акадии стимулировало значительное увеличение рождаемости аккадцев, превосходившее даже аналогичные показатели Канады. За время британской оккупации (1710-1754 годы) их число увеличилось как минимум в 6 раз. Для сравнения, в Канаде за аналогичный период население возросло только в 2,5 раза.
В итоге к середине восемнадцатого столетия французское население Новой Шотландии оказалось сосредоточено на внутренней, обращённой к заливу Фанди, стороне полуострова. Оно жило от самой юго-западной его оконечности до перешейка Чинекто.
Акадская общность здесь была разбита на четыре группы, каждая от тысячи до трёх тысяч человек. Акадцы обитали вокруг Порт-Рояля, получившего с 1710 года официальное наименование Аннаполис-Ройал (порядка 1750 душ), мыса Ле-Сабль (современный Ярмут, свыше 1500 жителей), Ле Мине (больше всего, 3000 франкоговорящих) и Бобассена (нынешний город Труро) с эмигрантами, осевшими на перешейке Чинекто (около 1000 обитателей).
Тем самым, до трёх четвертей акадского населения находилось на полуострове Новая Шотландия под контролем британской администрации. Отчего планы Вергора по защите форта Босежур в 1755 году, предполагавшие собрать 1200-1500 акадских ополченцев, выглядели, мягко говоря, сомнительными.
(По данным ресурса statisticcanada на 1752 год население Акадии разделялось следующим образом. На полуострове Новая Шотландия обитало 9300 человек, «на материке» (Нью-Брансуик) – 1550 человек. На 1755 год соотношение изменилось в пользу «материка» – 8200 колонистов на полуострове к 4300 жителям в Нью-Брансуике – видимо, учитывая 2000 лиц, эмигрировавших в Канаду).
Их менее всего коснулась та трагедия, что разгорелась в Акадии в 1755-1761 годах. Центром округи был форт Ля-Тур (современный Сент-Джон). Он выступал в качестве запасной столицы Акадии в связи с утерей Порт-Рояля.
В 1710 году, устав атаковать Порт-Рояль хлипкими силами американских провинциальных ополчений, британцы бросили против него отряд морской пехоты и королевский флот. Мизерный гарнизон капитулировал, по итогам Утрехтского мира 1713 года Акадия стала английской.
В Порт-Рояле разместили постоянную стражу из одного пешего полка (в 1751 году он стал «40-м») из 10 рот. Основу набрали из Независимых рот Нью-Йорка, рядовой состав комплектовался из колонистов, офицеров присылали из метрополии. Штатная численность подразделения составила около 500 человек.
«Мирная» жизнь в Акадии в 1714-1744 годах – тема для отдельного исследования. Нарастание социального напряжения, рост противоречий в провинции определялись тогда рядом факторов.
Во-первых, Утрехтский мир 1713 года неточно определял границы завоёванных подданными Соединённого королевства земель. Лондон понимал под ними всю территорию Акадии вплоть до северо-западных гор, Париж – только область Новой Шотландии с рубежом по перешейку Чинекто (отделявшем Новую Шотландию от современного Нью-Брансуика). Это порождало определённый конфликт в отношениях.
Во-вторых, на землях Акадии издавна жили индейцы микмак. К 1755 году этот народ насчитывал около 3000 аборигенов, которые считались одним из элементов нестабильности в регионе.
(Воины микмак по-прежнему предпочитали нападать на английских поселенцев и солдат и не признавали власть британского короля. Эти настроения активно подогревались наличием иезуитских шпионов-пропагандистов в чёрных сутанах, постоянно навещавших эти края. Оккупационные власти пытались наладить отношения с племенем, заключали с ним соглашения (например, в 1726 году), но всё безрезультатно).
В-третьих, упомянутая агитационная деятельность католических проповедников из Канады. Они призывали местных жителей не признавать власть Лондона, а собственно акадцев – бросать кров, всё нажитое непосильным трудом и переселяться в Канаду.
(Собственно, переселилось немного – всего порядка 2000 человек из 12000 предков нынешних франко-акадийцев, большей частью в 1749-1755 годах. В Канаде они оказались никому не нужны и мыкались в нищете в поисках крова и хоть какой-то работы. Оставшиеся, около 10000 франкоговорящих, не очень спешили следовать их примеру).
В-четвёртых, в 1734 году англичане попытались склонить акадцев под власть своего короля, заставив принести клятву верности. Обряд выполнили не все и не сразу, но этого оказалось достаточно.
(Одним из обвинений губернатора Новой Шотландии Лоуренса во время депортаций 1755-1761 годов стало «клятвопреступничество» выселяемых. Тот факт, что акадцы периодически бунтовали и вели партизанскую войну, а среди индейских воинов микмак почему-то оказывались раскрашенные бледнолицые, оказался достаточным для таких обвинений. Хотя основной причиной, конечно же, выступало желание наконец усмирить беспокойный регион, пусть и такими драконовскими методами).
В-пятых, собственно англичан в Новой Шотландии было немного. В 1726 году, когда закончилась очередная война с микмаками и малисеттами, их насчитывалось порядка 400 поселенцев, в 1743 году стало чуть больше, но ненамного.
3.2. Войны короля Георга и отца ле Лутра.
Долгие годы мира заставили расслабиться англичан в Акадии. Стычки с индейцами не могли компенсировать отсутствие серьёзного противника. Несмотря на определенную напряженность в отношениях с местным населением, существовал термин «нейтральные французы» и в период между 1713 и 1740 годами английское правительство не ожидало в районе крупных потрясений.
Гарнизоны в двух укреплённых местах, Кансо и Аннаполис-Рояле, ослабли. Скучная колониальная гарнизонная служба не привлекала большого числа кадровых офицеров, в рядовом и унтер-офицерском составе также сохранялся некомплект. Весной 1744 года меньше половины полка оказалось в строю.
Это сформировало известный соблазн французов отбить Акадию. В 1740 году новый губернатор Иль-Рояля Исаак-Луи де Форан привёз в Луисбург 800 новых ружей и 40000 ливров для подкупа и вооружения акадских общин.
Начавшаяся весной 1744 года война позволила французам атаковать. В мае того же года два фрегата залпами своими орудий снесли Кансо, неудачно построенное и расположенное, а его охрану увели в плен. Затем началась высадка в Акадии и наступление на Аннаполис-Ройал.
Слабость ресурсной базы, плохая координация атак не позволила французам победить (а Франция из-за океана их своевременно не поддержала). Аннаполис-Ройал осаждался четырежды, в 1744 и 1746 годах, однако безуспешно, а в 1745 году армия колонистов из Новой Англии и Нью-Йорка взяла Луисбург.
Все эти события привели к 17 годам долгой войны и величайшей трагедии в истории Акадии. Край погрузился в хаос войны и разрушения. Сердца пылали ненавистью.
Несмотря на падение Луисбурга, подпитка партизанской войны продолжалась – из Канады. Из Квебека в Акадию прибыл с отрядом командир Рамзе, возглавивший здесь борьбу против англичан.
Он оседлал хребет Босежур, стратегически важную и удобную позицию, перекрывавшую проход через перешеек Чинекто. В сентябре 1746 года отсюда он отправился в рейд к заливу Чебукто (современный Галифакс), надеясь застать там французский флот Анвилля, но опоздал. Затем через горы и весь полуостров Новую Шотландию двинулся к Аннаполис-Ройалу и проосаждал город весь октябрь (безуспешно), после чего вновь ретировался на Чинекто, где организовал постоянную базу для своих операций.
Вдогонку выступил 2-й батальон массачусетсцев Нобла, поддержанный ротой рейнджеров Горхэма. Продвинувшись далеко на северо-восток по берегу Французского залива, американские провинциальные войска заняли городок Ле Мине (Гран-При), где и обосновались на зиму.
Контратака последовала незамедлительно. Рамзе слёг по болезни, но его заместитель, Кулон де Виллье, повёл отряд из 286 канадцев и индейцев. Они и напали на 510 англичан, мирно спавших в своих домах.
Разгрома не произошло (британцы сильно превосходили в числе своих противников, да и сломить их сопротивление не удалось), однако потери оказались чувствительны. После заключённого перемирия, побеждённые отступили в Аннаполис-Ройал, оставив Гран-При победившей стороне.
Мир 1748 года не разрешил акадского клубка противоречий. Даже создание в 1749 году специальной комиссии представителей двух держав не способствовало решению вопроса о спорных территориях. Принадлежность земель за Чинекто (современной провинции Нью-Брансуик) так и не была определена, как и о статус проживавшего здесь франкоязычного населения. Более того, противники продолжили накачивать ресурсами и войсками регион.
(События войны показали, что одного слабого батальона может оказаться недостаточно для удержания своих позиций в регионе. В Британии видные политики забили тревогу. Уже в 1748 году на фоне идущих мирных переговоров государственный секретарь Бедфорд выдвинул предложение переселить в Новую Шотландию целый полк шотландских горцев Лаудона, считая, что таким образом будут решены сразу несколько задач – усилится оборона Акадии и из Европы будут удалены потенциальные смутьяны (горцам не доверяли после восстания 1745-1746 годов).
Предложение Бэдфорда не было реализовано. Но сама важность вопроса о необходимости усиления позиций в регионе оказалась наконец признана).
После возвращения французов в Луисбург (где высадился батальон морской пехоты), британцы в июне 1749 года основали всего в 330 километрах от него крепость Галифакс, базу для своих морских операций и трамплин для нападения на Луисбург. Теперь всего в течение двух суток, выйдя с огромного рейда бухты Чебукто, английский флот мог оказаться в окрестностях французской цитадели и всего за две-три недели – под Квебеком.
Эдвард Корнуоллис, бывший на тот момент действующим губернатором Новой Шотландии в письме секретарю герцога Камберленда Роберту Нэпьеру 6 декабря 1749 г. указал, что одного полка Филлипса и роты рейнджеров недостаточно для сохранения стабильности в регионе. В результате чего в Новую Шотландию была перенаправлена целая бригада (29-й, 45-й и 47-й Пешие полки, рота артиллерии), а также примерно 1000 переселенцев из Англии и Шотландии. Правда, временно переброшенный из оставленного британцами Луисбурга 29-й полк в 1750 году убыл в Ирландию, но два других полка остались в Акадии, заметно усилив военное присутствие Британии в регионе (как уже упоминалось, на всей Северной Америке кроме Акадии, Британия держала только Независимые роты в Нью-Йорке и Каролине).
Эти силы резко изменили баланс в регионе. Более того, поток иммигрантов с Британских островов не прекращался и продолжал прибывать.
Лондон слал на полуостров Новая Шотландия колонистов из числа лояльного элемента (англичан англиканского вероисповедания и протестантов-лоулендеров из англосаксонской Нижней Шотландии). К концу 1749 года в Акадию прибыло 3229 переселенцев, к 1763 году эти число достигло цифры в 13000 англоговорящих.
Конечно, подобное не понравилось ни индейцам микмак (которых враждебные им колонисты уже превосходили в числе), ни акадцам. В регионе вспыхнуло восстание.
Этот конфликт (1749-1755 годов) получил наименование «войны отца ле Лутра», по имени идейного вдохновителя мятежа, представителя французской католической церкви в регионе, проповедовавшего среди индейцев, миссионера Жана-Луи ле Лутра. Взбунтовавшиеся микмаки вместе с примкнувшими к ним акадцами атаковали английские поселения Дартмут, Кансо, Галифакс, Бедфорд и Кантри Харбор, прошлись рейдами по всему северо-восточному побережью Новой Шотландии и по Мэну. Отряды мятежников заполонили Ле Мине и Бобассен, с северо-запада, перевалив Акадийские горы и пройдя речным путём по реке Сен-Жан (Сент-Джон), прибыл с отрядом де Ла Корн, заняв перешеек Чинекто.
В ответ Корнуоллис (разозлённый также ультимативным требованием канадского губернатора Ла Жонкьера не возводить новых укреплённых постов на границе) отправил 100 солдат (две роты) капитана Хандфилда в Ле Мине, чтобы предупредить наступление восставших. В октябре 1749 года, высадившись с моря, тот занял городок и, не успев завершить строительство, вскоре оказался осаждён примерно трёмя сотнями инсургентов в трёх бараках (был деблокирован в январе 1750 года отрядом из 50 рейнджеров).
Рост напряжённости на границе привёл к новым карательным рейдам. В апреле 1750 года в район Бобассена и Чинекто выдвинулся майор Чарльз Лоуренс с большей частью (400 солдатами) 40-го Пешего полка под эскортом фрегата. Был захвачен в качестве приза и отконвоирован в Галифакс французский бриг «Сен-Франсуа» (на его борту якобы нашли груз контрабанды), однако высадка провалилась: Чинекто занимали крупные силы канадцев, а десант в Бобассене снесло течением.
(Согласно Крису Хэнду, население Бобассена было при этом уведено, а сам посёлок сожжен людьми ле Лутра. Всё это дало очередной повод французскому правительству обвинить британцев в эскалации конфликта).
Обстановка накалялась. Перепуганный масштабами восстания, Корнуоллис действовал быстро – и жёстко.
В беспокойную область возле перешейка Чинекто, под самое основание полуострова Новая Шотландия была направлена военная экспедиция. Она включала в себя десант из 700 солдат 40-го и 45-го Пеших полков, усиленных рейнжерами Горхэма и моряками Джона Рауза.
Мишенью для атаки снова был выбран городок Бобассен, где базировался отец ле Лутр, снова окопавшийся на побережье и поддержанный канадцами Ла Корна, занимавшими близлежащий хребет Босежур. 3 сентября, внезапно подойдя и выбросив десант, англичане выбили ле Лутра с 300 его людей из Бобассена, ретировавшегося к Чинекто, взяв в плен двух его сподвижников. На месте Бобассена оказался основан форт Лоуренс, где остался гарнизон из 300 регулярных бойцов.
Однако набеги и рейды не прекращались. Всего в 1749-1754 годах историки насчитали 24 вооружённых инцидента, из которых 13-ю стали нападения микмаков на английские поселения (8 из которых последовали против Дартмута, где геройски держался майор Изекиель Джилман).
Корнуоллис (с 1752 года Хопсон) с 2000 находившимися в его подчинении людьми (три пехотных батальона, рота артиллерии, семь рот рейнджеров, шесть из которых создали в 1750 году) просто физически не мог контролировать обширную территорию Новой Шотландии с её сложным пересечённым характером местности. Разбившись на десяток гарнизонов, он не мог одновременно защищать поселенцев и проводить крупные наступления. Для покрывшейся сетью постов страны требовалось радикальное решение вопроса.
Между тем как французы укреплялись на Чинекто. Проведя инженерную разведку местности, в 1751 году здесь началось строительство нового форта Босежур, с постоянным гарнизоном и запасами всего необходимого на случай осады, а также близлежащего форта Гасперо.
Сделай французы то, что было ими запланировано – кошмар кампаний 1744-1748 годов вновь стал бы явью. Имея рубеж для развёртывания и крепость на пути в долину реки Сент-Джон в самом узком и труднопроходимом месте, они могли здесь сильно усложнить жизнь британцам. В районе к весне 1755 года находилась по канадским меркам целая армия (200 только регулярных солдат из Вольных рот и корпуса канониров-бомбардиров), которая могла рассчитывать на поддержку гарнизонов Квебека (300 штыков) и Луисбурга (свыше 1000 морских пехотинцев и артиллеристов).
В то же время и британское правительство было настроено наконец разрешить вопрос с Акадией в свою пользу (имея ввиду и территорию Нью-Брансуика). Это произошло по факту представления королю решений заседания Совета по торговле от 7 декабря 1753 года с недвусмысленным названием «Протест против французов на реке Сент-Джон», под которым подписались Питт, Галифакс, Гренвиль, Таунсенд.
В соответствии с указанным документом, британские права на материковую Акадию считались неоспоримыми и безусловно доказанными (что было не совсем справедливо). Французы находились на землях британской короны и посему должны были быть изгнаны любым способом. В противном случае они занимали стратегическую позицию между американскими колониями и Новой Шотландией.
В августе 1753 года новым губернатором Акадии стал Лоуренс (де-факто до 1755 года им оставался Хопсон, но он был вынужден передать дела Лоуренсу из-за тяжелой глазной болезни, вынудившей его выехать в Англию). Он быстро взял ситуацию в свои руки.
К 1755 году численность каждого британского линейного батальона в Акадии оказалась доведена до 700 человек за счёт местных и ньюфаундлендских рекрутов. Это дало группировку в 2800 штыков (вместе с рейнджерами и артиллеристами). Кроме того, имелось ещё некоторое число милиции из числа местных англоговорящих жителей с юго-восточного побережья.
Одновременно с 1 сентября 1754 года был прекращён экспорт зерна в Акадию и Канаду. Зависимые от поставок продовольствия извне, французы быстро ощутили их отсутствие.
Предполагалось, перебросив армию из Массачусетса, быстро нанести французам поражение под Босежуром и продвинуться в долину Сент-Джона. Планы по депортации гражданского акадского населения также оказались не вчера (то есть, не спонтанно) разработаны. Имея соответствующую инфраструктуру и группировку в 5000 человек (с ополченцами), Лоуренс рассчитывал «очистить Акадию от этой заразы» (то есть, акадцев и их вооружённого сопротивления).
Секретный план Фокса-Питта, родившийся на свет осенью 1754 года, и Решения Совета по торговле от 1753 года, пришлись как нельзя кстати. Формально это была операция по вытеснению врага из спорных районов, считавшихся англичанами своими, на деле и в частности – решение некоторыми власть предержащими (Лоуренсом, Ширли) своих насущных вопросов в Акадии.
(Собственно, обе стороны в Акадии были «хороши». Губернатор Дюкен советовал ле Лутру и коменданту Босежура Вергору напасть на англичан точно также, как губернатор Ширли в своих письмах в Лондон просил разрешить ему блокировать перешеек Чинекто и вынудить французов уйти).
Интересы различных американских и английских военных, политических и деловых кругов пересеклись. Был выбран офицер для выполнения такой цели, друг губернатора Массачусетса Ширли, подполковник Роберт Монктон, командир 47-го Пешего полка. В 1752 году он командовал гарнизоном Лоуренса, в 1753 году участвовал в защите окрестностей Галифакса и знал ситуацию на фронтире (границе) не понаслышке.
С ноября 1754 года он находился в столице Массачусетса Бостоне, где и получил от Лоуренса и Ширли соответствующие директивы. Его задачей стала подготовка будущей экспедиции.
3.3. Выдвижение англичан.
Ядром армии вторжения должен был стать так называемый Массачусетский провинциальный «Новоанглийский» Уильяма Ширли полк. Численность полка была около 2000 человек, он включал в себя два батальона (Джона Уинслоу и Джорджа Скотта) и 19 рот. Номинально командовал подразделением сам губернатор (и герой осады Луисбурга в 1745 году) Ширли, фактически – Роберт Монктон.
Все необходимые пополнения – пехотные части, артиллерию, часть амуниции – войска должны были получить на месте в Аннаполис-Ройале. Кроме того, предполагалось усилить группировку вторжения за счёт гарнизона форта Лоуренс (300 регулярных солдат и 95 рейнджеров) и роты коннектикутских ополченцев Уильяма Лэмсона, отправленных в экспедицию в качестве рейнджеров.
Основой полка стали ветераны прошлогодней Мэнской кампании. Ещё летом 1754 года, до начала военных действий, Ширли выслал 800 провинциальных солдат во главе с колониальным генералом Уинслоу на реку Кеннебек с целью выбить оттуда французов и усмирить индейцев-малеситов. Врага бравый военачальник так и не нашёл, но опыт операции мог пригодиться.
Совещания и консультации по поводу создания американской армии вторжения начались в январе-феврале 1755 года. Тогда же было определено финансирование на набираемые войска.
10 февраля 1755 года началось формирование собственно полка, получившего пышное наименование «Новоанглийского». Дисциплина подразделения оставалась так себе, его офицеры оказывались случайными «людьми фортуны», а солдаты слонялись каждый по своим делам (Монктону стоило очень большого труда внести хоть какой-то порядок в их ряды). Кроме того, в состав массачусетсцев набрали 80 индейцев, которых Горхэм, командир рейнджеров Новой Шотландии, в дальнейшем «выменял» на солдат из своих рот.
Тем не менее, у «новоанглийских» солдат даже имелась своя собственная униформа. Пока она, правда, не поступила в войска, но уже один этот факт выгодно отличал массачусетсцев от тех же рейнджеров (одетых как попало).
Для прикрытия границы на севере и востоке в марте было создано три батальона по 500 человек в каждом, и для действий в шамплейнском коридоре выделялся отдельный полк из 1200 штыков. Тем самым, лимит в 4500 ополченцев, заявленный Массачусетсом, оказался даже несколько превышен.
К началу апреля «Новоанглийский» полк был практически укомплектован. В поддержку его 28 апреля оказалась создана артиллерийская часть, состоявшая из всего 22 человек при 11 (!) орудиях (двух 32-фунтовых, шести 18-фунтовых, двух 12-фунтовых пушках и одной 13-дюймовой мортиры). В силу недостатка артиллеристов, их планировалось заместить пушкарями из регулярных войск, размещённых в Новой Шотландии.
Первоначальным планом предполагалось выступить из Бостона морем 7 апреля и 22 числа того же месяца прибыть в Аннаполис-Ройал. Но только 9 апреля в войска поступило так нужное им обмундирование.
Кроме того, Монктон до последнего ждал оружие из метрополии. 1000 ружей из арсеналов Бостона и 700-800 стволов в Аннаполис-Ройале находились, по его сведениям, в малопригодном состоянии. Только 17 мая прибыл конвой из Великобритании, позволив оснастить безоружные до тех пор войска.
19 мая (по другим данным, 23 мая), погрузившись на 31 транспорт, под защитой трёх 20-пушечных фрегатов, так и не выстреливший ни разу полк наконец выступил в дальний путь. 26 мая, после недельного плавания, караван с измотанными провинциальными солдатами на борту уже салютовал своими пушками заливу Аннаполиса, бывшего французского Порт-Рояля.
Англичане имели разведданные о возможном присутствии в районе реки Сент-Джон двух французских 34-пушечных фрегатов, но не считали их реальной помехой своим планам. Хотя, если бы французы действительно противопоставили намечавшейся высадке 3-4 фрегата (частью каперских, частью королевских) в районе залива Фанди – экспедиция могла бы закончиться плачевно. В 1708 всего два таких фрегата смогли разгромить и обратить вспять караван из 55 транспортных судов из Новой Англии, шедших атаковать Порт-Рояль, в 1744 году точно также только два приватира (частных фрегата) несколько месяцев держали в напряжении всё побережье Новой Шотландии.
Однако дивизион кораблей Сальвера только-только разгружал войска в Луисбурге в эти дни и не собирался отправляться в опасный рейд к берегам Новой Шотландии, а 32-пушечный французский фрегат «Фидель» находился в Квебеке. Трём маленьким крейсерам капитана Рауза нечего было бояться.
Здесь, в Аннаполисе, войска оказались пополнены 270 военнослужащими регулярных войск, а также небольшой партией рейнджеров Горхэма. Эти силы включали три роты 40-го и 45-го Пеших полков и команду артиллеристов при 4 лёгких шестифунтовых и 6 тяжёлых восемнадцатифунтовых пушках из Галифакса, а также нескольких мортирах. Теперь, с подкреплением, у Монктона имелось в достатке квалифицированных канониров и артиллерийский парк из как минимум 25 орудий.
Общую численность войск Монктона оценивать сложно. Согласно данным от начала июня, только массачусетсцев было порядка 1950 человек (19 рот численностью от 90 до 114 человек каждая), не считая роты коннектикутцев, линейных частей, артиллеристов и рейнджеров.
Экипажи кораблей (3 фрегата, 34-37 транспортов – некоторые присоединились в Аннаполисе) составляли ещё не менее 1200 моряков. Кроме того, в форте Лоуренс находилось порядка 400 человек, рейнджеры и солдаты 40-го и 45-го полков. Они также пополнили осадную армию частью своего состава.
Всего, следует резюмировать, в начале июня 1755 года в заливе Бобассен собралась группировка численностью около 4000 бойцов. Включавшая, правда, гражданских лиц (те же команды транспортов), а также ядро из примерно 570 регулярных солдат.
31 мая войска вновь погрузились на корабли и отплыли из Аннаполис-Ройала. К вечеру следующего дня они были уже в Бобассенском заливе, откуда хорошо просматривалась гряда Босежур, вся в зелени пролесков. Отсюда до одноименного французского форта оставалось около 8 километров.
Здесь произошла небольшая заминка. Дело в том, что условия судовождения, и без того сложные в заливе Фанди, в Бобассенском заливе оказывались ещё более затруднены узким и мелким устьем реки Миссагуаш, водоворотами и влиянием приливной волны (отчего в 1751-1752 годах два судна из Массачусетса здесь сели на мель и оказались разграблены индейцами).
Выручили познания капитана Рауза, уже воевавшего здесь пять лет назад и составившего навигационные схемы. Благодаря этому, флотилия сумела достигнуть назначения, пройдя по фарватеру. После недолгого совета на флагманском фрегате «Саксесс», решено было высаживаться.
В течение вечера 2-го и утра 3-го июня войска производили высадку, обустраивали лагерь на склонах холма, на котором стоял форт Лоуренс, и проводили совещания по поводу того, как быть дальше. Французы видели всё это, но (за отдалённостью) не могли ничем помешать.
Днём 3 июня Монктон вывел свои войска в поле и начал учения. Каждый массачусетсец должен был выстрелить хотя бы по разу (пусть даже первый раз в жизни) и научиться ходить строем. Конечно, после таких спонтанных тренировок разношёрстое войско подполковника не превратилось в вышколенные части, но цель Монктона была другая: демонстрация и произведение впечатления на противника.
Наутро 4 июня наступление началось. Войска выстроились у форта Лоуренс и под бой барабанов с развёрнутыми знаменами двинулись к переправе через Миссагуаш и Босежуру.
В авангарде маршировало 50-60 колониальных солдат капитана Адамса. За ними следовали регулярные силы, 300 солдат из Лоуренса и Аннаполис-Ройала. Следом шагали все остальные, растянувшись на три километра, топот двух с половиной тысяч пар ног оглашал окрестности.
До переправы через Миссагуаш и её болотистой поймы от форта Лоуренс было около 6 километров. За ней оставалось ещё два километра до расположения вражеского форта.
Начиналось засушливое лето 1755 года. Года, который стал годом войны в Северной Америке. Весело маршировали ополченцы американских провинциальных милиций – они не знали пока, что такое настоящая война, и относились к ней, как к большому празднику.
3.4. Босежур.
Решение о строительстве форта Босежур было принято в ноябре 1750 года. Причиной послужила эскалация в регионе под названием Акадия и необходимость контроля над стратегически важным перешейком Чинекто.
Первые работы начал ещё Ла Корн в 1749 году. В апреле 1751 года сюда прибыл колониальный инженер Гаспар-Жозеф Шосегро де Лери из Квебека. Летом того же года его сменил инженер Луи Франке, прибывший из метрополии.
Местом строительства был выбран холм между топями пойм рек Тантемар и Миссагуаш (адаптированное русское название, переводится как «болотистая река»). Кроме того, на северо-востоке, неподалёку от Босежура, в устье реки Гасперо соорудили одноимённое укрепление, чтобы перекрывать подступы с востока, со стороны моря.
К 1755 году форт представлял собой сооружение в форме пятиконечной звезды с пятью бастионами. Бастионы имели протяженность в 17 метров по фронту и 6 метров по флангам и соединялись куртинами длиной 6,5 метров. По периметру форт был окружен рвом 5,5 метров шириной и два метра глубиной. На укрепления из уплотненного грунта и дерна установили 24 пушки и одну мортиру (находившиеся, правда, в весьма плачевном состоянии).
Форт так и не был достроен (не хватило средств и людских ресурсов, да и то, что выделялось – разворовывалось). Кроме того, он был неудачно расположен: находился на обратной стороне хребта и далеко от реки и залива и не мог накрывать своим огнём позиции осаждающих, а также подступающие колонны противника и его суда.
На переправе через считавшуюся пограничной реку Миссагуш, где имелся мост, французы соорудили что-то вроде редута (по другим данным, ещё и блокгауз), обращённого бруствером к неприятелю. Считалось, что это была очень сильная оборонительная позиция, имей она достаточное число мотивированных защитников (а также достаточную артиллерийскую поддержку). Однако, как показало исследование, Миссагуаш и в 18 веке оставалась небольшой речкой, переходимой вброд в большинстве мест и, соответственно, форсирование её не составило бы труда (однако болотистые берега препятствовали провозу артиллерии).
Юго-восточнее находилась возвышенность, на которой стоял форт Лоуренс. Высота обеих гряд (и Босежура, и Лоуренса) достигала 20-25 метров.
Сооружение на переправе именовалось Понт-а-Бюо. Выше имелся пост в Бют-а-Роже и ещё несколько таких пунктов. Их гарнизоны, расположенные цепочкой вдоль северо-западного берега Миссагуаш, составляли по 10-20 солдат каждый.
В окрестностях форта было разбросано несколько деревень, основанных беженцами из Бобассена (в которых проживало порядка 400-500 человек). Севернее, в устье реки Гасперо, на реках Петикодьяк и Шепуди, обитало ещё 230 акадских семейств.
Западнее, в устье реки Сент-Джон (или Сен-Жан) находился форт Ля-Тур (или Менагуш), куда вела проселочная дорога из Босежура. Гарнизоном командовал прибывший в прошлом году из Квебека лейтенант Шарль-Дешамп де Буашбер де Раффето, ветеран кампаний в Новой Шотландии и Огайо. Чуть выше по течению от Ля Тура, примерно в 50 километрах, за многочисленными порогами и перекатами находилась деревня Сент-Анн (современный Фредериктон).
Совокупное белое население всех этих окрестных поселений вряд ли превышало трёх тысяч человек (из них взрослых мужчин вряд ли было больше 300-400 человек). Поэтому планы по сбору 1350 акадских ополченцев, объявленные Вергором, с учётом низкой мотивации «призывников» и плохо проведённой мобилизации, виделись несколько сомнительными.
Гарнизон форта Босежур составлял 162 колониальных морских пехотинца и артиллериста. Ими командовал офицер Луи Дю Пон Дюшамбон де Вергор, человек с незавидной судьбой. Именно он сдаст Босежур, и именно на его совести высадка англичан на отведённом ему участке на равнинах Авраама в 1759 году.
В Гасперо находилось ещё 23 солдата коменданта Бенжамена Руэ де Вильрё. Форт был ветхий и строился с учётом противодействия возможной высадке на лодках.
Наконец, в устье Сент-Джона располагался лейтенант Буашбер. У него была всего горсть регулярных солдат, но он собрал 100-150 человек акадской милиции и к нему на помощь из Квебека шло ещё 100 абенакских воинов. Именно этот человек получил всю славу героя Акадии в развернувшейся в 1755-1761 годах освободительной войне.
Тем самым, имелось совсем немного людей, разбросанных к тому же на сотнях километрах пространства от верховий Сент-Джона до Чинекто. Вся численность вооружённых сил французского короля в начале июня не превышала 700 человек по всей Акадии (включая набранных Вергором и ле Лутром), в то время как британцы с прибытием Монктона имели в Новой Шотландии почти 5000 штыков (без моряков; больше половины – на перешейке).
(Помимо низкой компетентности Вергора как командира, имелся ещё ряд интересных особенностей обороны Босежура. Например, комиссар Тома Пишон был по факту секретным британским агентом, регулярно доносившим в форт Лоуренс о состоянии дел во французском гарнизоне).
В конце мая, встревоженный новостями о возможном нашествии англичан, Вергор кинул клич о сборе всех способных носить оружие. Однако пришло только 240 акадцев и 60 микмаков отца ле Лутра, большинство – участники кампаний 1749-1755 годов. Мотивация их была низкая, и воевать они шли неохотно, уже наслышанные о той грандиозной армии, что шла атаковать Босежур из Аннаполис-Ройала.
Реально, шанс у французов был один: быстро получить подкрепления из Квебека и Луисбурга. Однако ни один из трёх батальонов морской пехоты так и не стронулся из Луисбурга (хотя крепость не была блокирована вплоть до начала августа), и так и не двинулся из Квебека Рамзе, которому до Босежура оставалось три недели марша.
Пожалуй, только с этими совокупными силами можно было попытаться устроить англичанам решительное поражение. Например, связать боем на переправе или попытаться оттянуть вглубь, к холмам, соорудив здесь укрытия и расстреливая подходящих, после чего, перейдя Миссагуаш выше по течению, попробовать окружить армию вторжения. В ином случае дисбаланс сил оказывался слишком катастрофическим: Монктон вёл к Босежуру две с половиной тысячи своих людей, не считая гарнизона форта Лоуренс и моряков Рауза.
Французы видели со своей высоты приготовления англичан во время учений 3 июня. Это произвело должное впечатление, как и рассчитывал Монктон, изрядно деморализовав защитников форта Босежур.
Наутро 4 июня марш огромной колонны по дороге, что вела к Босежуру, также не прошёл незамеченным. Британцы растянулись на три километра, их численность была оценена в три тысячи человек. Встревоженные, французы эвакуировали посты выше по течению Миссагуаш, стягивая все силы к Понт-а-Бюо.
Спустя 4 часа, когда голова вражеской колонны подошла к Понт-а-Бюо, здесь собралось около 200 человек (англичане определили их число от 300 до 400 бойцов), в основном акадцы и индейцы. Попытка разрушения старых плотин не дала результата: противник всё равно преодолел по заболоченной местности 6 километров, отделявших форт Лоуренс от переправы.
Будь у французов здесь серьёзная батарея – они могли бы задержать англичан, связав их артиллерийской дуэлью. Однако Вергор из Босежура не пошёл на этот план, предложенный колониальным офицером (капитаном) Фьедмоном, предпочтя пассивно отсиживаться в форте. В итоге артиллерийский наряд защитников Понт-а-Бюо представлял несколько малокалиберных вертлюжьих пушек, защищённых весьма скудными земляными укреплениями.
Увидев врага, индейцы страшно завопили и стали стрелять в их сторону (пули за удалённостью не долетали), к ним и их боевому кличу присоединились акадцы. Затем к их бестолковой и бессмысленной пальбе присоединилась артиллерия, вертлюжьи пушки Баральона: они-то и внесли опустошение в ряды англичан своими маленькими ядрами, удачно накрыв вражеский авангард.
В ответ англичане выкатили четыре своих полевых пушки и быстро разнесли оборону французов в щепу. Первыми побежали индейцы, за ними – акадцы, после чего, поняв бесперспективность сражения, и Баральон отступил, сбросив в трясину свои маленькие орудия. Всего бой продолжался около полутора часов (хотя Уинслоу, приукрасив события, утверждал, что сопротивление противника было сломлено в четверть часа).
Теперь, по сути, у Вергора была только одна возможность продолжить борьбу. Он мог, правильно оценив обстановку, отступить, взорвав форт, либо, постаравшись недолго продержаться и, нанеся противнику хоть какой-то урон, всё равно отступить, уничтожив материальную часть и сохранив людей. Отбить натиск не было никаких шансов – слишком неравное соотношение сил, да и расположение форта отнюдь не делало его неприступным.
Однако для таких смелых действий Вергор оказывался слишком безынициативным командиром. Как и прежде, он предпочёл пассивно сидеть, дожидаясь сдачи своего гарнизона.
Между тем англичане, потерявшие в стычке на Миссагуаш 1 убитым и 10-12 ранеными, восстановили мост через речку (он был разрушен) и перевели войска и артиллерийский парк на «французский» берег. Отсюда они продвинулись вдоль южного склона хребта Босежур и заняли расположение в местечке Бют-а-Миранд, начав строительство лагеря на склонах холма и у него подножия. Французы и индейцы, лишившиеся одного человека убитым и трёх ранеными, затаились в Босежуре, из их рядов побежали акадские ополченцы и индейские воины.
(В частности, партия из 50 бойцов Бушевилля, высланная для наблюдения за сооружаемыми укреплениями неприятеля, дезертировала в полном составе. В течение осады её примеру последовал ряд прочих иррегулярных отрядов).
Первым делом британцы соорудили что-то вроде пристани в устье реки Миссагуаш. Утром 6 июня сюда попробовали подойти английские транспорты для разгрузки припасов, однако были отогнаны своевременно выдвинувшейся командой французов (одно судно, тем не менее, прорвалось).
Как следствие, пристань оказалась защищена отрядом пехоты, оттеснившим противника. Вечером того же дня 6 июня попытка провести конвой повторилась, и корабли достигли назначения. В дальнейшем позиция также была оборудована батареей.
Теперь Монктон мог получать всё необходимое с моря. Вместо долгого обходного пути через Лоуренс и топь Миссагуаш всё доставлялось ему прямо в его расположение.
Затем началось исследование потенциального места для размещения осадной батареи. Позиция (и старый французский пост) северо-восточнее деревни Бют-а-Роже была сочтена негодной для таких действий (орудия не доставали до французского форта). В качестве новой позиции для размещения такой батареи выбрали участок на склоне холма в 400 метрах северо-восточнее деревни Бют-а-Шарль, на господствовавшей над фортом высоте.
