Белая река, черный асфальт
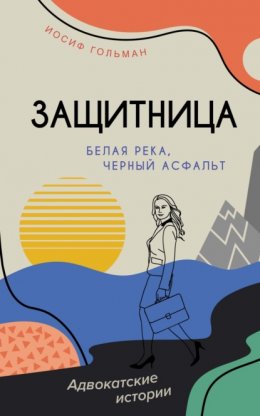
© Гольман И., 2025
© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025
Издательство Азбука®
Эта книга вряд ли была бы написана без предшествующих, длинных и захватывающих, бесед с Мариной Вячеславовной Кащенко и Александром Всеволодовичем Алексеевым.
Тем не менее все нижеизложенное – литературное художественное произведение, в связи с чем претензии от опознавших себя персонажей категорически не принимаются.
Об адвокатах, подсудимых и серии «защитница. Адвокатские истории»
Уголовные дела о дорожно-транспортных происшествиях – необычные. Почему? Объясняю.
Итальянский врач-психиатр и криминолог Чезаре Ломброзо считал, что преступники таковыми рождаются. Наши ученые с этим утверждением спорят, соглашаясь лишь с тем, что будущий нарушитель закона, изначально готовый к совершению злодеяния, формируется задолго до того, как отправится «на дело»: он идет к нему всю жизнь.
Будущий вор часто начинает с карманов в школьной раздевалке, а насильник едва ли не с детского сада привыкает получать удовольствие от ужаса в глазах кошки, к хвосту которой он сам же привязал консервную банку.
Вор, грабитель, мошенник стали «нехорошими людьми» до совершения преступления. Да что там до, они были такими вчера и даже позавчера. Таковы все или почти все преступники!
Но не те (в массе своей), кто садится на скамью подсудимых за совершение преступления, связанного с нарушением правил дорожного движения. Не отсюда ли сочувствие, которое вызывают у нас истории попавших в ДТП людей: от простого работяги-водителя до потомка известной актерской династии?..
А как все случается с ними, действительно ли так далеки они от «нехороших парней», как нам порой видится, справедлива ли определенная им законом кара?
Вопросы эти меня занимали всю профессиональную жизнь, да и, честно говоря, продолжают занимать по сей день. Поэтому, когда мы с адвокатом Александром Алексеевым стали участниками очередной такой истории, мы решили «отдать» ее Иосифу Гольману. Ведь в традиции русской словесности – перекладывать на плечи больших писателей груз становиться «носителями совестного акта» (по И. Ильину) или «тайновидцами духа» (по А. Меню). Иосиф Гольман прекрасно справился: населил фабулу своими героями, отправил их в иные края, сделал персонажей и окружающую их реальность неузнаваемыми даже для нас – участников процесса. Но при этом талантливый прозаик не изменил логике событий, рассмотрел характеры со всех сторон и, кажется, ответил на вопросы, которые мучили меня. И, думаю, не только меня.
И еще о важном.
Роман выходит в серии «Защитница. Адвокатские истории», посему ясно, что он – не только об обвиняемом, но и об его адвокатах. Очевидное достоинство писателя в том, что, в отличие от большинства своих коллег, он показал правозащитников не красноречивыми фокусниками, не просителями, вымаливающими у власти «милость к павшим», а рыцарями, коими судебные адвокаты чаще всего и являются, потому что по всему миру бесстрашно бросаются в сражение с мельницами и молохами, уже назначившими маленького человека отвечать не только за то, в чем он грешен, но и за деяния других.
Кого? Об этом вы узнаете, прочитав эту книгу.
Марина Вячеславовна Кащенко
Предисловие
Вот уж правду говорят, что есть как минимум две России – Москва и не Москва. И это вовсе не два разных географических измерения, как север и юг, например. Скорее, как две разные планеты. А может, и вообще – вселенные. Потому что в них даже время течет по-разному: в столице стремительно, а в многочисленных нестолицах – вальяжно и не спеша.
Наверное, именно поэтому многих молодых (с горячей кровью и здоровым нетерпением) тянет в живущую на сверхзвуке Москву. Однако есть немало людей, для которых единственно возможной представляется жизнь спокойная, предсказуемая, в любимых неизменных пейзажах и без убийственной торопливости.
Впрочем, живут в них и люди, которым все давно без разницы. Типа «живут», но не очень управляют своей жизнью. Да и не стремятся к этому.
Такими в полной мере были все члены небольшой семьи Гильдеевых.
Отец, Тимур Рифатович, сорока шести лет от роду, выглядел как немощный старик. По состоянию здоровья он и был стариком: былую силу сжег алкоголь, употребляемый в количествах, неподъемных даже для его, в прошлом могучего, организма.
Сын, как это часто бывает, пошел по отцовским стопам. Неплохой парень, добрый и веселый. Вот только пить начал рано и сразу крепко. Армия случилась для него просто спасением, жаль, что ненадолго. Однако по возвращении из рядов юный Ринат Тимурович, к радости мамы Далии, все же как-то слегка остепенился. Да и работа не позволяла квасить ежедневно: Ринат ездил на старом автобусе, возил шоферов после смены домой и рано утром на автобазу, для чего специально открыл в правах категорию «Д».
Слава богу, что квасить перестал. Потому что судьба уготовила ему тяжкое испытание, которое пьяному не пройти.
Лихой мотоциклист обгонял по встречке старенький «Жигуль», неторопливую пенсионерскую «четверку», просевшую на задние колеса из-за груза картошки. Обгонял к тому же на повороте. Обгонял, рискуя не только своей жизнью, но и двумя душами: мотоцикл был тяжелый, «Иж» с коляской, такие не редкость в деревнях и маленьких городках.
Ринат даже не успел нажать на педаль тормоза, как из-за поворота выскочило ЭТО и на полной скорости влетело ему под колеса.
Вряд ли уместно описывать в деталях, что было дальше. И без натуралистических подробностей тошно.
Формально Ринат Тимурович мог быть обвинен в смерти, как написано в законе, «двух и более лиц». Однако девять сидевших в салоне шоферов четко указали следователю, что в данной ситуации Ринат ничего сделать не мог. Фактически о него просто ударились, шансов избежать трагедии у водителя автобуса не было.
Эту же версию подтвердила автотехническая экспертиза. Автобус, кстати, оказался, несмотря на возраст, исправен. И крайне уместным было то, что Ринат предыдущим вечером ничего не пил, иначе все стало бы для него гораздо хуже.
Хотя, если уж совсем честно, то не выпил он потому, что мама, Далия, встала на пороге и сказала сыну: «Только через мой труп». Ринат, у которого присутствовали и деньги, и желание выпить, обернулся было в поисках помощи от такого же постоянно страждущего отца. Но увидел лишь его почти безжизненное тело: Тимуру Рифатовичу хватило ранее принятого, чтобы на несколько часов покинуть постылую реальность.
В тот вечер Ринат здорово разозлился на мать, лишившую его желанного удовольствия. Зато, когда закрывали уголовное дело ввиду отсутствия состава преступления, был ей несказанно благодарен. Его и так преследовали ночные кошмары. На мотоцикле убилось целое семейство: отец, мать и маленькая девочка. А если бы он еще и знал, что виновен в их смерти, – то как после этого жить?
Даже поначалу перестал пить. Через месяц после трагедии, правда, вновь стал пропускать по стаканчику. Но уже не столь напористо, как прежде. Вполне в рамках терпимого для уральского городка.
Наверное, настала пора и про городок, основанный еще Петром, рассказать. А чтобы он не был безымянным, назовем его Белогорск и поместим, скажем, в Башкирию.
Некоторые отвязные путешественники, побывавшие и на Тянь-Шане, и в Тибете, считают Уральские горы чуть ли не холмами.
Это не так.
Вообще не так.
Это горы – настоящие. И не только на севере, где жизнь – испытание. Но и на юге Урала.
Нет, конечно, здесь властвует Красота.
Величественные вершины (полтора-два километра – разве не величие по сравнению с даже двухметровым человеком?) по несколько раз в году меняли цвет. Да что там в году: они и за сутки могли из синих стать зелеными, а то и черными. Белыми, кстати, тоже могли: некоторые кряжи имели меловое происхождение.
Леса были такими, что не только заблудиться можно, но и на медведя нарваться.
Дороги то круто задирались вверх, то чуть не отвесно падали вниз. Не надо никаких Эверестов, чтобы на спуске захватило дух. Для тех, у кого отказали тормоза, предусматривались специальные гравийные ловушки.
Впрочем, водителей большегрузов больше волновали подъемы: мощности двигателей не хватало, особенно в соответствующую погоду. Чтобы уменьшить предательское проскальзывание колес, по обочинам горных трасс расставляли красные ящики с песком. Ну а лопата имелась у любого нормального шофера.
Съедешь же (или въедешь) наконец на ровное место – тоже не зевай. Ударит снегопад – в долине вполне можно потерять дорогу. Это летом непонятно, зачем вдоль трассы воткнуты высокие шесты с красными тряпками на концах. А зимой очень даже понятно: кроме них ничего в метели и не увидишь.
Про реки отдельный разговор.
Чистая холоднющая вода стремительно неслась с гор по крутому наклону, бурля порогами и водопадами. Ниагар, понятно, не встречалось. Но свой порог высшей категории сложности имелся почти у каждой речки. А уж гибло там и людей, и неосторожных животных явно больше, чем на знаменитой североамериканской речке.
Короче, природа была фантастически красива, однако отнюдь не идиллична. Горы, реки и леса не только давали человеку кров, стройматериалы и пищу, но также собирали с людей дань в виде их жизней. Этот мрачный налог исправно платился до нашей эры, при царе, а потом и при советской власти. Не перестали платить его и сегодня. Разве что к опасностям природным добавились опасности рукотворные. Плюс прочие опасности, к сожалению, широко распространенные на Руси.
И все же люди несказанно любили этот край.
Да, многие уезжали.
Тело мигрировало в Уфу, столицу республики, а то и дальше – в Москву, или за границу. А душа же все равно оставалась привязанной к этой воде, к этому воздуху, к этим лесам и горам.
Но вернемся к нашим героям.
Ринат после страшной трагедии ходил сам не свой. Как уже было сказано, он стал гораздо меньше пить.
Поскольку автобус оказался серьезно поврежден, его пересадили на совсем древний, когда-то зеленый ЗИЛок, выпуска конца пятидесятых. По обоюдному согласию с гаишниками, ЗИЛ-ветеран техосмотров не проходил. Правда, и госномеров не имел. Обычная практика – выкинуть жалко, авось еще послужит, но требованиям, предъявляемым к автомобилям, уже не удовлетворяет. Такие машины назывались почему-то бобиками или дворнягами. Ездили они обычно по территории автобазы, огромной, как все на Урале, – площадей здесь никогда не жалели. Перевозили бобики тяжелые детали и агрегаты. Иногда ненадолго выскакивали по какой-то надобности в город, дэпээсники были местные и легко прощали подобные прегрешения.
Впрочем, город – не совсем то, что мы себе обычно под этим словом представляем.
Все те же горы, те же подъемы и спуски, что и на сотню километров вокруг.
Те же сосны на склонах: невысокие, кривоватые, зато с медвяной корой, золотящейся в солнечных лучах. А в непогоду почти черные.
В центре несколько блочных многоэтажек, пара новомодных «монолитов» и даже забранная в бетон, с пешеходной зоной и стилизованными под старину фонариками, симпатичная набережная. Но это на левом берегу. На правом, вплотную подходя к реке, то, что в Сибири с полным основанием называют тайгой.
В пятистах метрах от городского центра дома становились ниже. А еще дальше улицы обступали обычные деревенские избы. Некоторые из бревен. Некоторые из камня. Как ни странно, каменные были дешевле.
А может, и не странно вовсе: горы-то из камней сложены.
Статус у каменных был точно ниже, поэтому те, кто о статусе заботился, свои каменные дома обкладывали облицовочным материалом: кирпичом, сайдингом или просто беленой штукатуркой. Голый камень выглядывал только там, где хозяевам на статус было плевать.
Таких тоже хватало.
На въезде с уфимского тракта дорога раздваивалась. Прямая широкая улица вела в центр. А узкая заворачивала направо и лезла в крутую гору, чуть не под сорок пять градусов. Вверху целые кварталы бараков пугали подъезжающих своими кривыми черными стенами. Бараки, кстати, были деревянными. Их в свое время строили зэки. Поскольку зэков и деревьев в те времена было не перечесть, жилфонд и оказался из сосновых кряжей.
Впрочем, не только почерневшие от старости и непогод бараки выглядели страшновато. Были такие же дома поменьше, частные, вдоль улицы, карабкавшейся в гору: с водой в колодце и сортиром в будке. Кроме перманентной нищеты, усугубляемой вредными привычками, здесь все могло мгновенно дополнительно усугубиться горным расположением, когда один дом нависает над другим, тот над третьим и так далее.
Один хороший ливень на вершинах – и со двора верхнего соседа может улететь к нижнему что угодно: от мопеда до содержимого выгребной ямы. Бывало, что и сам дом съезжал. Горы шутить не любят.
Район назывался Откос и считался неблагополучным. Кто сумел вырваться из привычной здешней колеи (хорошей учебой, мелким бизнесом или просто удачно «зашившись» от пьянки), старались перебраться в более престижные места.
Именно на Откосе обитала семья Гильдеевых. Здесь вырос Тимур, сюда привел свою юную жену Далию, отсюда же вывез на кладбище своих, тоже еще не старых, но выработавшихся и измученных спиртной отравой, родителей.
Вообще же в городке была традиция, что жена приходит жить в дом к мужу. Даже если этот дом по качеству сильно уступает родительскому.
Впрочем, про традиции можно говорить лишь условно.
У башкиров одни традиции, у татар другие, у русских третьи.
Жили, кстати, все дружно. По крайней мере, если кто кого недолюбливал, то уж точно не из-за веры или разреза глаз.
Сильно верующих особо не было.
Родителей Тимур хоронил с муллой, при этом в мечеть мог не заходить целый год.
То же касается и русских: церкви имелись, на Пасху были полны. В остальное время их посещали в основном богомольные старушки. Вот уж кто казался бессмертным: и при Сталине они были, и при Брежневе. Были и при Петре, разумеется, ведь именно в то время Урал активно заселялся мастеровыми людьми.
Теперь расскажем про вторую семью, важную для нашего повествования.
Наполовину русскую, наполовину башкирскую. Отец, Ишмурзин Радик Алиханович. Мама, Вера Ивановна. Разумеется, Ишмурзина – здесь редко оставляют девичью фамилию. Старшая дочка имела русское имя Наташа. Младшая – башкирское (и татарское) Алсу. Это красивое имя стало популярным после того, как одна его талантливая носительница стала популярной певицей.
Папа был известным человеком в городе.
Именно он последние четверть века рулил городской автобазой. Умный, трудолюбивый и, что принципиально, малопьющий. Такого оборота, кстати, в Белогорске не использовали. Если человек не уходил в запои и не срывался с катушек, то про него говорили – не пьет.
Валютных миллионов не скопил, однако все, что должен иметь уважаемый житель Белогорска, Радик Алиханович имел.
Пожалуй, этот «джентльменский набор» стоит перечислить.
Свой дом, капитальный, не новомодный коттедж, а старая огромная изба. Пять окон на одну улицу, три на другую. Рубил дом отец Радика Алихановича. А жить в нем без проблем смогли бы и его внуки.
Металлическая крыша. Внутренний двор асфальтирован. «Не эстетично?» – усмехнется столичный дизайнер.
Зато «дешево, надежно и практично»: особенно когда нужно выгребать снег после февральского снегопада, а такой снегопад запросто может идти неделю.
Из животных имелась корова, были на дворе и куры. Хлев, разумеется, был сложен из таких же мощных бревен, что и дом. Огромный, рассчитанный, наверное, на маленькое стадо. Однако времена действительно изменились, и двух из трех коров отвезли родственникам в деревню еще десять лет назад.
Что касается удобств, то умелый и со связями Ишмурзин сделал дом почти городским. Вот только центральное отопление в их довольно престижном районе не было предусмотрено. Поэтому, несмотря на разведенные по комнатам батареи, в целях экономии топили огромную печь. На ней же готовили еду, благо дрова в здешних краях были почти бесплатными.
Итак, отец семейства был шустрым и деловым и давно вошел в высшие слои местного общества.
Мама была доброй и заботливой, как ей и положено.
И очень-очень занятой, несмотря на то, что ни дня не работала по трудовой книжке. На ней дети, дом, живность, участок (как при доме, так и еще отдельно, за городом). Горничная стандартным укладом городка не предусматривалась.
А еще все горожане, работающие (брали отпуск) и неработающие, исчезали из города на две недели в июне и на неделю в августе. Сенокос, огород и малина.
Ягоду никто специально не выращивал. Ее, дикой, до черта было в горах, и у каждого имелось заповедное местечко. Малина душистая настолько, что просто с садовой не сравнить.
Оттуда и вывозили ведрами: на сушку, компоты, пироги, варенье. Бесплатно, с чувством глубокого удовлетворения, как говорил один из наших прошлых лидеров. Главное, с медведем не пересечься, зверь тоже обожал сладкое.
Вот теперь плавно переходим к дочерям, и далее – на финишную прямую нашего неторопливого предисловия.
Старшая – Наталья. Стройная, более-менее симпатичная. Аккуратненькая брюнеточка. И, однозначно, умная.
В лучшей школе городка (а где еще могли учиться дочки завгара Ишмурзина?) она была первой ученицей. Блестяще сдала выпускные и с родительского благословения укатила в столицу, поступив в престижный московский вуз.
Младшая, Алсу, любила сестрицу и одновременно слегка завидовала ей. Она была в семье как Золушка. Нет, никто ее родительской любовью не обделял. Просто так исторически сложилось: Наташка после уроков бегом на кружок или на дополнительные занятия, а Алсу, не проявившая никакой тяги к учению, – на хозяйство. Дрова принеси, печку протопи, золу потом вынеси, за огородом следи – ну точно, Золушка. Разве что не у злой мачехи, а у любящих и любимых мамы с папой.
Мама видела ее расстройство, жаловалась отцу, что, мол, как-то нечестно получается.
Радик Алиханович вызвал младшенькую в горницу и серьезно спросил: готова ли она пахать в науках так же, как сестренка? Если да, то он готов вызвать из деревни родственницу, помочь маме по хозяйству, освободив тем самым Алсу.
Подумала младшая дочка и отказалась.
Выносить золу ей не нравилось. Но алгебра с химией и историей нравились еще меньше.
Уж лучше зола.
Мама только улыбнулась отцову эксперименту. Уж ей ли было не знать свою кровинушку?
Если честно, Алсу давно интересовали только мальчики. Не в плохом смысле, она вовсе не была распутной девицей. Просто с седьмого класса, как образовались у вчера еще ребеночка тугие груди да круглая попка, Алсу готовилась к своему главному жизненному предназначению. И это точно были не алгебра с геометрией.
Мама против такого расклада не возражала. Она знала наверняка, что от дома, любви и деток тоже можно иметь полноценное счастье.
Уместно, наверное, сказать, что красоткой Алсу не была. Однако она была такая… слегка сдобная, что ли, и при этом крепко сбитая. Платьица предпочитала носить в обтяжку, и уже в старших классах на ней нередко останавливались мужские взгляды. Пышные, соломенного цвета, волосы лишь усиливали ее сексуальную притягательность.
Еще одной золушкиной обязанностью было носить домашние обеды отцу. Так уж принято в Белогорске: в ресторан ходили немногие, либо молодежь золотая, либо командировочные на местные предприятия – небольшие, однако союзного, как раньше говорили, значения…
Вот тут-то, на автобазе, и пересеклись тропинки дочки завгара Алсу и сына алкоголика Рината.
Живой обоюдный интерес был совершенно понятен.
Она – ренуаровская девушка, пышная, но абсолютно ничего лишнего. Да еще серо-голубые глаза с поволокой. И соломенная охапка волос.
В этой девушке все было настоящее, кровь с молоком, без сои и консервантов. А чуть-чуть выглядывающая из-под блузки крепкая белая грудь вызывала инстинктивное желание познакомиться с девчонкой поближе.
Он тоже не подкачал.
Невысокий, но очень физически сильный – не слабее отца в молодости, до пьянства, легко гнувшего подкову. Придя недавно из армии, парень не обнаружил своего выпускного костюма – тот был пропит. Поэтому Ринат щеголял в дембельском прикиде. Что не только не принижало парня, но даже делало его более крутым в девчоночьих глазах.
А еще Ринат печалился.
Не для того, чтоб впечатление произвести. Просто не отошел пока от той ужасной трагедии. Хоть и к мулле ходил, и на всякий случай свечку в церкви ставил. За упокой безвинно погибших.
Особенно было жалко ребенка. И зачем только пошел на кладбище? Так хоть лица не видел, а на свежей могилке была заботливо приклеена цветная фотография, спрятанная от дождя в полиэтиленовый файл.
Вот такого, печального, и встретила его Алсу.
Она, как Красная Шапочка в сказке, несла узелок с вкуснейшим домашним обедом. Только не бабушке, а отцу.
Пересеклись глазами, и, видать, что-то отложилось.
На обратном пути попала под дождь.
Поняла, что сейчас насквозь вымокнет.
Ан нет. К тротуару подкатил огромный грязно-зеленый древний ЗИЛок.
– Садись, подброшу, – сказал Ринат в незакрывающееся окно.
– Спасибо, – с удовольствием сказала Алсу и одарила парня теплым, многообещающим взглядом.
Потом он еще не раз подвозил девчонку.
Взаимная симпатия становилась все глубже, особенно после того, как Алсу узнала причину грусти бравого паренька. В общем, она его за муки полюбила. А он ее за состраданье к ним. И еще потому, что не полюбить такое светлое чудо естественной красоты было сложно.
Родители Алсу были категорически против.
Они вряд ли слышали слово мезальянс, но точно его не хотели.
– Сын алкаша будет алкашом, – в лоб убеждала дочку мама. – Ты хочешь быть хозяйкой в их доме на Откосе? – В городке это был самый неблагополучный район, и, конечно, Алсу не хотелось быть хозяйкой старого полуразваленного дома с дырявым сортиром на улице.
– От осинки не родятся апельсинки, – продолжал в том же духе отец.
Дочка же от обсуждения волнующей темы аккуратно уходила.
Она не могла бы поклясться на Библии или Коране, что безумно любит этого парня. Она просто созрела для любви, может чуть рановато по сравнению с подругами. Ей едва минуло восемнадцать.
А еще Алсу точно знала, что не хочет, как Наташка, портить зрение за компьютером да книжками. Хочет же она свой дом, мужа, ночных ласк и того, что за ними неизбежно последует: детей девушка любила всегда. И всегда жалела, что Наташка – старшая, а не младшая сестренка.
В общем, родители, проведя профилактические беседы, даже чуток подуспокоились: Алсу больше разговоров о Ринате не заводила, хотя он частенько подвозил ее до дома.
Оказалось, рано успокоились.
Все произошло в сенокос, когда полгорода брали отпуск: скотину держали очень многие, и в сене на зиму нуждались почти все.
Ни Радик Алиханович, ни Вера Ивановна так и не смогли понять, когда ребята нашли друг друга.
Вроде постоянно были на виду.
Мужчины косили, пока руки слушались. Женщины укладывали стога. Недолгие перерывы на обед, потом опять работа.
Солнце жарило, как в какой-нибудь Сахаре.
Вечером – искупаться в озере, выскочить обожженным ледяной водой и, доползя до летнего стана, плюхнуться на обильно подстеленное, душистое прошлогоднее сено.
Женщины еще могли перед сном немножко потрепаться. Мужики же, приятно измученные тяжким, но благодарным трудом, засыпали мгновенно.
Оказалось, что не все.
Нашли-таки ребята счастливую минутку. Погуляли у реки. Полежали в стожке. Ощутили вкус горячих губ и сладость молодых тел.
Через месяц после приезда с сенокоса Алсу сообщила родителям, что ждет ребенка.
Это в корне меняло дело.
Посовещавшись, родители приняли единственно верное решение: играть свадьбу.
Получилось не пышно, но очень достойно. Большой дом Ишмурзиных был полон гостей, в том числе из городской элиты.
Незадачливый новый родственник, отец жениха, Тимур Рифатович, разумеется, набрался. Правда, тихо, спокойно, без скандалов.
Зато сын его, Ринат, не подвел: ушел с молодой женой своими ногами.
Что ж, дочка сама выбрала себе судьбу.
После пошла обычная жизнь: работа по дому, ожидание первенца.
Конечно, изба Гильдеевых не шла ни в какое сравнение с огромным домом ее родителей. Но, пока любовь не остыла, интерьеры – последнее, что волнует любящих.
Ринат выпивал, однако не так много. С друзьями, с отцом. Один раз по-крупному, так, что ноги не ходили.
В доме, правда, им активно мешала Далия. Впрочем, иногда она тоже соглашалась принять сто грамм, после чего уже не мешала.
Однако пока все в этом плане было терпимо, не только по меркам Откоса, но даже по средним меркам городка.
Кончилась же идиллия быстро и, можно сказать, одномоментно.
Однажды вечером Ринат домой не пришел. В десять – нет. В двенадцать – нет.
Алсу позвонила отцу, тот молча выслушал и повесил трубку. Через полчаса перезвонил сам.
– Он в полиции, – сказал Радик Алиханович. Голосом скорее нежным, чем сердитым. Дочка сразу поняла: отец жалеет ее.
Зачем-то погладив здорово округлившийся живот, она, сдерживая страх, спросила:
– За что?
– Сбил четверых, – ответил отец. – Шли на ночную смену, по проезжей части.
– Живы? – почему-то шепотом спросила Алсу.
– Не все, – уклончиво ответил Радик Алиханович. Алсу в трубку услышала всхлипывания мамы. – Не волнуйся, доча, – тяжело вздохнув, пообещал Ишмурзин, – будем его вытаскивать. Куда ж деваться, родственник, – печально закончил он.
Несомненно, у завгара с двадцатипятилетним стажем все необходимые связи имелись. И в ГАИ, и в следствии, и в суде. Возможно даже, на начальной стадии расследования им были получены некие гарантии.
По крайней мере, к адвокатам Радик Алиханович за все время следствия не обращался. Ни к местным, ни к уфимским, ни к московским. А обратился он к ним лишь тогда, когда следствие завершилось и дело было передано в суд.
Видимо, из-за мощного общественного резонанса стало невозможно спустить дело на тормозах.
Прокурор, разумеется тоже знакомый, объяснил завгару, что ничего не поделаешь. Вина доказана многочисленными уликами, три жертвы скончались, еще одна женщина находится в глубокой коме. И еще сказал одну вещь: его зятю инкриминируют как минимум две статьи. Первая – нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть двух и более лиц. Это неосторожность. Вторая – оставление сбитых им лиц в опасности. А вот это уже умышленное преступление.
Тесть неудачливого водилы не зря был четверть века завгаром. Он точно знал, как опасны две перечисленные юристом статьи, соединенные вместе.
Одно лишь убийство по неосторожности – это колония-поселение. Независимо от срока. Гарантированная работа и, соответственно, заработок.
Общежитие вместо камеры или лагерного барака. А главное, приезд семьи.
Тот, кто в подобных случаях воротит нос от малокомфортабельных общежитий в поселениях, просто не сидел в лагерях.
Одно лишь оставление в опасности – срок в лагере, зато небольшой (да к тому же по этой статье редко дают реальные сроки).
Все гораздо хуже, когда статьи по неосторожному и умышленному преступлению вменяют одному и тому же лицу. Это сразу переводит отбытие совокупного наказания из колонии-поселения на зону. Пусть даже за первое дали десять лет, а за второе только полтора года. Сложением наказаний с их частичным поглощением может получиться, скажем, одиннадцать лет. Но уже не в полусвободной общаге, да еще с приездом и проживанием рядом семьи, а в конкретном лагере, за колючкой с овчарками и прочими тюремными прелестями.
Потыркался завгар в городке, съездил за адвокатами в Уфу. Все объяснили по-дружески: попала березка под трактор. Поскольку вариантов не было, поехал в Москву.
Там у земляков выведал про лучших защитников.
Подобные сведения переносят, как правило, из уст в уста, они не публичны. Но найти их, при большом желании, можно.
И вот он уже сидит в ничем не примечательной адвокатской конторе у трех вокзалов, в кабинете адвоката Ольги Шеметовой, за ее ничем не примечательным, слегка обшарпанным столом.
Ранее его покрывало большое стекло, неприятно холодившее руки.
Больше не покрывает: за пару дней до этого лопнуло, как взорвалось – аж осколки хлестанули по стенам. На звуки микровзрыва тогда прибежали все конторские работники: толстый (диета закончилась с двухнедельной гастролью виолончелистки-жены) и веселый Волик Томский, степенный умный старик Гескин, юный пионер-адвокат – сын их юридического полка, можно сказать, – Тошка, Антон Крымов. Не прибежала лишь Валентина Семеновна, конторская секретарша, а точнее контороуправительница: она была в отпуске.
А еще на взрыв не прибежал Багров Олег Всеволодович, большая и единственная любовь Шеметовой.
Этот не прибежал, потому что в очередной раз поссорившись с Ольгой, ушел к себе в холостяцкую квартиру, там съел какую-то несвежую гадость и уже третий день не отходил далеко от санузла. Шеметова, несомненно, жалела возлюбленного и даже готова была простить ему очередной уход. Однако к чувству жалости примешивалось и некое женское злорадство: вот от ее фантастических котлеток ему бы точно не хотелось столь системно посещать туалет…
«Эх, Олежка, – привычно подумала она о Багрове. – Когда ж ты поймешь, что лучше меня просто не бывает?»
Впрочем, даже мимолетно подумав о своем, девичьем, Ольга Викторовна ни на миг не потеряла из поля зрения суть рассказа сегодняшнего посетителя.
А рассказ был печальным. Как чисто по-человечески, так и с точки зрения юриспруденции.
Радик Алиханович говорил, иллюстрируя свои слова схемами, составленными следователями. Шеметова, очень внимательно слушая, пока не смогла найти ни единой зацепки, позволяющей хотя бы усомниться в выводах следствия. Ехать же в далекую Башкирию, чтобы быть там в судебном процессе статистом, она не собиралась. Гонорар, конечно, от этого бы не убыл. Просто Ольга считала себя Защитницей с большой буквы.
Впрочем, почему считала – она ею и являлась: нестандартное (как говорил Гескин – перпендикулярное) мышление, плюс легендарная работоспособность, плюс не менее легендарная упертость делали смешливую Ольгу Викторовну неприятным соперником для прокуроров всех рангов.
Так вот, настоящие Защитницы без смысла и пользы для доверителей в суды «не ходят». Пусть даже за безумные гонорары.
В этой же истории плохо было все.
Женщин, идущих в ночную смену на завод «Спецметалл», сбили ночью, на перекрестке, точнее развилке двух дорог. Пригородное неширокое шоссе расходилось здесь под острым углом на две улицы.
Тела на ужасных фото были разбросаны веером, с большими промежутками друг от друга.
Три трупа, одна – полутруп.
Убийцу даже искать не пришлось.
ЗИЛ-дворняга, без госномеров, врезался в забор через пару улиц от места ДТП. Когда через час его заметил патруль, то парня долго не могли привести в чувство, настолько он был пьян.
На пассажирском месте сидел единственный свидетель, Степа Волобуев, друг Рината. Он был не так пьян, как водитель, и кое-что вспомнил. Например, белое пятно перед глазами, когда они выезжали на злополучный перекресток. И еще звонкий удар.
Все это в очередной раз подтверждало версию о виновности Гильдеева: на голове одной из погибших был белый платок. А рядом с размозженной головой другой жертвы нашли кусочек гайки-барашка. Он в точности совпадал с отломом на гайке для крепления внешнего зеркала заднего вида на древней машине Рината.
Ну и что здесь искать хорошему адвокату?
Единственно, что вещал Гильдеев-младший, мол, клялся, что не помнит, чтобы сбивал людей. Ну так он и всего остального не помнит. Если даже не смог из-за руля выйти, когда в забор въехал.
Адвокату в таких случаях остается лишь просить суд пожалеть его крохотного, пока не родившегося ребеночка.
Но навряд ли сильно пожалеют: у убитых им женщин остались шестеро деток. Вообще, для маленького городка произошедшая трагедия была как взрыв бомбы. К злосчастному Ринату сформировалась отчетливая стойкая ненависть. Стольким людям сломал жизнь! И все из-за пьяни. Разумеется, горожане припомнили ему и прошлую трагедию. Теперь факт того, что Гильдеев вышел тогда сухим из воды, трактовался как поддержка имеющего связи завгара.
Короче, не спрячь его менты в СИЗО, Ринат сейчас на городских улицах долго бы не прожил, разорвали бы голыми руками на мелкие части.
– Боюсь, я не смогу вам помочь, – извиняющимся тоном наконец сказала Шеметова.
– Но… как же… – растерялся Ишмурзин. – Вы не можете отказаться! Вы же адвокат!
– Могу, уважаемый, – печально произнесла Ольга. – Я действительно не вижу пользы от своего присутствия. А получать деньги ни за что я не приучена. – Она даже привстала, показывая потенциальному доверителю, что аудиенция окончена. Тот же, прибитый своей бедой, все не уходил.
Адвокат тоже не хотела невежливо торопить человека, и так задавленного обстоятельствами.
А он все не уходил.
Наконец, что-то решив, сказал:
– Вы знаете, мой зять – не подарок. Пьющий, бесхарактерный.
Ольга молча кивнула в знак согласия. Теперь, конечно, знает.
– Но есть один момент в нем, – как-то даже задумчиво сказал Радик Алиханович. – Может, поэтому я и согласился отдать за него дочь.
«Не поэтому, – трезво подумала Шеметова. – Ты ж сам сказал, что она залетела». Однако вслух спросила:
– И почему же?
– А он не врет, – наконец сказал завгар. – Вообще не врет, верите?
– Нет, – честно ответила адвокат. Ей как-то не доводилось видеть совсем не врущих людей. Даже в научных журналах пишут – если ребенок до трех лет не врет и не фантазирует, значит, у него проблемы с умственной деятельностью.
– Вот, представьте себе, – печально подытожил тесть автоубийцы. – Не врет, и все тут. И упорно твердит, что никого не сбивал.
– Нет, – опять не согласилась Шеметова. – Он упорно твердит, что не помнит, как сбивал. Ну так если он, в забор врезавшись, тут же заснул, то что он в принципе может помнить?
– Все остальное помнит, – осторожно сказал тот. – Маршрут, где и с кем пил, сколько выпил.
– Это он все следователю доложил? – ужаснулась Ольга.
– Хуже уже не будет, – усмехнулся завгар.
– К сожалению, – вынуждена была согласиться адвокат. Ей очень не хотелось ввязываться в безнадежное дело, даже за хорошие деньги. Но и жестко отказывать тоже было не по-человечески.
Решение пришло само собой.
– Давайте вот как поступим, – предложила она. – Я отправляю данные из дела вашего зятя на экспертизу. Есть у нас очень опытный эксперт по ДТП. Он все посмотрит. Если найдет хоть малейшую зацепку – я ваша. Идет?
– Идет, – с облегчением согласился тот. – И пусть посмотрит, почему тела так далеко разлетелись. Я много чего видел в жизни. Но чтоб от удара в разные стороны…
Ольга еще раз взглянула на схему дорожно-транспортного происшествия.
Местоположение жертв действительно напоминало развернутый веер.
И в самом деле, почему так?
Она в присутствии Ишмурзина позвонила их постоянному эксперту, Александру Ивановичу Переверзеву, объяснила ситуацию. В трубке послышался недовольный голос.
– Ну я вас очень прошу, – сказала Шеметова. – Ну кто, кроме вас, способен в этом разобраться?
Когда Ольга Викторовна о чем-то очень просила, отказать ей было сложно. Переверзев обещал дать предварительный ответ до выходных.
А затем внезапно позвонил Багров. Явно бил на жалость. Рассказывал, как ему плохо.
– Без меня плохо? – сурово уточнила Шеметова. – Или с диареей?
– И без тебя, и с ней, – честно ответил Олег. За честность и был прощен. Ну и еще потому, что Ольга сама чертовски по нему соскучилась.
Чтобы не класть трубку, зачем-то пересказала ему трагическую историю потенциального подзащитного.
Багров неожиданно оживился.
– А может, там не одна машина была? Если такой веерообразный разлет тел. – И сам же себе ответил: – А впрочем, какая разница. Вторую, даже если она была, еще искать надо. А этот готовенький, уперся в забор и лег спать в ожидании ментов.
– Вот-вот, – согласилась Шеметова, с сожалением кладя трубку. – В общем, будем ждать заключения эксперта, – сказала она завгару. – Если хоть что-то будет, за что можно зацепиться – я ваша. Если нет, извините.
– Согласен, – быстро сказал Ишмурзин. – А если зацепка будет, можно я вас вместе с Олегом Всеволодовичем приглашу? – спросил он.
– Можно, – усмехнулась адвокат.
Потенциальный доверитель явно хорошо подготовился. Ей уже самой захотелось, чтоб какие-никакие зацепки все-таки нашлись. И тогда… С любимым! В далекую Башкирию! Не вечно же он будет привязан к унитазу.
Глава 1
Кто знает, почему юная Ольга аж с седьмого класса средней школы так стремилась в адвокатуру?
Да все знают.
Потому что других причин у романтических дурочек, как правило, не бывает. Ну не за деньгами же? Если бы послушалась родителей, не одобрявших ее выбор, имела бы много больше. С ее-то умом и настойчивостью.
Однако не послушалась.
О чем еще ни разу не пожалела.
Ольга Шеметова защищала всех с детства. Куклу – от любимой, но вспыльчивой сестры, которая могла отбросить надоевшую игрушку. Как можно? Она же беззащитная. Дворового пса (они тогда еще в Воронеже жили) от их дворника. Не злой, в общем-то, дядька. Просто выполнял указание начальства. Пока не столкнулся с сумасшедшей Олькой. Громким плачем, бессовестной лестью и даже конфетами из родительского шкафчика будущая адвокат добилась-таки своего. Дружку было высочайше даровано право жить при дворе на подаяния жильцов их двухэтажного дома.
Потом она защищала одноклассников перед учителями и учителей перед одноклассниками. Практически для каждого случая девочка находила если не оправдательные аргументы, то по крайней мере смягчающие обстоятельства.
На самом деле она просто была веселым и добрым ребенком, причем второе качество оказалось определяющим. Так что в седьмом классе ее главное предназначение всего лишь оформилось вербально, не претерпев при этом никаких изменений по существу.
Ну и, конечно, мечты стали более конкретными.
Одна из «мечт», которую она могла прокручивать в мозгу подолгу, был ее будущий адвокатский триумф.
Визуальное оформление, как правило, заимствовалось из зарубежных фильмов. Невиновного загоняли под смертный приговор злобные негодяи и парочка лжесвидетелей. Судья, непременно в парике и мантии, в общем-то справедливый, но слегка сонный. Типа, докажете вину – отправлю на электрический стул. Докажете невиновность – отпущу домой. Без эмоций, ничего личного.
Гонители устраивали западню, лжесвидетели лжесвидетельствовали, судья сонно кивал и поднимал для удара молоточек, разрешая занести доказательства вины в протокол.
Но не тут-то было! Ударить молоточек не успевал.
– Протестую! – звонко кричала в мечтах Ольга Шеметова, после чего парой острых вопросов громила напрочь логические построения супостатов. Затем она выводила в зал припрятанных для эффектного конца свидетелей. Те прилюдно разоблачали злодеев.
Судья в изумлении теребил парик, после чего просыпался окончательно и приказывал заковать противную сторону в наручники, а несчастного оклеветанного немедленно освободить. К нему, еще не верящему в свое освобождение, бросалась радостная семья, забыв, как водится, поблагодарить спасителя-адвоката. Ольга легко прощала их, потому что, мечтая подобным образом, она уже получала свой кусочек адвокатского счастья.
Очень ей, кстати, нравилось мысленно выкрикивать «Протестую!» Настолько нравилось, что она даже расстроилась, узнав, что в российском судопроизводстве подобное не предусмотрено.
Адвокаты у нас не протестуют, а ходатайствуют перед судьей. Даже чтобы покинуть зал для посещения туалета, по закону требуется устное ходатайство. Не все законы, понятное дело, соблюдаются до буквы, но в наших судах героические протесты адвокатов действительно не прокатывают.
Еще более расстроило первокурсницу Шеметову, что отечественные адвокаты практически никогда не отыскивают настоящего убийцу вместо своего оклеветанного подзащитного. Впрочем, и в американских судах этого также никогда не происходит.
Разве что в американских детективах.
И наконец, окончательно она стала адвокатом, лишь поняв вообще непредставимую в начальном, романтическом периоде вещь. Оказывается, можно всю жизнь проработать блестящим (без преувеличения) и эффективным защитником, НИ РАЗУ не добившись оправдательного приговора!
Причем не только потому, что наши суды тяжко больны обвинительным уклоном. Это тоже, к несчастью, имеет место. Хотя главная причина, конечно, в другом: невиновных судят в десятки раз реже, чем виноватых.
Случись подобное понимание лет на пять раньше – это был бы крах мечты. Теперь даже оно ничего не меняло: побывав в многочисленных ИВС, СИЗО, зонах и тюрьмах, Шеметова уже прекрасно понимала, что такое для зэка получить свободу на пять лет раньше. Или сменить лагерь на колонию-поселение. Или вместо реального срока получить условный.
В общем, в адвокатской жизни всегда найдется место подвигу, даже если в результате судья не скажет подсудимому о его полном оправдании.
И все же, все же, все же…
Даме слегка за тридцать, а нет-нет, да возмечтает.
Уже без звонких «Протестую!» Но чтобы судья, в конце длинного зачитывания приговора, произнес-таки заветную фразу об оправдании подсудимого.
Ох и пир она закатит в конторе…
Впрочем, пока мечта так и оставалась мечтой.
Обо всем этом Шеметова думала, несясь со страшной скоростью по тротуару, как большая комета рассекая падавшую с небес сырую морось.
Солнца в Москве не видели уже неделю, а серые тучи как нависали над столицей, так и продолжали нависать.
Одета адвокат была так, что, встреть ее сослуживцы, могли бы и не узнать. Она была девушка крупная, да и руки хотелось иметь свободными, поэтому закрылась от летящих с неба брызг не зонтом, а серой драповой курткой с болоньевым покрытием. Голову Шеметовой «украшал» капюшон, под которым, в свою очередь, имелась шапочка.
Причин для спешки было несколько.
Первая: у любимого близился день рожденья, надо закупить вкусностей. Одна такая вкусность уже оттягивала ей правую руку: высоко ценимый Багровым сливовый сок в доисторической трехлитровой стеклянной банке. Банка была столь огромной и тяжелой, что ее приходилось таскать в тщательно сберегаемой для этой цели, тоже советского изготовления, прочнейшей сумке-авоське.
Вторая причина спешки: в поганую погоду не хочется долго торчать на улице. Самотечная не зря же так называется. После дождей, тем более затяжных, по ней дружно сбегают потоки воды. А кое-где не сбегают, особенно возле забитых ливневок, а образуют довольно-таки коварные лужи.
И наконец, третья, главная: Шеметова, несмотря на свой не самый маленький размер, никогда ничего не делала медленно. Разве что доверителей своих выслушивала не торопясь, чтобы не создавать у них ложного и обидного ощущения, что их проблемы для нее не главное.
Кстати, о размере.
Адвокат откровенно гордилась своим и впрямь ладным телом. А объемы – они ведь хороши или плохи только в том смысле, что украшают или портят внешность владельца.
В данном конкретном случае точно не портили.
У Ольги сегодня был свободный день. Он случился неожиданно: отменилось сразу два посещения подзащитных. Одно в СИЗО, там начался карантин по гриппу. Другое в суде. Здесь инициатором выступала сама Шеметова, потому что ее присутствие или отсутствие ровным счетом ничего не меняло.
Дело было тривиальным, относительно быстро закончилось, и сегодня судья должна была зачитать приговор.
Дашенька, ее подзащитная, наверное, хотела бы, чтоб Ольга присутствовала. Но, как женщина умная, приняла Ольгины резоны. Сказала, что выслушает сама, после чего перезвонит адвокату. Правда, и приговор не предвещал ничего ужасного: до двух лет условно максимум.
Шеметова обошла большую лужу, собираясь обдумать, что еще купить ко дню рожденья любимого. Но вместо этого мысли, как обычно, сами по себе вернулись к работе. Может, стоило все-таки пойти в суд? Все равно не удается отвлечься.
История вроде как стандартная, однако с очень необычными вкраплениями. Приехала десять лет назад в столицу таджикская девочка Дилхох. Хоть перевод ее имени весьма поэтический – любимая, однако уже на следующий день Дилхох стала Дашей, так всем оказалось проще.
Кстати, в Москву она попала далеко не по стандартному варианту полуграмотной гастарбайтерши. За плечами у девушки было фельдшерское училище, большая любовь к медицине и желание стать дипломированным врачом-окулистом. А еще был у двадцатидвухлетней таджички любимый ребенок, мальчик Фируз. Любимого мужа не было, так как в девятнадцать лет она была просто украдена крепким состоятельным мужчиной из-под Куляба. Тот случайно углядел ее в городе, куда приезжал по своим делам.
– Ужас какой! – искренне сказала Шеметова, слушая рассказ доверительницы. – Он тебя изнасиловал?
– Нет, – усмехнулась та. – Что толку сопротивляться? Сама разделась. Иначе бы побил.
– А… полиция? Суд? – по инерции спрашивала адвокат, уже понимая, что спрашивает зря.
– Какая полиция, – отмахнулась Даша. – Даже мои родители ничего не могли поделать. Мама по телефону сказала «терпи, раз уж так вышло». Вот я два года и терпела. Тем более, он разрешил окончить училище. – За все время знакомства Даша не раз рассказывала Шеметовой о своих мужьях, при этом именуя их только местоимениями.
– А как удалось уехать?
– Раньше он меня с сыном вместе не отпускал. В медучилище и обратно. А тут я сказала, что нужно Фируза прививать от полиомиелита, завтра вернусь. Вот и уехала.
Дальнейший Дашин путь оказался не менее драматичен. Родители помогли девушке быстро и тайно покинуть город, дали денег, сколько смогли.
Экзамены в московский вуз Даша сдала неплохо, хотя с трудом пока представляла, как будет оплачивать учебу: отец присылал перевод ежемесячно, однако этого бы не хватило. Впрочем, работы Даша никогда не боялась.
Единственное ограничение – работа не должна была мешать учебе.
Именно такая и нашлась: ночной уход за пожилым нездоровым человеком. Профессор Иван Федорович Букин, крупный ученый, юрист. В свое время имел все, был обласкан властью, да и объективно здорово работал.
Впрочем, старость и болезни уравнивают победителей и неудачников.
К моменту знакомства Даши и Букина тот мог только тихо разговаривать.
Даше было интересно. Ей все было интересно, что выходило за круг ее привычных представлений о жизни. Поэтому Иван Федорович обрел в ее лице не только ночную сиделку с медицинскими навыками, но и внимательную слушательницу. Даже не ясно, что было для него важнее.
Новой сиделке были очень благодарны и члены семьи: Варвара Петровна Букина, пожилая жена профессора, и их поздний ребенок, ныне – владелец адвокатского бюро, Федор Иванович Букин.
Лет ему было сильно за тридцать, уже с лысиной и брюшком, но чертовски умен, весь в папу.
Они реально увидели, что к ежевечернему приходу юной таджички старик-Букин буквально оживает. Варвара Петровна даже ревность некую испытала, чувство, которое вроде бы давно забыла. Однако была по-прежнему приветливой с медичкой-сиделкой. По нынешним временам найти подобное, да еще за такую цену, было бы сложно.
Цена же появилась не по рыночным основаниям. Просто Даше срочно нужно было вносить деньги за снимаемую комнатенку, и она согласилась на первое же предложение, вычитанное в рекламной газете.
На третий месяц работы диспозиция определилась окончательно. Даша, приходя на дежурство, уже была уставшая: она ведь по-честному пахала в институте, в отличие от многих других более обеспеченных студентов. Это не мешало ей скрупулезно выполнять все предписания врачей, назначенные лежачему больному. А потом выслушивать его долгие рассказы. На сон оставалось буквально несколько часов, которых хватало лишь ввиду молодости и энтузиазма. К счастью, Фируза удалось пристроить в таджикский «самопальный», а потому недорогой, детский садик. В пятнадцатимиллионной Москве появились и такие.
В общем, красота девчонки от жизненных тягот не увядала. А проявившаяся от недосыпа бледность делала ее еще более привлекательной. По крайней мере, в глазах младшего Букина, Федора.
Как-то незаметно он стал появляться дома чаще, специально подгадывая под вечер. Особенно после того, как отвез мамашу, Варвару Петровну, на дачу. Старика не повезли, врачи не советовали. Да и Даша не смогла бы ездить к нему за город.
Теперь даже после того, как Букин-старший засыпал, Даша все равно не имела заслуженного покоя. Сначала она пила на кухне с Федором чай. Ей было неудобно отказываться.
Потом он пригласил ее на часок посидеть в кафе. Вот тут отказалась. Федор был ей вполне интересен, очень умный и образованный человек. Но она не могла бросить вверенного ей пациента.
Это, несмотря на некоторую досаду, тоже понравилось Букину-младшему. Его московские девушки вряд ли предпочли бы сидеть скрюченными в кресле рядом с больным, вместо похода в ресторан. В конце концов, полтаблетки снотворного для профессора можно смело заменить целой – ему уже вряд ли что-то могло серьезно повредить.
Прошел еще месяц, и Федор понял, что всерьез увлекся Дашей.
Та, в принципе, была не против, хотя больше ценила конкретно в этом мужчине не тело, а интеллект. Все пресловутые восточные запреты таджичку не пугали. В конце концов, когда помимо Дашиной воли забирали ее девственность, про запреты никто не вспоминал.
Ну так и не надо их вспоминать вовсе.
Однако девушку сдерживало ее двусмысленное положение. Ей не хотелось бы стать содержанкой.
Лучше меньше, да свое.
В итоге загоревшийся Федор предложил ей замужество.
Она, ошарашенная, сообщила про Фируза. Он задумался и пропал на неделю. Потом по телефону уже открыто предложил ей сожительство. Мол, снимет квартиру, будет приезжать по меньшей мере через день.
Получил вежливый отказ. Все же Даше не хотелось сожительства. А молодого Букина, похоже, заело всерьез. Видать, у него все мысли теперь крутились вокруг ладного Дашиного тела. И еще через месяц он, не таясь отца, предложил его сиделке руку и сердце.
Отец погрустнел, Даша же испытала странное чувство. Да, любви особой к Федору не было. Но и романтизм ее окончился навсегда еще в тот вечер, когда она, смахивая слезы, быстро раздевалась в чужой комнате перед чужим мужчиной, а он, улыбаясь, легонько похлопывал ее по заду, как удачно прикупленную по случаю лошадь.
Единственное, что сделала девушка: дала ему и себе две недели «каникул». Предложила считать, что ничего не было сказано.
Если через две недели сказанное будет повторено, значит, тому и быть.
В общем, когда Варвара Петровна вернулась с дачи, она, к своему ужасу, увидела серьезнейшие изменения в личной жизни сына.
Да и в своей тоже. Ну не могла московская профессорша на полном серьезе стать свекровью таджикской гастарбайтерши!
А ее никто и не спрашивал.
Через полгода умер старик. Три месяца не дожил до внука, Антона.
Даша жила в квартире Федора, учась в институте и ухаживая за всей своей, теперь уже не такой маленькой, семьей. Фируз жил с ними, отлично ладя со всеми.
Варвара Петровна позволяла себе принимать все, что делала для нее Даша. Однако ненавидеть тихой сапой влезшую в семью змею не переставала. Интересно, что ее ненависть никак не распространялась на Фируза. Она и занималась с ним, и даже в школу устроила специальную, когда возраст позволил. На сына же давила постоянно, чтоб тот выгнал «эту тварь» из дома и нашел себе кого-нибудь поинтеллигентнее. Разумеется, по ее мнению, тварь должна была покинуть хорошую московскую квартиру безо всего, в том числе без детей. Варвара Петровна даже предложила той приличные отступные за Антона и Фируза, но сделка не состоялась ввиду отказа контрагента.
Еще через два года в семье появился Иван. Детки были хорошенькими, смешение рас и наций обычно украшает черты плодов подобной любви.
Даша окончила институт быстрее положенного, она ведь и в училище занималась серьезно. Устроилась на работу, кстати без помощи Федора. Зато с помощью мужа быстро получила российское гражданство. Букин за это время еще больше раздобрел, полысел и заработал денег. В его бюро трудилось уже двенадцать человек, из них восемь юристов. Сексуальное его влечение к Даше, конечно, уменьшилось. А вот спокойная любовь, замешанная на уважении и общих интересах, к сожалению, так и не появилась.
Бабушка же, продолжая безумно любить внуков, включая вроде бы чужого Фируза, не переставала настраивать сына против гастарбайтерши-жены.
«Карфаген должен быть разрушен!» – вспоминается в подобных случаях. И как правило, Карфаген при подобных обстоятельствах разрушается…
В итоге ровно через пять лет после заключения брака Федор уже был готов согласиться с Варварой Петровной. Но не был готов покупать Даше отдельное жилье. Да и отдавать в случае развода своих кровных детей бывшей жене тоже не собирался. Фируз, в отличие от Варвары Петровны, его не волновал.
По этой ли причине или по какой-то другой, соседи с недавних пор стали замечать разные странности в поведении старой женщины. Участковый получил заявление Варвары Петровны об избиении. Избивала же ее, согласно тексту, как не сложно догадаться, Дилхох Акбаровна Букина, невестка, то есть жена сына.
Был ли причастен к заявлению ее сын, история умалчивает.
Вообще такие дела доказать довольно сложно. Домочадцев избивают, как правило, без свидетелей. Вот и здесь судья был вынужден довольствоваться лишь косвенными свидетельствами.
Справка травмпункта подтвердила «легкие телесные». А бабушкины жалобы подтвердили соседка и сын, Федор Букин. Но ни она, ни он не являлись свидетелями произошедшего. Из фактов опять имелись лишь ссадины.
Варвара Петровна утверждала, что результатом преступных действий стал также гипертонический приступ, однако эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть было невозможно.
У Ольги тоже не имелось (да и не могло иметься) фактов, четко опровергавших слова «потерпевшей». Единственное, что удалось «намыть»: свидетельство терапевта из поликлиники. Бабушка жаловалась тому, что стала часто терять равновесие и уже несколько раз падала. Это даже было внесено в историю болезни и могло, в принципе, объяснять наличие ссадин и синяков.
Был еще вариант опросить детей. Но здесь уже намертво встала Шеметова.
– Какой смысл, Ваша честь? – взывала она к судье, строгой немолодой женщине, внимательно слушавшей выступающих. И в самом деле, согласно закону, опрашивать детей в суде можно только в крайнем случае, и только в присутствии близких. А близкие-то кто? Те, кто судятся.
Любимые мама и папа. Да еще любимая бабушка.
В результате дети испытают боль и жестокий удар по неустойчивой психике. А что получит суд? Да ничего не получит, все равно будут сомнения в собранных таким образом доказательствах.
Ольга выступала с такой позицией не потому, что так было лучше для ее подзащитной. Просто это была ее позиция по данному вопросу.
Судья согласилась с доводами защиты, и детей суд так и не заслушал.
Ясно, что дело по сути было плевое. Оно однозначно попадало в разряд частных обвинений. То есть ущерб был причинен лишь одной стороне, да и то минимальный. Общественные интересы не затронуты. Такие судебные заседания даже без прокурора проходят. И, что очень важно, дела частного обвинения могут быть прекращены примирением сторон. Эту возможность в схожих ситуациях часто использовала Ольга.
Но только не в данном конкретном случае.
Варвара Петровна и слышать не хотела о примирении. А Букин вообще молчал, справедливо полагая, что чем меньше он в присутствии въедливого адвоката говорит, тем легче будет в суде его адвокатам.
Итак, теоретически доказать вину человека в бытовом избиении, происходившем, как правило, за закрытыми дверями, почти нереально. А значит, опять же теоретически, должно последовать оправдание подсудимого за отсутствием состава преступления, ввиду того, что «объективная сторона состава преступления не нашла своего подтверждения в судебном заседании».
Но только не в нашем суде, где любой попавший на скамью подсудимых уже наполовину виноват. Особенно если интересы потерпевших защищает мощная адвокатская контора. Такая, как, например, адвокатское бюро Букина.
Ольга часто размышляла на эту тему.
Пожаловалась женщина на соседа. Показала фингал под глазом. Доказать вину соседа, как сказано выше, почти нереально. Однако его почти всегда осудят. Не жестко, наверняка штраф или условно.
Несправедливо? Несомненно.
А теперь посмотрим с другой стороны.
Сосед регулярно избивает женщину. Глумится, можно сказать.
Но доказать-то ничего нельзя! Он же не под видеокамеру это делает!
Вот вам и вторая сторона одной и той же проблемы.
Наверное, оттого и сложилась такая правоприменительная практика. Ведь случаев, когда соседка клевещет, несравнимо меньше, чем когда сосед бьет…
Шеметова отработала против Букинской юридической армады на совесть. Все показания свидетелей обвинения были ею фактически опорочены. Ведь строились они на одном и том же: рассказе потерпевшей. Ни одного «стороннего» доказательства суд от адвокатов Варвары Петровны не услышал.
Ну а что будет в конце – какая разница?
Три месяца условно. Или полгода условно.
Понятное дело, состоявшийся доктор-окулист вряд ли попадется в лапы уголовного суда еще раз. Да и ее разводом с Букиным уже занимается серьезнейший юрист, Волик Томский. С подачи Ольги, разумеется.
И все же схема, когда суд назначает наказание не из обстоятельств дела, а из сложившейся практики, раздражала Шеметову. Может, потому и не пошла Ольга на заключительное заседание, чтоб опять не стать свидетелем победы статистики над законом. Особенно когда статистика направлена против ее конкретного подзащитного.
– Все! Хватит! – вслух сказала себе адвокат, не прекращая свое быстрое перемещение по полузатопленной Самотечной. – Я не на работе! Я иду покупать возлюбленному вкусняшки!
На нее подозрительно посмотрел прохожий, а Ольга звонко рассмеялась. Нет, похоже, спасенья от вездесущей работы у нее в этой жизни не будет никогда.
И слава богу!!!
Именно в этот жизнеутверждающий момент Шеметова поскользнулась.
– Чертов каблук! – воскликнула она, услышав характерный звук. И едва успела подхватить вырвавшуюся из руки авоську с трехлитровым баллоном сока.
Поймала! Спасла, можно сказать!
Но осознала это Шеметова, уже плотно сидя в довольно глубокой луже. И прижимая к груди спасенную стеклянную банку.
К ней на помощь поспешил интеллигентный мужчина. Однако, несмотря на интеллигентность, он не мог сдержать смеха. Ну конечно! Талантливый адвокат в центре лужи на Самотеке. Это же так смешно!
– Так вам помочь? – спросил спаситель, протягивая руку. Он наконец сумел подавить смех, но улыбка никуда не делась.
– Сейчас, только по телефону отвечу, – вальяжно сказала Шеметова, доставая громко зазвонивший мобильный. Все равно она промокла насквозь. А отвечать на звонок прямо из лужи еще ни разу не доводилось.
– Алло, Ольга Викторовна! – раздался из трубки радостный крик Даши Букиной. – Я оправдана! За недоказанностью вины! Поздравляю вас! Спасибо огромное!
– Вот он, триумф! – после некоторой паузы сказала Ольга своему спасителю. Мужчина слегка напрягся, однако, к его чести, протянутую руку не убрал.
– Вы не поверите, я чертовски крута! – доверительно сообщила Шеметова уличному рыцарю.
– Почему же, верю, – немного запинаясь, ответил тот. – Но лучше бы вам все же встать.
– Может быть, я даже – лучшая, – с гордостью закончила свою презентацию Ольга и, опершись на крепкую руку, приняла наконец вертикальное положение.
Глава 2
В пустом ночном трамвае ехала компания из трех человек.
Сема Вилкин был невысок и, аккуратно выражаясь, не накачан. Однако вид имел собранный, чрезвычайно целеустремленный, что делало бы его чуть более представительным, если бы не постоянно отсутствующий взгляд. Точнее, не так. Он то весь уходил в себя, то возвращался в суетный мир с горящими глазами. То, соответственно, вновь воспарял в какие-то лишь ему ведомые выси.
Наверное, так и должен выглядеть гениальный поэт.
Вилкин писал стихи не часто, а лишь в момент прихода высокого вдохновения. Зато делал это так, что сопровождавшие его повсюду Зая и Циркуль ощущали ценность своих жалких жизней.
Зая и Циркуль были ценители и почитатели поэтического таланта Семена. Пока единственные (хотя были еще несколько человек, разбросанных по неформатным самодельным литобъединениям). Они никогда не называли его по фамилии, а лишь Семой, либо Великим, такой псевдоним казался им соответствующим Семиному дару.
Зая (в прошлом Саша Коношеева) была высокая и полная девочка лет восемнадцати, крашеная блондинка с пухлыми губами и восторженными глазами. Наверное, она бы могла выглядеть симпатичной. Если бы захотела.
Видать, не особо парилась по этому поводу. Иначе бы не обходила косметику стороной. А главное, никогда бы не носила эту ужасную шинель. Шинель была не похожа на солдатскую, она была именно солдатская.
Единственно, что сильно украшало ее слегка одутловатое лицо, это выражение спокойной, неэкзальтированной радости.
Всю школу она мучилась от жестокости детей, издевавшихся над ее лишним весом. Наверное, не зря мучилась. Потому что теперь она действительно была счастлива, что нашла главное дело своей жизни. Зая заботилась о гении. Ее даже не очень волновало, что Сема не обращает на нее внимания как на женщину. Может, это и правильно: она ведь тоже восторгалась Семеном Великим не как мужчиной.
Ну а Циркуль в их компании был третьим и точно не лишним. Потому что он тоже был восторженным почитателем поэзии Семена. И еще потому, что он, единственный из троицы, родился в Москве. Ввиду чего, после отъезда родителей в длинную загранкомандировку, у него имелась совершенно пустая двухкомнатная квартира рядом со станцией метро «Бауманская».
Циркуля вообще-то звали Алексеем Петренко, и он был старше обоих своих спутников, не так давно разменяв третий десяток.
Сколько лет было Семе, точно не знал никто. Возможно, даже сам Сема. На вид он вряд ли сильно отличался по возрасту от Заи. Паспорт он потерял еще год назад, а в полицию за новым идти не хотел, потому что наличие или отсутствие паспорта никак не влияло на его творческую потенцию. Да и зачем говорить о возрасте гения? Он в любом возрасте гений.
Трамвай не торопясь ехал от трех вокзалов в сторону Бауманской. Циркуль устал и хотел спать. Зая тоже хотела спать, но ей еще следовало накормить Семена, который сам вполне мог забыть поесть. Да и Циркуля тоже надо было накормить, потому что он хороший.
Ехать им оставалось минут семь. Трамвай тормозил и замирал на короткое время на остановках, водитель распахивал двери, но никто не входил и не выходил.
– А может, я больше вообще ничего не напишу? – вдруг испуганно спросил вернувшийся из своего космоса Семен.
– Что ты такое говоришь, – попыталась успокоить его Зая. – Ты с этим родился.
– Я с этим и умру, – пробурчал Великий, вызвав серьезнейшую озабоченность девушки. Она знала: больше всего на свете большой поэт боится потерять свой дар. Больше жизни.
Гораздо больше жизни.
Девушке уже пришлось однажды перевязывать правую кисть поэта, когда тот, в ярости от собственной бессловесности и бесчувственности, полоснул по запястью ножом. Было много крови, очень много, и еще больше страха. Семену-то плевать, он не боится ничего. А Зая, сердцем ощущая глубину своей ответственности, страшно опасалась таких перепадов в настроении мэтра. Особенно сейчас, когда он уже полторы недели ничего не писал. Тогда, с ножом и кровью, перерыв был меньше, всего неделя. И то, к каким последствиям это привело. Вернее, могло бы привести, если б не Зая и Циркуль.
Кстати, насчет Циркуля Зая подозревала, что вообще-то он не такой уж поклонник поэзии. Впрочем, это его дело: главное, что Лешка – поклонник Семиного таланта и их верный друг.
Ну и квартира тоже немаловажна. Хотя Зая знала: если бы Циркуль не был Семе духовно близок, Великий спал бы в любом подвале. Этот поэт не шел ни на какие компромиссы со своими чувствами и ощущениями.
Саша незаметно потрогала деньги, лежавшие в наружном кармане шинели. Четыре тысячные бумажки были соединены металлической скрепкой.
Сегодня они не понадобятся. Дома есть и крупа, и молоко: поэт охотно ел манную кашу, как ребенок. Хотя на вершинах своего отрицательного или, наоборот, положительного настроения Семен мог вообще ничего не есть сутками. Это уже Зая следила, чтоб он что-то съел.
За аппетитом Циркуля следить не было нужды, он всегда готов пожрать. Однако, когда порой денег не было, он тоже старался сначала накормить поэта.
Жила троица на разные, но всегда небольшие, деньги.
Что-то присылали родители Циркуля, ведь сам он не работал. Что-то зарабатывала Зая: ее тульская спецшкола поставила своим ученикам добротный английский, и Саша занималась краткими рецензиями для редакции иностранной литературы. Такая работа не напрягала: и деньги, пусть и небольшие, шли в карман, и удовольствие от чтения было. А самое главное, выполнять эту работу можно было, ни на минуту не прекращая основной миссии: обеспечения материальной, земной жизни гения.
Зая вспоминала, как в самом начале знакомства не могла понять: Семену всерьез все равно, чем, например, питаться и питаться ли вообще? Воспитанная среди обычных, ординарных людей, она была поначалу совершенно не готова воспринимать иных. Зато когда реально убедилась в его инаковости, да еще и пропиталась духом его гения, вопрос о цели жизни для Заи отпал сам собой. Вот она, цель жизни: сидит рядом и переживает, что долго не пишется.
Мамуля, конечно, немало пролила слез по этому поводу. Пока восемнадцать не исполнилось, грозилась даже с полицией ее забрать. Мамочка, увидев пару раз Семена, очень боялась, что дочка связалась с маньяком. Пришлось ей объяснить, что она до сих пор девушка, и пока менять свое физиологическое состояние не собирается.
Забавно, но мама, вместо того чтобы успокоиться, заволновалась еще сильнее.
– Вы все в одной комнате живете? – встревоженно спросила она.
– Ну да, – не поняла цели вопроса Зая. – Там две комнаты. В одной Циркуль дрыхнет, в другой мы с Семой.
– И твой гений тебя даже ни разу не попытался… – подбирала слова мама.
– Не-а, – улыбнулась девушка. – Он выше этого.
– Педик, может? – не могла остановиться бедная Заина родительница. Она точно не видела иных людей. А увидев, никак не могла с их инакостью смириться. – Или наркоман? У них, говорят, тоже желание пропадает.
– Нет, мам, – закончила вечер вопросов и ответов Зая.
Сема не был педиком, не был маньяком, не был наркоманом. Он вообще никем не был, кроме одного-единственного измерения – он был поэт.
Возможно, когда-то его сексуальность проснется, стихи-то про любовь он пишет, и Зае придется ревновать его к какой-нибудь вертихвостке. Ну что ж, значит, судьба. Это даже вызовет еще большую ее гордость, ведь она готова все сделать ради него. Не только отдать ему свое тело, но и терпеть, если он предпочтет тело другой женщины.
Вот Циркуль, тот да, пару раз изъявил свои желания относительно Заи. Пришлось ему доходчиво объяснить, что он для нее никто. Точнее, она его любит, и даже очень. Но только как Семиного друга.
Так они и ехали: вместе и одновременно раздельно.
На предпоследней остановке недалеко от их дома двери опять со всхлипом распахнулись, но на этот раз не бесполезно: с улицы вошли трое новых пассажиров.
Польза, правда, выходила какая-то сомнительная – уж очень они походили на невысокого полета гопников.
Трамвай тронулся, а парни уже подходили к поэту и его группе поддержки.
– Кого я вижу! Мишан! – фальшиво обрадовался первый, маленький, с нервным злым лицом. Такие всегда играют роль провокаторов.
Семен не откликнулся. Во-первых, потому что его звали не Миша, а во-вторых, там, где он сейчас находился, этих троих не было.
– Своих не узнаешь, Мишан? – криво улыбнулся маленький и выразительно посмотрел на тупого детину. Похоже, роли были расписаны. Бригадир, третий малый с живыми бессовестными глазами, стоял чуть сзади «торпед».
– Да, Мишан, хреново себя ведешь, – согласился детина, недвусмысленно сжимая и разжимая правый кулак.
Сема медленно пробуждался, в его глазах зажегся интерес. Он с любопытством всмотрелся в лица.
Зая, почуяв беду, встала и вынула руки из карманов. На ее взгляд, ей следовало отдать ублюдкам четыре тысячи. Это полторы рецензии, отработает. Зато выведет из зоны риска поэта.
– Вы мне интересны, – сказал Семен. – Вы как волки. Только общипанные. Вот! – обрадовался он. – Шакалы! Хорошие образы.
– Ты что сказал? – угрожающе надвинулся детина. – Кто тут шакал?
Он был в группе самым сильным, но вовсе не самым опасным. Зая заметила, как их жиган полез в карман куртки.
Она даже страха не испытала.
Просто бросила на главного все свои килограммы и всю ярость. Точнее, страх. И, понятное дело, не только за себя.
Сила есть масса, помноженная на ускорение.
Массы хватало. Ускорения тоже было более чем достаточно.
Она лупила главного руками, коленями, головой и выхваченным у оторопевшего Циркуля зонтом.
Впрочем, оторопел не только Циркуль. Мелкий провокатор отпрыгнул в сторону, детина так и стоял, не в силах уследить за ситуацией. А бандитский главнокомандующий был безжалостно разгромлен. Одна его рука так и застряла в кармане, второй же он смог отразить лишь несколько ударов из великого множества, слившихся в единый блистательный ураган.
Водитель, увидевший в зеркале происходящее, даже полицию не вызвал. Просто остановился и открыл одну дверь.
Туда и выкатилась разгромленная банда, до последней секунды поражаемая руками и коленями девяностошестикилограммовой фурии.
Мат и стоны исчезли сразу, как только закрылись двери и трамвай тронулся дальше.
– Что это было? – весело спросил водитель через динамик. – Кунг-фу? Тхэквондо?
– Это было «не трожь Сему», – тихо ответила Зая, разглядывая саднящие ссадины на кулаках. Коленки тоже болели.
Вот теперь она ощутила страх. У этой твари был нож. Один удар – и Семен уже никогда ничего не напишет.
Охваченная ужасом, она взглянула на кумира.
Тот сосредоточенно стучал по планшету, лицо его было восторженным. Не зря она купила Семе планшет.
Следующая остановка была у дома Циркуля, но они не вышли. Проехали еще полкруга: не срывать же Семена на полуслове! А то, что у него пишется, было видно даже по его счастливому лицу.
До дома добрались в полвторого.
С кашей Зая передумала. Семен заканчивал писать. После этого ему всегда хотелось прочесть друзьям написанное. Какая уж тут каша.
Зая решила, что положительные эмоции в данный момент важнее калорий. А утром она его подкормит.
Циркуль разве что был чуть-чуть недоволен. Но и у него радость за друга-поэта преобладала над чувством несмертельного голода.
И вот Сема поставил последнюю точку.
Все уютно расположились на креслах-подушках, Зая выключила верхний свет и оставила лишь мягкое торшерное сияние.
– Есть, – прошептал Великий. – Два стихотворения.
– Давай, – тоже шепотом ответила девушка. Она и тут не рассталась с шинелью, только теперь накрыла ею ноги. В доме не было холодно, просто Зая не хотела, чтобы поэта отвлекали ее сбитые колени. Промоет и протрет их перекисью, как и руки. Потом. Сейчас же предстояло главное.
– Первое – непонятно о чем, – честно сказал Семен. – «Слова». Поэма.
И, не дожидаясь ответа, без выражения и эмоций начал читать только что родившийся текст:
- Другие дети играли в камешки.
- А он постоянно играл в слова.
- Словами туго, как пальцами – варежки,
- Была набита его голова.
- Он складывал их во всевозможных
- сочетаниях,
- Но, вместо чуши и белиберды,
- Он уезжал без страха в далекие скитания
- С помощью слов,
- реализующих мечты.
- Он сам себе рассказывал про Африку.
- И про себя в ней, смелого и сильного.
- И было в тех рассказах
- много детского,
- Но никогда —
- слюнявого и умильного.
- И вот он вырос. Африка тускнеет.
- Оказывается – там жуткая жара.
- С ручными, дружески настроенными
- тиграми,
- К сожалению, пришлось
- расстаться.
- И жизнь угрюмо подсказывает,
- Что эта потеря —
- не последняя.
- Теперь его игры из Африки
- и из космоса
- Переместились преимущественно
- в среднюю полосу.
- И он играет в кого угодно:
- В своего начальника,
- которых у него несколько,
- И в своего подчиненного,
- которых у него нет.
- Он играет в кого угодно,
- Ни капли не изменившись
- в главном с детского сада:
- Ведь он по-прежнему играет в слова!
- Он дает пищу пародисту, изображая из себя
- Удобную мишень.
- Вот он – свирепая, матерая,
- очень желающая поесть волчица,
- И он же – убегающий от нее
- олень!
- Вот он – директор завода.
- Партизан неопределенного возраста
- с рядом пулевых мет.
- Молодой блестящий лейтенант,
- командир мотострелкового взвода.
- И он же – женщина, худая и черная,
- преклонных лет.
- Почему?
- Да потому что он по-прежнему
- играет в слова,
- Перекатывая их как камешки.
- И ими туго набита его голова.
- Набита, как пальцами – варежки.
- Он проживет массу жизней.
- И вполне возможно,
- Что среди них затеряется одна его.
- Та, которую все считают настоящей.
- А она, все-таки – одна среди многих.
- Хотя остальные считаются
- всего лишь
- игрой слов.
- Но кто разъяснит нам
- Точно и доказательно,
- Где кончается жизнь
- и начинаются слова? Или, наоборот, где кончаются слова
- и начинается жизнь?
- И жила ли конкретная Анна Каренина?
- А если таковой, единственной, женщины,
- согласно документам, не было —
- То сколько их было?
- Десять?
- Двадцать?
- Сто?
- И слава богу, что по-прежнему
- в его руке скрипит перо,
- Ставя вопросы, давая ответы.
- И, посредством вытекающих
- тонкой струйкой
- чернил,
- Иной раз выделяется
- так много света…
Он закончил чтение и минуту подождал.
Циркуль, подвинув свой распластанный на полу мешок к Зае, тихо спросил ее:
– Тебе как? И почему нет рифм?
– Потому что нет, – кратко объяснила она.
– Но сильная вещь? – сам он определять не решался, чувствуя неподготовленность в культурном вопросе.
– У Семы слабых не бывает, – так же тихо ответила девушка. Зая и в самом деле так считала.
Забавно, но до встречи с гением она не особо жаловала поэзию. Максимум, на что ее хватало, – простые стихи о любви и о животных. Теперь же пробирало не по-детски. Зачарованная отзвучавшей мини-поэмой, она не меняла положение, боясь нарушить ощущения.
– И еще одно, – сказал Семен. Он взглянул на планшет. Потом отставил его в сторону и стал читать, так же бесстрастно и бестрепетно, как и первое произведение.
- Рваный ритм усталого мотора.
- В шлемофонах – развеселый джаз.
- Птица, выпадая из простора,
- Высоту теряла каждый час.
- Все как будто было в ней в порядке.
- Булькал в баках сортовой бензин.
- И дрожало в нужной лихорадке
- Скопище металлов и резин.
- Только летчик опытен. Он знает,
- Что бедой закончится полет.
- В Арктике пощады не бывает:
- Лед на крыльях, значит, крылья – в лед!
- А на юге по-другому разве?
- Холодно взглянул, сказал, и вот,
- Леденея, рвутся нити связей.
- Лед на крыльях, значит, крылья – в лед!
– А это как? – зашептал опять Лешка Циркуль, когда Сема замолк окончательно.
– Да никак! – раздраженно ответила Зая.
Она не боялась, что Семен услышит их переговоры и как-то отреагирует: он после чтения какое-то время вообще ни на что не реагировал. Но Циркуль своим жужжаньем мешал ее чувствам. А чувства эти были сильные и хорошие. Точнее, одно сильное и хорошее чувство. Если выразить двумя предложениями, то выйдет примерно так.
Семен пишет гениальные стихи, потому что он – гений. И еще потому, что Зая обеспечивает ему эту возможность.
«Ну и Циркуль немного тоже», – неохотно додумывала она.
– Ты больше не боишься потери дара? – мягко уколола она Великого. Сделала специально. Раз он так болезненно этого опасается, значит, нужно не спеша приучать Сему к острой теме. Причем именно в те минуты, когда все хорошо и стихи пишутся. Будет как своеобразная вакцинация. Она никак не могла забыть размашистые Семины движения и кровь, обильно льющуюся с его запястья.
Нет, такое повторяться не должно. И Зая сделает все, чтобы освободить поэта от его страха.
На самом деле она даже кое-что выясняла через парня знакомой, который работал психиатром в больнице. Тот, внимательно выслушав, предположил, что у Семы (фамилий она, разумеется, не называла) очевидные нарушения психики. Впрочем, не настолько серьезные, чтобы его непременно госпитализировать (про суицидальный эпизод Зая рассказывать не стала).
Главное, что девушка вынесла из разговора: любые сильные психотропные препараты, несомненно, повлияют на его творческие способности. И не обязательно в лучшую сторону.
Парень долго ей объяснял насчет двух зол. В итоге Зая пришла к тому же, от чего ушла. Не будет у Семы двух зол, не станет она ему незаметно подкладывать таблетки (такие мысли сначала были, после кровавого испуга). А просто еще больше приникнет, прикипит к жизни поэта. И не позволит тому сделать с собой ничего непоправимого.
– Я не писал целых полторы недели, – вдруг четко и ясно сказал Великий.
– Ты же только что прочитал два стихотворения, – удивился Циркуль.
– Если б не взрыв в трамвае, их бы тоже не было, – отпарировал тот.
– Какой взрыв? Где ты видел взрыв? – не понял приземленный Лешка.
А Зая сразу поняла.
Взрыв эмоций. Эмоциональный взрыв, вот что имел в виду поэт.
Сема в драке не участвовал. Но он точно не испугался, Зая видела, да и раньше знала. Чувство страха у поэта работало не так, как у других людей. Вот она, например, боялась. И в трамвае тоже. Просто опять выбирала из двух зол. За себя просто боялась. А за Сему – панически. Холодный ужас охватывал. Потому ей несложно было атаковать мерзавца, полезшего за ножом. Так маленькая ласточка стремительно атакует крупного врага, если тот угрожает ее птенцам. Ласточка ведь не взвешивает возможности!
– Похоже, ты больше не будешь бояться потери дара, – вдруг сказала она поэту.
– Почему? – встрепенулся Семен, развернувшись всем корпусом к девушке.
– Потому что мы нашли противоядие, – спокойно ответила Зая. – Чтобы ты что-то написал, достаточно случиться любой эмоциональной вспышке. Помнишь, ссора на рынке? Или когда ты по телеку неожиданно увидел цунами.
– Я потом еще раз смотрел запись и не почувствовал ничего, – мрачно буркнул тот.
– Есть масса способов пережить эмоциональный стресс, – горячо сказала Зая.
– Например?
– Пошли сейчас грабанем прачечную! – вместо ответа предложила она. – Все равно нам рубашки забирать! Только мы должны уложиться в три минуты.
– Почему? – спросил Циркуль. Он не удивлялся идее грабануть прачечную, но каждый раз переспрашивал о какой-то детали.
– Потому что если она на сигнализации, то менты приедут через пять-семь минут.
– А если собак пустят по следу? – боязливо предположил Лешка.
– Из-за трех старых рубашек? – усмехнулась Зая. Несмотря на молодость, девушка была очень практичным человеком.
Они быстро собрались и вышли на полуночную улицу. Здесь было прохладно и ветрено. Моросил дождь.
– Хорошо против собак, – гнул свое Циркуль.
Народу в этой части микрорайона ночью никогда не водилось, хотя с обеих сторон, за буквально двумя-тремя домами, у станции метро и на пешеходной улице (там было полно заведений) народ клубился чуть не до утра.
Лица закрыли Заиными капроновыми платками, она их любила.
Вряд ли на их тихой улочке могут быть камеры, но лучше перестраховаться.
Прачечная находилась в полуподвале. Туда вели три ступеньки, потом железная дверь и одно довольно большое зарешеченное окно.
Осмотрев стенку, лампочки от сигнализации не нашли. Но все равно решили действовать так, как будто она присутствовала.
Еще ничего криминального не сделали, а сердца уже стучали, как молоты.
И – есть!
Сему пробило.
Он вытащил планшет, нажал на кнопку включения, начал что-то лихорадочно записывать. Третье за день!
– Может, не пойдем? – спросил Циркуль. – Семка и так что-то пишет.
– Семен, – спокойно поправила Зая. – Он не Семка, а Семен.
– Да ладно тебе, – попытался успокоить ее Лешка, но знал, что парой-тройкой таких ошибок вполне может нажить себе врага. И более отказываться от первоначального плана не предлагал.
Зато когда Сема закончил, Циркуль оказался на высоте. Может быть, даже просто незаменим. Откуда у него такой опыт, неизвестно. Однако выяснилось, что он прихватил из дома, из отцовского шкафчика с инструментом, почти метровый ломик – фомку. И более того, мгновенно сорвал им с петель мощный навесной замок на двери прачечной. Саму дверь с лету выбили совместными усилиями Заи и Циркуля.
Первым в разверстую ночную темь вбежал Сема.
Изобразив из планшета довольно мощный фонарик, пустил по стенам рваные кривляющиеся тени.
Поиск Семиных рубашек (одежда других членов коллектива стиралась редко и без изысков, дома) представлялся невыполнимой задачей. Покрутившись с минуту в мешанине из кромешной тьмы и яркого светодиодного огня, ребята выскочили на улицу.
Из трофеев имелся лишь механический карандаш, который Семен зачем-то прихватил со стойки.
Сердце Семы во время преступного акта так сильно билось не зря.
Еще через час он усладил слух верных друзей очередным шедевром.
Да и с уворованным карандашом он знал, что делал.
И через день, и через два, когда Семен брал в руки свой трофей, то отчетливо испытывал волнение. Не такое сильное, как тогда, в темной прачечной, но явно той же природы.
Впрочем, уже через неделю карандаш, как источник вдохновения, «эмоционально истощился» и перестал помогать с созданием творческого настроения.
А креативная группа, соответственно, начала разрабатывать свой следующий преступный план.
Глава 3
В их старой адвокатской конторе чемпионом по полным оправдательным приговорам в уголовных процессах был, конечно, Гескин. За полвека активной практики он имел четыре подобных случая. За ним шел Олег, однажды добившийся оправдания парня, обвиненного во взломе палатки. Багров сумел найти безупречное алиби, подтвержденное МВД-шными фото- и видеодокументами. Парень, оказывается, в хлам пьяный, был доставлен полицейскими другого района в «обезьянник» за плохое поведение. Весь вечер и полночи просидел в сорока километрах от места, где в это же самое время «бомбили» палатку.
А молчал, как партизан, потому что напился вовсе не с женой.
В общем, у Багрова тогда больше сил ушло на улаживание дел с супругой бузотера, чем на судебную тяжбу. Только в этом случае парень был готов признать собственное алиби.
Олег безумно гордился своим оправдательным приговором. И это был, наверное, главный козырь в его бессмысленном, но ожесточенном профессиональном соревновании с Шеметовой.
Теперь же и этого козыря не стало.
К чести Олега, он мужественно перенес уравнивание позиций с любимой женщиной и даже сам сбегал за тортом.
Второй торт принес Гескин. Сказал проникновенную речь, что очень рад видеть рядом с собой людей, ни в чем ему не уступающих.
Ну это приврал старик.
Кое в чем им еще долго придется его догонять.
В мудрости. В осмотрительности и разумной осторожности, весьма полезной как для тех, кого он защищал, так и для него самого. Аркадий Семенович не уставал повторять, что главная удача адвоката – когда он «приносит существенную пользу своему доверителю». Не забывая далее добавить: «не получив при этом проблем и, желательно, заработав деньги».
И, разумеется, Аркадий Семенович на две головы был выше своих молодых коллег в корпоративных связях. Казалось, старик знал всех, причем ни с кем не был в ссоре.
Шеметовой его слова были невероятно приятны. В последнее время Гескин плотно опекал Антона Крымова, их нового адвоката, самого молодого в коллективе. До появления Тошки на его месте в служебной иерархии была Ольга, и хоть взрослая она теперь дама, а все равно иногда обидно. Вот такая странная ревность.
Хотя, с другой стороны, сколько можно ходить в учениках? Учиться надо всю жизнь, а с ученичеством надо заканчивать, как только стал самостоятельным специалистом.
К тому же в разное время опекаемыми Гескиным были и Багров, и Томский. Просто замечательно, что приходят новички, а Аркадий Семенович остается. Подольше бы так.
В общем, посидели душевно, как обычно в их конторке. Кроме вышеперечисленных, была и вернувшаяся из отпуска Валентина Семеновна. Как будто и не уезжала: вынула чуть не изо рта у Волика кусок жирного торта, отодвинула конфеты от Багрова. Ольга и так бы ему не позволила, диабет сладким не вылечишь. Однако суровая контороуправительница не собиралась пускать дело на самотек.
В конце застолья она по-простому спросила Олега Всеволодовича (Шеметова аж зажмурилась):
– А ты, красавец, когда жениться-то собираешься? Мне еще долго ждать?
Олег, в жизни не терявший самообладания, вдруг смутился. Шеметовой не без злорадства пришлось его выручать.
– Вообще-то я не готова, – ответила она. – Или вы не меня имели в виду? – ловко перевела все в шутку адвокат.
– Тебя, тебя, – не смутилась ни разу неделикатная Валентина Семеновна. – Жду еще полгода, – сказала она Багрову строго.
– А потом? – он, похоже, реально напрягся.
– А потом выдам ее замуж, претендент есть. – Это была обоснованная угроза, Валентина Семеновна, движимая своими инстинктами, образовала уже не одну пару, в том числе из застарелых холостяков.
Вечер, как говорится, становился томным.
В этот момент и зазвонил телефон.
Не мобильный, а старинный, черный, конторский. Валентина Семеновна говорила, что он еще при Сталине был. Хотя вряд ли. При Сталине даже сама контороуправительница была крошечной девочкой, грудничком. Но ведь любая легенда придает вещам неповторимый характер. Телефон все так и называли – сталинский.
Ну, может, кроме Гескина.
Он единственный, кто при Сталине прожил изрядный кусок жизни. И не сильно восхищался данным персонажем российской истории.
Трубку снял Тошка.
Ближе всех к телефону сидела Шеметова, зато он был самый молодой. Ольга еще подумала, что готова всю жизнь снимать за всех трубки, лишь бы не терять это качество. Однако увы – не суждено.
Антон перебросился с собеседником парой приветственных фраз и передал трубку Ольге:
– Александр Иванович, – сказал он ей.
Александров Ивановичей в обороте конторы было целых два: сантехник, который давно уже их обслуживал (в древнем конторском здании все трубы были латаные), и эксперт-криминалист Переверзев.
Бас эксперта узнавался с первого звука.
– Оленька, я сделал, что обещал, – сказал он.
– Есть, за что зацепиться? – не слишком надеясь, спросила адвокат. Ей все же хотелось слетать на Урал, она еще никогда не была в тех краях. Ну и если честно, слетать с Багровым, ведь предполагаемый доверитель настойчиво приглашал их обоих.
Когда-то именно в такой поездке завязался их бурный и одновременно, как ни странно, вялотекущий роман.
– Немного, но есть, – сказал он. – Никаких алиби для вашего подопечного не найдено, – сразу предупредил Александр Иванович. – Зато обнаружены совершенно необъяснимые детали.
– Я вся внимание, – собралась в кучку Шеметова. Когда дело касалось необъяснимых деталей, она переполнялась профессиональным энтузиазмом.
– Бампер-переломы[1] у потерпевших не совпадают, – после интригующей паузы произнес эксперт.
– У всех четверых? – спросила Ольга.
Это и в самом деле была интрига.
– В том-то и дело, что нет, – ухмыльнулся на том конце провода Переверзев. – У первых двоих 28–29 сантиметров, а у двоих оставшихся – 52–56.
– Солидная разница, – загорелась адвокат. Если бы у троих этот параметр совпал, а у одной нет, еще можно было бы предположить, что одна из женщин почему-то изменила позу. Да и то, скажем, нагнись она в момент удара, тип поражения костей был бы другим. А здесь две потерпевшие с высотой удара в полметра, и две почти в два раза ниже.
– Да уж, – согласился Александр Иванович. – Одно из двух: либо две покойницы одновременно подпрыгнули, либо в наезде участвовал не один автомобиль.
– Есть еще третий вариант, – машинально отреагировала Ольга. – Две покойницы могли присесть.
Их разговор вовсе не был черным юмором. Такая уж профессия.
Все, кто лично соприкасался с Ольгой, имели доступ к горячей и отзывчивой душе адвоката. Но когда постоянно крутишься в горе, в трупах, в переломах, начинаешь относиться к процессу без особенного почтения.
На разговор, хоть ему была слышна только половина, живо отреагировал Багров.
– Две машины? – спросил он.
– Не одна, – из соображений корректности поправила его Шеметова.
– А что он говорит про разброс тел? – спросил Олег.
– Кстати, такой веер из покойников одна машина тоже сделать бы не смогла, – как будто услышав вопрос, сказал Переверзев.
– Но ведь и не встречные, – задумалась адвокат.
– Точно не встречные, – заверил эксперт.
– Короче, надо ехать, – приняла решение Шеметова.
– А смысл? – не понял Александр Иванович. – Даже если всплывет вторая машина. Ну будет на нем два покойника из четырех. Это что-то сильно меняет?
– Не знаю, – честно ответила Ольга. – Просто я обещала доверителю, что если есть зацепки, то поеду.
– Ну зацепки есть, – не без гордости согласился Переверзев. Он же сам эти зацепки и нашел.
Багров встретился с Ольгой глазами и улыбнулся. Ее уже не вполне юное сердце зашлось от радости. Значит, он тоже хочет поехать с ней вдвоем!
Прилетели ночью в аэропорт Уфы. Оттуда был выбор – на машине или маленьком аэроплане. Радик Алиханович, курировавший их по телефону, машину отсоветовал: в распадках поднимались туманы, очень опасно. Летите самолетом.
Билеты на маленький винтовой борт купили легко. И теперь сидели с ними в зале ожидания. Потому что не только в распадках поднялись туманы, но и на поле крошечного аэродрома Белогорска. Порт самолеты не принимал.
Три часа проторчали в неудобных креслах. Олег спал, Ольга – нет. Впрочем, за три часа она ни разу не обиделась на туман. Потому что сначала уютно и легко дремала на широком плече любимого. Не спала, а именно была в легкой дреме, что не мешало ей предаваться приятным воспоминаниям о прошлом и мечтам о будущем.
Разок только совсем заснула. И тут же проснулась от прикосновения солнечного луча.
Открыла глаза. Они сидели у панорамного стекла, отделявшего зал от летного поля. Начавшийся восход делал постиндустриальную картинку захватывающе красивой. Ольга даже хотела разбудить Багрова, да пожалела: он сладко спал, тихо посапывал. И она в одиночку любовалась медленно выползающим в небо желтым диском.
А потом и посадку объявили.
Когда они дошли до самолета, то невольно замедлили шаг – такой он был маленький. И, похоже, сильно немолодой.
– Долетим? – усомнилась Шеметова.
– Он еще долго будет летать, – успокоил ее пожилой дядька с большим черным портфелем. – Пока не развалится.
Адвокат, успокоенная лишь отчасти, вошла в крошечный салон. Пассажиры, человек двадцать, не больше, сидели по двое.
Двигатели у самолетика были маленькие, но как же они орали, когда пилот включил их на полную катушку! Фюзеляж трясся и дребезжал. Лишь спокойствие человека с портфелем, усевшегося через проход от них, утешало Ольгу. Раз он, опытный, не боится, значит, так и надо.
Неспешно разбежавшись и легко взлетев в воздух, старенькая птичка, плавно маневрируя, нацелила нос на показавшиеся вдали горы. Рев, кстати, сменился ровным гулом. Ольга сначала было опять напряглась, однако дядька-ориентир сидел, не дергаясь, и Шеметова успокоилась окончательно.
Тумана в горах уже не было. С небольшой высоты полета можно было разглядеть и покрытые лесом предгорья, и высокие вершины, и ленты дорог, закручивавшихся в серпантин. Реки попадались нечасто и за редким исключением были нешироки.
Ну что ж, в целом ей нравилось.
Адвокатов встречали прямо у трапа.
Вообще, конечно, не положено. Но то, что не положено простому горожанину, порой не возбраняется начальнику самого крупного (если точнее – единственного) автохозяйства Белогорска.
Уселись в серый цельнометаллический УАЗ-452, в простонародье именуемый «буханкой». Спартанские кресла с железными дугами, почти отсутствующая амортизация и откровенный грохот двигателя, по объяснениям Ишмурзина, с лихвой компенсировались неприхотливостью, а главное, безумной проходимостью аппарата.
Ну и слава богу.
Они на месте и вместе. Ольгу не покидало состояние какого-то душевного подъема.
Подъехали прямо к суду, заседание давно началось, и было оно не первым, а вторым. Обязанности защитника временно выполнял местный юрист.
Суд проходил в главном зале, что объяснялось повышенным общественным интересом к процессу. Он был полон под завязку.
Интерес был явно недобрый. Когда адвокаты зашли в зал, двести пар глаз с ненавистью посмотрели на них. Даже дядька с портфелем, который успокаивал Ольгу в самолете и успел раньше них проехать в суд.
Ну не все, конечно, с ненавистью. Некоторые – просто с неодобрением. Типа защищать москвичи приехали отъявленную тварь. Понятно, что это их работа. Однако работа малоуважаемая.
После кратких формальностей адвокаты вошли в процесс.
Председательствующий судья Гареев Диас Ильярович был совсем молодой, немного за тридцать, высокий брюнет в тонких модных очках. Умные глаза с иронией посмотрели на вновь прибывших.
«Серьезный противник», – оценила его про себя Шеметова. Она не поленилась навести справки, да и всезнающий Гескин помог.
Потомственный юрист, Диас родился в Белогорске и выезжал из него лишь два раза: для того чтобы окончить Московский государственный университет и, чуть позже, чтобы защитить в нем же добротную кандидатскую диссертацию. У Ольги даже было мнение, что они там, в Москве, встречались – уж больно знакомыми показались легкая ироничная улыбка и чистое интеллигентное лицо.
Впрочем, достоинства судьи в данный момент ее мало радовали. Теоретически судья в процессе нейтрален. Однако только теоретически. Парень собственными талантами и усердием выстраивал себе замечательную карьеру: по слухам Гескина, его ждала высокая должность в Уфе. А здесь такое громкое дело, в котором к тому же все действительно ясно. С одной стороны – три трупа и женщина в коме. С другой – потомственный пьяница, до этого убивший за рулем, пусть и не по своей воле, еще троих.
Поэтому Ольга именно судью видела своим главным процессуальным противником. А вовсе не прокурора, хотя именно он должен был выступить в финале с перечнем грехов их подзащитного и длинным списком доказательств этих грехов.
Почему? Потому что прокурор на процессе был попроще: Юрий Евграфович Милин. Он тихо дослуживал до пенсии, никуда особо не рвался. Впрочем, в этом деле прокурору можно было себе позволить расслабиться: на стене висела схема дорожно-транспортного происшествия с отмеченным расположением тел. Убитых женщин знало полгорода. У них осталось шестеро сирот.
