Красный гаолян
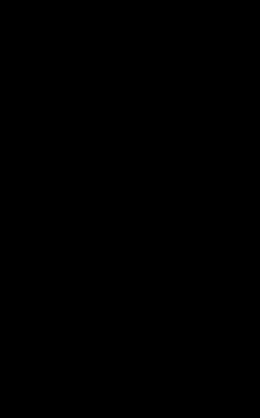
Mo Yan
RED SORGHUM
Copyright © 1987, Mo Yan
All rights reserved
© 1987, Mo Yan All rights reserved
© Власова Н., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Эта книга призывает души героев и души невинно убиенных, что блуждают в моем родном краю по бескрайним гаоляновым полям. Я ваш недостойный потомок. Я хотел бы вырвать из своей груди замаринованное в соевом соусе сердце, разрезать его на куски, разложить в три миски и поставить на гаоляновых полях. Отведайте! Примите же мое подношение!
Часть I
Красный гаолян
1
В одна тысяча девятьсот тридцать девятом году, в девятый день восьмого лунного месяца, мой отец, бандитское семя, которому в ту пору шел пятнадцатый год, следовал за отрядом командира Юй Чжаньао, легендарного героя, чье имя впоследствии прогремело на всю страну, чтобы на шоссе Цзяопин устроить засаду японской автоколонне. Бабушка, накинув на плечи куртку на вате, провожала их до края деревни.
– Дальше не ходи, – приказал Юй.
И бабушка не пошла. Она наказала сыну:
– Доугуань, слушайся своего приемного отца.
Мой отец не проронил ни звука. Глядя на бабушкину дородную фигуру и вдыхая жаркий аромат, вырывавшийся из-под куртки, он вдруг ощутил, что холод пробирает его до костей. Он вздрогнул. В животе заурчало. Командир Юй потрепал отца по голове со словами:
– Пошли, сынок.
Границы неба и земли размылись, пейзаж утратил четкость, а нестройный звук шагов отряда доносился теперь издалека. У отца перед глазами висела туманная голубоватая дымка: он лишь слышал топот солдат, но не различал даже их силуэтов. Отец ухватился за краешек куртки командира Юя и проворно перебирал ногами. Бабушка удалялась от него, словно берег, а туман приближался и, подобно морской воде, бурлил все сильнее. Отец держался за командира Юя, как утопающий за борт лодки.
Так отец стремительно мчался по направлению к своему нынешнему безымянному могильному камню из серо-голубого гранита, который возвышается над ярко-алыми полями гаоляна в родном краю. На могиле уже шелестит трава, и как-то раз голозадый мальчонка привел сюда белоснежного козлика. Козлик неторопливо щипал траву, а мальчонка встал на могильную плиту, со злостью помочился, а потом во всю глотку запел: «Заалел гаолян и пришли япошки! Будем мы по ним палить, товарищи, из пушки!»
Некоторые говорят, что этим пастушком был я, а я не знаю, так это или нет. Раньше я всем сердцем любил дунбэйский уезд Гаоми[1] и точно так же всем сердцем его ненавидел, а когда вырос и стал усердно изучать марксизм, то наконец уразумел, что Гаоми бесспорно самое прекрасное и самое ужасное место на земле, самое возвышенное и самое приземленное, самое непорочное и самое грязное, здесь больше всего героев и больше всего ублюдков, здесь умеют пить вино и любить. Старшее поколение тех, кто жил на этом клочке земли, употребляло гаолян в пищу, а потому каждый год его сажали в большом количестве. В восьмом лунном месяце, в разгар осени, необъятные гаоляновые поля превращались в безбрежные кровавые моря. Стена гаоляна блестела на солнце, гаолян нежно, но печально шелестел, гаолян пробуждал любовь.
Дул холодный осенний ветер, солнце припекало, по синему небу плыло множество белых облаков, над полями гаоляна скользили их пурпурные тени. Отряды бордовых фигурок копошились в гаоляновых зарослях, словно плели паутину, и так десятки лет, пролетающих как один день. Они убивали и грабили, шли на жертвы ради своей родины, многоактный героический балет в их исполнении заставляет нас, недостойных потомков, бледно выглядеть на их фоне. Даже в эпоху прогресса я отчетливо ощущаю вырождение.
За деревней отряд двинулся по узкой тропке, и к звуку шагов примешивалось шуршание травы на обочине. Удивительно густой туман постоянно менял очертания. Морось на лице отца собиралась в крупные капли, прядка волос прилипла к коже головы. Он уже привык к скромному аромату полевой мяты и терпкому, сладковатому запаху созревшего гаоляна, который доносился с полей по обе стороны тропинки и уже не казался чем-то новым или необычным. Пока они двигались в тумане, отец уловил какой-то новый тошнотворный запах, смесь желтого и красного, еле различимо просачивавшийся через ароматы мяты и гаоляна, пробуждая воспоминания, спрятанные в самых глубинах его души.
Неделю спустя, на пятнадцатый день восьмого лунного месяца, наступил Праздник середины осени[2]. Потихоньку взошла полная луна, а по всей земле гаолян почтительно застыл по стойке «смирно», гаоляновые метелки окунулись в лунный свет, словно в ртуть, и заблестели. В мерцающем лунном свете отец учуял тот же тошнотворный запах, который стал сильнее во сто крат. Командир Юй вел его за руку через гаоляновое поле, где лежали вповалку триста с лишним трупов односельчан, а их свежая кровь оросила гаолян, пропитав землю под ним и превратив ее в грязную жижу, в которой вязли ноги. От вони невозможно было дышать, а свора набежавших полакомиться человечиной собак сидела на поле, уставившись горящими глазами на отца и командира Юя. Командир Юй выхватил пистолет и выстрелил – пара собачьих глаз потухла; он снова вскинул руку – потухла еще пара глаз. Собаки с лаем разбежались и уселись поодаль, рыча с подвыванием и жадно глядя на трупы. Вонь усиливалась. Командир Юй заорал:
– Ах вы, псы японские! Гребаная Япония!
Он выпустил в собак всю обойму, и в ту же минуту их как ветром сдуло. Командир Юй сказал отцу:
– Пошли, сынок!
И они, взрослый и подросток, двинулись навстречу лунному свету в глубь гаоляна. Запах крови, разливавшийся по полю, пропитал душу моего отца и впоследствии, в более жестокие и безжалостные времена, всегда преследовал его.
Листья гаоляна шелестели в тумане, а Мошуйхэ – Черная река, что медленно текла по этой болотистой равнине, – журчала; звук то усиливался, то стихал, казался то дальше, то ближе. Они догнали отряд, и теперь отец слышал со всех сторон гулкий топот шагов и тяжелое дыхание. Чьи-то винтовки ударялись прикладами друг о друга, под чьими-то ногами хрустели кости. Впереди кто-то громко закашлялся, и этот кашель показался очень знакомым. Услышав его, отец вспомнил огромные уши, которые наливались кровью всякий раз, стоило их обладателю разволноваться. Эти огромные просвечивающие уши с сеточкой сосудов – отличительная черта Ван Вэньи. Он был маленького роста, с крупной головой, вжатой в приподнятые плечи. Отец присмотрелся, взгляд его пронзил густой туман, и он увидел большую голову Ван Вэньи, подергивающуюся от кашля. Отец вспомнил, как Ван Вэньи ударили на плацу и как жалостливо тогда тряслась эта голова. Ван Вэньи только-только вступил в отряд командира Юя. Адъютант Жэнь приказал ему и остальным новобранцам: «Напра-во!» Ван Вэньи радостно топтался на месте, не понимая, куда надо повернуться. Адъютант Жэнь ударил его хлыстом по заду, и Ван Вэньи выругался: «Твою ж мать!» На лице у него застыло непонятное выражение – то ли плачет, то ли смеется. Дети, наблюдавшие за происходящим из-за низкого забора, расхохотались.
Командир Юй подлетел и пнул Ван Вэньи:
– Что раскашлялся?
– Командир… – Ван Вэньи пытался сдержать кашель. – В горле свербит…
– Пусть свербит, кашлять нельзя! Если ты нас выдашь, башку оторву!
– Слушаюсь! – пообещал Ван Вэньи, но тут же снова закашлялся.
Отец почувствовал, что командир Юй сделал шаг вперед и крепко схватил Ван Вэньи сзади за шею. У того из горла вырвался свист, но кашлять он перестал. Командир Юй ослабил хватку, и отцу показалось, что на шее у Ван Вэньи остались две отметины от пальцев цвета спелого винограда, а в тусклых глазах мелькнула обида, смешанная с благодарностью.
Отряд быстро скрылся в зарослях гаоляна. Мой отец инстинктивно почувствовал, что они движутся на юго-восток. Добраться из деревни до реки Мошуйхэ напрямую можно было только по этой дороге. Днем узкая тропинка казалась бледной – изначально здесь был влажный чернозем, но его давным-давно вытоптали, черный пигмент осел, а на поверхности отпечатались следы коровьих и козьих копыт, похожие на лепестки, и полукруглых копыт мулов, лошадей и ослов; их помет напоминал сушеные яблоки, коровий навоз походил на изъеденные червями лепешки, а козий – на соевые бобы. Отец часто ходил по этой тропе, и позднее, когда в поте лица вкалывал на японской угольной шахте, она не раз вставала перед глазами. Отец не знал, в скольких любовных трагикомедиях, развернувшихся на этой дороге, моя бабушка сыграла главную роль, но я-то знаю. Не знал отец и того, что на черноземе, в тени гаоляна, лежало когда-то обнаженное бабушкино тело, блестящее и белое, словно яшма, – а я знаю.
После того как отряд оказался в гуще гаоляна, туман стал более плотным и менее текучим. Когда тело или поклажа задевали стебли гаоляна, он скрипел от затаенной обиды и ронял на землю одну за другой крупные капли воды. Вода эта была прохладной и приятно освежала. Отец поднял голову, и одна большая капля попала ему прямо в рот. Отец увидел, как в тумане покачиваются увесистые головки гаоляна. Гибкие листья, пропитанные росой, острым ребром, как пилой, задевали одежду и щеки. Ветерок, что раскачивал гаолян, шлепал отца по макушке, а плеск воды в реке становился все громче.
Отец уже много раз купался в Мошуйхэ – такое впечатление, что он умел плавать от рождения. Бабушка говорила, что он к воде тянется сильнее, чем к собственной матери. В пять лет отец нырял, словно утенок, над водой торчали лишь задранный розовый зад да ноги. Отец знал, что тина на дне реки черная как смоль, блестящая и мягкая, как масло. Пологий влажный берег густо порос серо-зеленым камышом и подорожником цвета гусиного пуха, стелилась ковром пуэрария, вверх тянулись жесткие стебли бузины, а на иле отпечатались следы крошечных крабьих лапок. Осенний ветер приносил прохладу, стаи диких гусей летели на юг, выстраиваясь то в линию, то клином. Когда гаолян краснел, целые отряды крабов величиной с конское копыто по ночам выбирались на речную отмель и отправлялись в заросли травы на поиски пропитания. Крабы любят свежие коровьи лепешки и подгнившие трупы животных. Журчание реки напомнило отцу о былых осенних вечерах, когда он с дядей Лю Лоханем[3], работавшим в нашей семье по найму, отправлялись на берег реки ловить крабов. То были ночи цвета сизого винограда, осенний ветер повторял изгибы реки, ярко-синее небо казалось глубоким и необъятным, а зеленоватые звезды светили особенно ярко. Семь ярчайших звезд Северного ковша, ведавшего смертью, Южный ковш, отвечающий за жизнь, Октант, напоминающий стеклянный колодец, лишившийся одного своего кирпичика, тоскующий Волопас[4] собирается повеситься, а печальная Ткачиха[5] хочет утопиться в реке… Лохань проработал в нашей семье несколько десятков лет, отвечал за производство гаолянового вина на нашей винокурне, и отец таскался за ним по пятам, как за родным дедом.
В душе отца, взбаламученной густым туманом, словно бы зажглась керосиновая лампа. Дым просачивался из-под жестяной крышки. Огонек горел слабо, рассеивая тьму лишь метра на три вокруг. Попав в свет лампы, вода становилась желтой, как переспелый абрикос, но лишь на долю секунды, а потом текла дальше, отражая звездное небо. Отец и дядя Лохань, накинув дождевики из соломы, сидели возле лампы, прислушиваясь к тихому, еле слышному, журчанию реки. С бескрайних гаоляновых полей по обе стороны реки время от времени доносятся взволнованные крики лис, ищущих себе пару. Крабы ползут на свет и кучкуются вокруг фонаря. Отец и дядя Лохань сидят тихо, с почтением слушая секретный язык земли. С илистого дна волнами поднимается зловоние. К лампе подползают все новые и новые отряды крабов, сжимаясь нетерпеливым кольцом. Сердце отца трепещет, он уже готов вскочить с места, но дядя Лохань крепко удерживает его за плечо.
– Не спеши! – наставляет его дядя. – Поспешишь – не отведаешь горячей каши!
Отец усилием воли преодолевает волнение и не двигается. Крабы доползают до лампы и останавливаются, цепляются друг за друга, укрывают землю плотным ковром. Их зеленые панцири поблескивают, глаза вылезают из орбит на тонких стебельках, укрытые панцирями рты испускают разноцветные пузыри – так крабы бросают вызов людям. У отца аж солома на дождевике встает дыбом. Дядя Лохань командует:
– Хватай!
Отец тут же вскакивает, и они наперегонки с дядей Лоханем хватают каждый за два угла заранее растянутую на земле невидимую глазу сетку, поднимая ее вместе со слоем крабов и обнажая илистый берег. Отец и дядя Лохань завязывают углы сетки и отбрасывают ее в сторону, а потом так же быстро и ловко хватают следующую. Сетки тяжелые, в каждой несколько сотен, а то и тысяч крабов.
Оказавшись вместе с отрядом в зарослях гаоляна, отец мысленно побежал бочком за крабами, ноги не попадали в свободное пространство между стеблями и топтали их, отчего стебли раскачивались и гнулись. Отец так и не выпускал краешек куртки командира Юя: вроде бы шел сам, но при этом его тащил вперед командир Юй. На него навалилась сонливость, шея одеревенела, в глаза словно песку насыпали. Отец подумал, что когда ходил на Мошуйхэ с дядей Лоханем, то никогда не возвращался с пустыми руками.
Отец ел крабов, пока не затошнило, и бабушка тоже. Аппетита не было, но и выбросить жалко, поэтому дядя Лохань острым ножом нарубил крабовое мясо, с помощью жернова для доуфу[6] растер в пюре, посолил и переложил в глиняный чан; получился крабовый соус, который они еще долго ели, но доесть не успели – он стух, завонял, и остатками они удобрили мак. Я слышал, что бабушка покуривала опиум, но не пристрастилась, поэтому всю жизнь лицо ее оставалось нежно-розовым, словно персик, она пребывала в хорошем настроении, а ум не утратил ясность. На крабовой подкормке маки выросли крупными, с мясистыми коробочками, розовыми, красными и белыми, их сильный аромат бил в нос. В моих родных местах чернозем на удивление жирный и плодородный, а народ здесь живет хороший, моим землякам свойственны высокие устремления. В Мошуйхэ в изобилии водились угри, жирные, как детородные органы, с ног до головы утыканные колючками, такие тупые, что при виде рыболовного крючка тут же его заглатывали.
Дядя Лохань, о котором думал отец, в прошлом году погиб, как раз на шоссе Цзяопин. Его труп искромсали на кусочки и разбросали по округе, предварительно освежевав так, что плоть подпрыгивала и подрагивала, как у огромной лягушки, сбросившей кожу. Стоило отцу вспомнить труп дяди Лоханя, как по хребту пробегал холодок. А еще отец вспоминал, как однажды вечером лет семь-восемь назад бабушка напилась допьяна; во дворе нашей винокурни были свалены в кучу гаоляновые листья, бабушка оперлась на эту кучу, схватила дядю Лоханя за плечи и взмолилась:
– Дядюшка… не уходи… прояви снисхождение… как говорится, не смотри на рыбу, смотри в воду… если не ради меня, так ради Доугуаня… останься… если хочешь меня, так я тебе отдамся, хоть ты мне как отец родной…
Отец помнил, что дядя Лохань отпихнул бабушку в сторону и поковылял в стойло размешать фураж для мулов. У нас дома держали двух больших черных мулов, кроме того, наша семья владела винокурней, на которой производили гаоляновое вино, и в деревне была самой зажиточной. Дядя Лохань тогда не ушел, а остался у нас заведовать винокурней вплоть до того момента, как японцы увели тех двух черных мулов на строительство шоссе Цзяопин.
В этот момент из деревни, которую отец вместе с отрядом оставили за спиной, донесся протяжный крик мула. Отец вздрогнул и широко распахнул глаза, но по-прежнему видел лишь полупрозрачный туман вокруг. Жесткие прямые стебли гаоляна выстроились плотной изгородью за стеной тумана, один ряд переходил в другой, и не было им конца и края. Отец уже не помнил, сколько они шагают по гаоляновому полю, мысли его давно застряли в благодатной речке, журчавшей вдалеке, в воспоминаниях о прошлом. Он не знал, куда они в такой спешке пробираются через дремучий океан гаоляна. Отец перестал ориентироваться на местности. В прошлом году он однажды потерялся в зарослях гаоляна, но в итоге все-таки выбрался, идя на звук реки. Сейчас снова прислушался к подсказкам реки и быстро понял, что отряд движется на восток или юго-восток в ее сторону. С направлением все стало ясно. Кроме того, отец понял, что они собираются из засады нанести удар по японцам и будут убивать людей, как собак. Если отряд и дальше будет двигаться на юго-восток, то вскоре они доберутся до шоссе Цзяопин, которое тянется с севера на юг, разрезая пополам болотистую равнину и соединяя два уездных города, Цзяо и Пинду. Это шоссе построили простые китайцы, которых японцы и их приспешники подгоняли хлыстами и штыками.
Гаолян колыхался сильнее, поскольку люди совсем утомились, падала обильная роса, и у всех намокли головы и загривки. Ван Вэньи кашлял и не мог остановиться, несмотря на брань командира Юя. Отец почувствовал, что они вот-вот выйдут к дороге, ее бледно-желтые очертания уже покачивались перед его взором. Незаметно в море тумана стали появляться прорехи, из которых на отца пристально и тревожно глядел мокрый от росы гаолян, а отец в ответ с почтением смотрел на гаолян. Внезапно его осенило, что гаолян – живое существо: пускает корни в чернозем, подпитывается лучами солнца и блеском луны, его увлажняют дожди и росы, он разумеет, как все устроено на небе и на земле. По цвету гаоляна отец догадался, что солнце уже окрасило горизонт, скрытый за гаоляном, в жалобно-красный цвет.
Внезапно произошло кое-что неожиданное. Сначала отец услышал, как у самого уха что-то просвистело, а потом впереди раздался такой звук, словно что-то разорвалось на части.
Командир Юй взревел:
– Кто стрелял? Сукины дети, кто стрелял?!
Отец услышал, как пуля пронзила туман, прошла сквозь листья и стебель гаоляна, и метелка упала на землю. Пока пуля с пронзительным свистом летела по воздуху и потом куда-то свалилась, все на миг затаили дыхание. В тумане разлился сладковатый запах пороха. Ван Вэньи запричитал:
– Командир, остался я без головы… командир…
Командир Юй бросил отца и зашагал вперед в авангард. Ван Вэньи продолжал стонать. Отец подошел и увидел, что лицо Ван Вэньи приобрело странный вид и по нему стекает темно-синее нечто. Отец протянул руку и дотронулся – жидкость оказалась горячей и липкой. Отец уловил запах – почти такой же, как у ила в реке Мошуйхэ, только резче. Он перебил нежный аромат мяты и сладковатую горечь гаоляна, пробудив в памяти все более навязчивые воспоминания, и, словно бусы, нанизал ил реки Мошуйхэ, чернозем под гаоляном, навеки живое прошлое и неотвратимое настоящее. Порой от всего сущего может исходить запах человеческой крови.
– Дядя, – сказал отец. – Ты ранен!
– Доугуань… Ты ведь Доугуань? Посмотри, у дяди голова все еще на месте?
– Да, на месте, вот только из уха кровь идет.
Ван Вэньи пощупал ухо, перепачкал всю руку в крови, взвизгнул и рухнул на землю.
– Командир… я ранен! Я ранен! Ранен!
Командир Юй вернулся, присел на корточки, схватил Ван Вэньи за горло и, понизив голос, прошипел:
– Ну-ка умолкни, не то я тебя прикончу!
Ван Вэньи перестал охать.
– Куда ранило? – спросил командир Юй.
– В ухо… – со слезами ответил Ван Вэньи.
Командир Юй вытащил из-за пазухи белую тряпку, с виду похожую на платок, с треском разорвал пополам и вручил Ван Вэньи.
– Пока просто приложи. И молча иди. Как доберемся до шоссе, так перевяжем.
Командир Юй позвал:
– Доугуань!
Отец откликнулся, командир Юй взял его за руку и повел за собой. Позади плелся Ван Вэньи, что-то бормоча себе под нос.
А случилось вот что. Здоровенный немой парень, который шел впереди с граблями на плече, зазевался и упал, винтовка за спиной выстрелила. Немой был давним другом командира Юя, такой же разбойник, с которым они вместе делили лепешки-кулачи[7], у него одна нога была травмирована еще в материнской утробе, поэтому Немой хромал, но ходил очень быстро. Отец его немного побаивался.
Где-то на рассвете густой туман наконец рассеялся, и в это время командир Юй с отрядом вышли на шоссе Цзяопин. Восьмой лунный месяц в моем родном краю – сезон туманов, возможно, оттого, что в низине очень влажно. Оказавшись на шоссе, отец тут же почувствовал легкость и подвижность во всем теле, ноги стали резвыми и сильными, и он выпустил из рук краешек куртки командира Юя. Ван Вэньи, скуксившись, прижимал белую тряпицу к окровавленному уху. Командир Юй неуклюже наложил повязку, забинтовав заодно и полголовы. Ван Вэньи от боли скрежетал зубами.
– Вот уж повезло тебе, – сказал командир Юй.
– Да я весь кровью истек, не могу дальше идти, – причитал Ван Вэньи.
– Чушь! Не сильнее комариного укуса. Ты что, забыл про своих трех сыновей?
Ван Вэньи повесил голову и пробормотал:
– Нет, не забыл.
Приклад длинноствольного ружья, которое он нес на спине, окрасился кровью. Плоская пороховница болталась на боку.
Остатки тумана отступили в заросли гаоляна. На крупном песке, которым засыпали дорогу, не было ни следов коровьих копыт, ни конских и уж тем более отпечатков человеческих ног. При виде плотной стены гаоляна по обе стороны безлюдного шоссе люди ощутили тревогу. Отец давно уже подсчитал, что отряд командира Юя даже со всеми глухими, немыми и хромыми составлял не больше сорока человек, однако, пока жили в деревне, они шумели так, будто там была целая армия. На шоссе же отряд из тридцати с лишним человек сжался, словно замерзшая змея. Ружья у всех были разной длины, и тебе самоделы, и охотничьи дробовики, а еще старенькие «ханьяны»[8] и небольшая пищаль, стрелявшая маленькими ядрами, которую несли братья, Фан Шестой и Фан Седьмой. Немой тащил на плече длинные прямоугольные грабли с двадцатью шестью железными зубцами, какими в деревне разравнивали почву. Такие же грабли несли и трое других членов отряда. Отец тогда не знал, как выглядит атака из засады, и уж тем более не представлял, зачем для этого брать с собой грабли в количестве четырех штук.
2
Чтобы написать историю нашего рода, я возвращался уже в дунбэйский Гаоми и проводил масштабные изыскания, сосредоточившись в основном на знаменитой битве при реке Мошуйхэ, в которой принимал участие мой отец и в которой был убит японский генерал-майор. Одна девяностодвухлетняя бабулька из нашей деревни спела мне частушку-куайбань[9]:
- Как на северо-востоке заварилась кутерьма,
- собралась народу тьма,
- встав шеренгой у реки,
- ждали взмаха все руки.
- Юй солдатам дал отмашку —
- и раздался залп,
- тут япошки разбежались,
- поджимая зад.
- А красавица Фэнлянь не дала им улизнуть
- и граблями преградила путь…
Голова у старухи была лысая, как глиняный сосуд, все лицо в морщинах, а на высохших руках проступали вены, как волокна люфы. Она пережила бойню во время праздника Середины осени в одна тысяча тридцать девятом году. Из-за язвы на ноге она не смогла убежать, и муж спрятал ее в погребе, где хранили батат. Ей очень повезло, и она выжила. А Фэнлянь, о которой пела старуха под аккомпанемент бамбуковых трещоток, – это моя бабушка, Дай Фэнлянь. Дослушав до этого места, я воодушевился. Из частушки следовало, что замысел преградить граблями автомашинам япошек путь к отступлению принадлежал женщине, моей бабушке. Ее тоже стоило почитать как национальную героиню, сражавшуюся в первых рядах сопротивления Японии.
Когда речь зашла о моей бабушке, старуха разговорилась. Мысли ее были обрывочными и беспорядочными, словно листья, гонимые ветром по земле. Она сообщила, что у моей бабушки была самая крошечная ножка во всей деревне, а вино из нашей винокурни было самым пьянящим. Когда она добралась до рассказа о шоссе Цзяопин, ее слова стали более связными:
– Когда дорогу протянули до нас… гаолян доходил только до пояса… Япошки угнали всех, кто мог работать… Местные отлынивали, увиливали… у вашей семьи забрали двух больших черных мулов… Японские черти перебросили через Мошуйхэ каменный мост… Лохань, старик, что у вас работал… они с твоей бабушкой творили всякие непотребства, так люди говорили… Ох-ох-ох, твоя бабушка в молодости столько предавалась любовным утехам… а отец твой был молодец, в пятнадцать уже убивал врагов, даже среди ублюдков рождаются удальцы, а девять из десяти ни на что не годны… Лохань пошел перебить мулам ноги лопатой, а его схватили и порубили на мелкие кусочки… японцы лихо местным вредили… испражнялись в котлы, ссали в миски… я в тот год пошла как-то раз за водой, а что зачерпнула? Человеческую голову с длинной косой[10]…
Лохань – важный персонаж в истории нашего рода. Было ли что-то между ним и бабушкой, сейчас уже не выяснить. Честно говоря, я и не хочу в такое верить. Хотя головой-то я понимаю, что говорит мне эта лысая, как горшок, старуха, но мне неловко. Я думаю, раз дядя Лохань относился к моему отцу как к родному внуку, так он вроде как мой прадед, а если прадед крутил шашни с моей бабушкой, то это кровосмешение, так ведь? На самом деле это все глупости, поскольку бабушка моя была вовсе не невесткой дяди Лоханя, а его хозяйкой, Лоханя с моей семьей связывали лишь денежные отношения, а не кровные. Он был преданным старым работником, который украсил историю нашего рода и, без сомнения, добавил ей блеска. Любила ли его бабушка, забирался ли он к ней на кан[11] – все это не имеет никакого отношения к морали. Допустим, любила – и что с того? Я твердо уверен, что бабушка могла делать все, что пожелает. Она не просто героиня сопротивления, но и предвестница сексуального освобождения, пример независимости женщин.
Я изучил местные архивные записи, в них говорилось, что на двадцать седьмой год Республики[12] японская армия захватила уезды Гаоми, Пинду и Цзяо и местные жители провели в общей сложности на строительстве четыреста тысяч трудодней. Потери зерновых не поддаются подсчету. Из деревень по обе стороны от шоссе угнали подчистую всех мулов и лошадей. Крестьянин Лю Лохань под прикрытием ночи железной лопатой переломил ноги множеству мулов и лошадей и был схвачен. На следующий день японские солдаты привязали его к столбу, сняли с него кожу, порубили на кусочки и выставили на всеобщее обозрение. На лице Лю не было страха, он без конца ругался, пока не испустил дух.
3
Все и правда было именно так. Когда шоссе Цзяопин протянули до нашей деревни, гаолян в полях доходил всего лишь до пояса. Болотистую равнину длиной в семьдесят ли[13] и шириной в шестьдесят украшало несколько десятков сел, ее крест-накрест разрезали две реки и покрывали сеткой несколько десятков проселочных дорог, а все остальное место занимали зеленые волны гаоляна. Из нашей деревни была отлично видна Баймашань, гора Белой Лошади, на севере равнины – огромная белая скала в форме лошади. Крестьяне, мотыжившие гаолян, поднимали голову и видели эту самую белую лошадь; они опускали голову и видели чернозем; пот капал на землю, на душе было тяжело. Когда пронесся слух, что японцы собрались строить дорогу на равнине, деревенские запаниковали, они с волнением ждали, когда грянет беда.
Японцы сказали – японцы пришли.
Когда японские черти с марионеточными войсками объявились в нашей деревне и начали угонять на стройку крестьян и скот, отец спал. Его разбудили громкие крики на винокурне. Бабушка схватила отца за руку и побежала на винокурню так быстро, как только могла на своих крошечных ножках, напоминавших побеги бамбука. Во дворе винокурни стояло больше десяти огромных керамических чанов, наполненных превосходным крепким вином, аромат которого разлетался по всей деревне. Два японца в хаки стояли во дворе со штыками наперевес. Два китайца в черной форме с винтовками, болтавшимися за спиной, отвязывали от катальпы[14] пару больших черных мулов. Дядя Лохань снова и снова бросался к низкорослому солдату марионеточных войск, который отцеплял поводья, но раз за разом высокий китаец тыкал в него стволом винтовки, заставляя отступить. В начале лета жарко, и дядя Лохань был одет лишь в тонкую рубашку, всю его грудь покрывали багровые следы от дула.
Дядя Лохань твердил:
– Братцы, давайте все обсудим, давайте все обсудим.
Высокий солдат отвечал:
– Катись отсюда, скотина старая!
– Это хозяйская животина, нельзя уводить!
– Будешь тут пререкаться – расстреляем, ублюдок!
Японцы с винтовкой стояли, словно каменные изваяния.
Бабушка с отцом появились во дворе, и дядя Лохань сообщил:
– Они наших мулов забирают!
Бабушка сказала:
– Господа, мы мирные жители.
Японцы, прищурившись, осклабились.
Низенький китаец отвязал мулов, потянул что было сил, но животные запрокинули головы и ни в какую не двигались. Высокий ткнул их штыком в круп, мулы гневно лягались, блестящие подковы ударили по грязи, забрызгав лицо солдата.
Высокий щелкнул затвором, а потом взял на мушку дядю Лоханя и закричал:
– Старый сукин сын, давай ты тяни! Гони его на стройку!
Дядя Лохань сидел на корточках и не издавал ни звука.
Тогда один из японцев помахал штыком перед глазами дяди Лоханя и прокричал что-то нечленораздельное. При виде блестящего штыка, мельтешившего перед ним, дядя Лохань сел на землю. Японский солдат ткнул штыком, и острое лезвие оставило белый след на гладком скальпе дяди Лоханя.
Бабушка задрожала, вся сжалась и проговорила:
– Дядюшка, отведи мулов.
Один из японских солдат медленно подошел к бабушке. Отец увидел, что это молодой красивый парень с блестящими черными глазами и черными как смоль волосами; когда он улыбался, то губы приоткрывались и виднелся желтый зуб. Бабушка, спотыкаясь, попятилась и спряталась за дядю Лоханя. Из раны на его голове потекла кровь, перепачкав лицо. Японцы, усмехаясь, подошли поближе. Бабушка прижала обе руки к окровавленной голове дяди Лоханя, а потом вытерла их о лицо, распустила волосы, разинула рот и начала подпрыгивать, как ненормальная. В ней мало осталось человеческого, она скорее походила на беса. Японцы в изумлении застыли, а низкорослый солдат-китаец заявил:
– Командир, эта баба, похоже, рехнулась.
Один из япошек что-то забормотал и прицелился из винтовки бабушке в голову. Бабушка плюхнулась на землю и с громкими всхлипываниями зарыдала.
Высокий солдат, тыча винтовкой, заставил дядю Лоханя подняться. Тот забрал у низкорослого поводья мула. Мул вскинул голову и на дрожащих ногах пошел со двора вслед за дядей Лоханем. Дорога кишмя кишела мулами, лошадьми, коровами и баранами.
Бабушка не сошла с ума. Стоило японцам и солдатам марионеточной армии покинуть двор, как бабушка сняла деревянную крышку с одного из чанов и посмотрела на свое окровавленное отражение на ровной, словно зеркало, поверхности гаолянового вина. Отец увидел, как по ее щекам потекли слезы, которые сразу окрасились кровью. Бабушка умылась вином, и оно тоже стало красным.
Дядю Лоханя вместе с мулами под конвоем отвели на стройку. В гаоляновом поле успели протянуть отрезок дороги. Шоссе к югу от реки Мошуйхэ почти закончили, по нему уже подъезжали большие грузовики и маленькие машины, груженные камнями и песком, их разгружали на берегу. Через реку был перекинут лишь маленький деревянный мостик, и японцы хотели построить большой каменный мост. По обе стороны от шоссе вытоптали большие участки гаоляна, и казалось, что землю покрывает зеленый ковер. В гаоляновом поле к северу от реки по обе стороны от будущей дороги, обозначенной черноземом, несколько десятков мулов и лошадей тянули каменные катки, чтобы утрамбовать две площадки в море гаоляна, вытаптывая при этом растения на границе со стройплощадкой. Люди водили лошадей и мулов туда-сюда по полю, молодые побеги гаоляна ломались и ложились под копытами, а потом снова и снова приминались ребристыми и гладкими катками, которые намокали от сока гаоляна и окрашивались в зеленый цвет. На стройплощадке витал резкий запах молодых побегов.
Дядю Лоханя угнали на южный берег реки, чтобы он перетаскивал камни на другой берег. Он с отвращением передал поводья старикашке с гноившимися глазами. Маленький деревянный мостик раскачивался из стороны в сторону, словно в любой момент мог рухнуть. Дядя Лохань перешел на другой берег и остановился. И тут китаец-надсмотрщик легонько ткнул Лоханя в голову фиолетовым хлыстом из ротанга и велел:
– Давай, тащи камни на другой берег.
Дядя Лохань потер глаза, кровь, стекавшая с головы, перепачкала брови. Он взял камень среднего размера и понес на противоположный берег. Старик-надсмотрщик так никуда и не ушел. Дядя Лохань наказал ему:
– Берегите их, это мулы моих хозяев.
Старик повесил голову и потянул животных в сторону большого отряда мулов и лошадей, прокладывавших дорогу. На гладких черных крупах мулов играли отблески солнечного света. Все еще истекавший кровью, дядя Лохань присел на корточки, зачерпнул пригоршню земли и прижал к ране. Тупая боль пронзила тело до пальцев ног, ему показалось, будто голова треснула пополам. По краю строительной площадки рассредоточились японские черти и солдаты марионеточных войск с оружием на изготовку. Надсмотрщик с плетью в руке слонялся по строительной площадке, словно привидение. При виде кровавого месива вперемешку с грязью на голове дяди Лоханя крестьяне пугались до дрожи. Дядя Лохань взял очередной камень, но не прошел и пары шагов, как позади раздался свист, после чего спину пронзила резкая боль. Дядя Лохань бросил камень и посмотрел на улыбавшегося надсмотрщика:
– Начальник, давайте поговорим, чего сразу бить-то?
Надсмотрщик улыбался и молчал, затем поднял хлыст и стеганул Лоханя по пояснице. Дяде Лоханю показалось, что хлыст разрубил тело на две половины, из глаз хлынули потоком горячие, обжигающие слезы. Кровь прилила к голове, корка из запекшейся крови и грязи пульсировала, готовая лопнуть. Дядя Лохань вскрикнул:
– Начальник!
Тот снова огрел его плетью.
– Зачем вы меня бьете?
Помахав хлыстом, начальник со смехом сказал:
– Глаза разуй, сукин ты сын.
Дядя Лохань задохнулся от рыданий, глаза заволокло слезами, он взял из кучи большой камень и заковылял в сторону деревянного мостика. Голова распухла, перед глазами повисла пелена, острые края камня врезались в живот и под ребра, но он уже не чувствовал боли.
Надсмотрщик прирос к месту с плетью в руке, и, проходя мимо него с камнями, дядя Лохань дрожал от ужаса. Надсмотрщик ударил его по шее плетью. Лохань упал на колени, прижимая камень к груди. Камень ободрал кожу на обеих руках, кроме того, дядя Лохань до крови разбил подбородок. Он совершенно растерялся и заплакал, как ребенок. Голова была пуста, и в этой пустоте неспешно разгорался красный огонек.
Дядя Лохань с трудом вытащил руки из-под камня, поднялся и выгнул спину, как старый рассерженный драный кот.
Тут к надсмотрщику подошел какой-то мужчина средних лет с улыбкой от уха до уха, вытащил из кармана пачку сигарет и с почтением протянул одну, поднеся ее прямо ко рту надсмотрщика, а тот приоткрыл губы, чтобы взять сигарету, и ждал, когда дадут прикурить.
Подошедший мужчина сказал:
– Почтенный, не стоит сердиться на этого чурбана.
Надсмотрщик выпустил дым через ноздри, но ничего не ответил. Дядя Лохань увидел, как пожелтевшие пальцы, сжимавшие плеть, напряглись.
Мужчина сунул пачку сигарет в карман надсмотрщика. Тот вроде бы и не заметил, хмыкнул, похлопал по карману, развернулся и ушел.
– Отец, ты тут новенький, да? – спросил его мужчина.
Дядя Лохань ответил:
– Да.
– Ты ему ничего не подарил в честь знакомства?
– Да меня эти псы слушать не стали! Насильно сюда приволокли!
– Подари ему чуток денег или пачку сигарет, он не бьет упорных, не бьет ленивых, бьет только тех, кто дальше своего носа не видит.
С этими словами он присоединился к остальным крестьянам, пригнанным на работы.
Все утро дядя Лохань отчаянно тягал камни, словно бы лишился души. Струп на голове засох на солнце и причинял боль. Он ободрал руки до мяса. На подбородке образовалась ссадина, и изо рта без конца текла слюна. Пурпурное пламя все так же горело в голове – то сильнее, то слабее, но так и не гасло.
В полдень по тому участку шоссе, где с трудом могли пробраться машины, трясясь и раскачиваясь, подъехал темно-желтый грузовичок. Дядя Лохань смутно услышал свист и увидел, как полумертвые от усталости работники побрели на нетвердых ногах в сторону грузовичка. Сам он уселся на земле, не имея ни малейшего понятия, что происходит, и не желая узнавать, что это за машина. Только обжигающее пурпурное пламя колыхалось внутри, отдаваясь звоном в ушах.
К нему подошел тот парень средних лет и потянул за рукав со словами:
– Отец, пошли, еду привезли! Пойдем, попробуешь японский рис!
Дядя Лохань встал и побрел следом.
Из грузовика спустили несколько ведер белоснежного риса, а еще большую плетеную корзину, в которой лежало множество белых керамических плошек с синими узорами. Рядом с ведрами стоял тощий китаец с латунным черпаком, а у корзины встал толстый китаец, раздававший плошки. Когда подходил очередной крестьянин, он выдавал ему плошку, и в тот же момент туда черпаком накладывали рис. Народ толпился вокруг грузовичка, с жадностью накинувшись на еду. Палочек не было, и все ели руками.
Надсмотрщик снова подошел, держа в руках хлыст, а на его лице застыла та же невозмутимая улыбка. Пламя в голове дяди Лоханя полыхнуло и четко осветило воспоминания, которые он отбросил прочь: он вспомнил сегодняшнее кошмарное утро. Охранники – японцы и солдаты марионеточных войск – тоже собрались вокруг белого жестяного ведра с рисом. Длинномордая овчарка с купированными ушами сидела за ведром и, высунув язык, смотрела на крестьян.
Дядя Лохань насчитал больше десятка япошек и не меньше солдат марионеточной армии, столпившихся за едой вокруг ведра, и у него зародилась идея побега. Нужно лишь забуриться в гаоляновое поле, и там его эти гребаные псы уже не достанут. Подошвам стало жарко, на них выступил пот. После того как шевельнулись мысли о побеге, он занервничал. Что скрывалось за холодной усмешкой надсмотрщика с хлыстом? Стоило дяде Лоханю увидеть эту усмешку, так в его голове тут же все смешалось.
Крестьяне не наелись, а толстый китаец собрал плошки. Работяги облизывали губы, с жадностью глядя на рис, прилипший к стенкам пустых ведер, но никто не осмеливался шелохнуться. На северном берегу реки хрипло заревел мул. Дядя Лохань узнал звук. Это кричал наш черный мул. На только что появившемся пустыре. Мулов и лошадей привязали к каменным каткам. Повсюду валялся истерзанный гаолян. Скотина неохотно жевала смятую жухлую гаоляновую ботву.
После обеда один паренек чуть старше двадцати, решив, что надсмотрщик отвлекся, помчался к гаоляновому полю, но его догнала пуля. Он упал ничком на краю поля и больше не двигался.
Когда солнце стало клониться к западу, снова приехал тот темно-желтый грузовичок. Дядя Лохань доел свой черпак риса. Его желудок привык к гаоляну и активно противился рису с привкусом плесени, однако дядя Лохань силой заставил себя глотать, несмотря на спазмы в горле. Мысль о побеге все крепла и крепла. Он вспомнил о деревеньке в десяти с лишним ли отсюда, о своем доме, где в нос бил аромат гаолянового вина. Когда пришли японцы, все работники винокурни разбежались, и раскаленные котлы, в которых варили вино, остыли. Но еще больше скучал он по моей бабушке и моему отцу. То тепло, которое моя бабушка дарила ему рядом с гаоляновой скирдой, вовек не забыть.
После ужина крестьян перегнали в большой загон, окруженный частоколом из кедровых жердей, который сверху был накрыт несколькими полотнищами брезента. Снаружи ограждение из жердей обтянули грубой сеткой с ячейками размером с фасолину, а калитку сварили из толстых металлических прутов. Япошки и солдаты марионеточных войск жили по отдельности в двух палатках, которые стояли в нескольких десятках шагов от загона. Ту овчарку привязали ко входу в палатку япошек. Перед калиткой воткнули высокий шест, на котором повесили два фонаря. Япошки и солдаты марионеточных войск сменялись на посту. Мулов и лошадей привязали с западной стороны загона на разоренном гаоляновом поле, где в землю воткнули несколько десятков коновязей.
В загоне стояла ужасная вонь, кто-то громко храпел, а кто-то ходил отлить в жестяное ведро, стоявшее в углу, и капли мочи стучали о стенки ведра, словно жемчужины о яшмовое блюдо. В загон проникал тусклый свет фонарей, в котором то и дело колыхались длинные тени патрульных.
Постепенно сгустилась ночь, холод стал мучительным. Дядя Лохань не мог уснуть, все думал о побеге. Вокруг загона раздавались шаги постовых. Дядя Лохань лежал, не смея пошевелиться, и в итоге провалился в забытье. Ему приснилось, будто в его голову вонзили острый кинжал, а руку прижигали каленым железом. Очнулся он весь в поту и с мокрыми штанами. Из далекой деревни донесся пронзительный петушиный крик. Мулы и лошади били копытами и с шумом раздували ноздри. Сквозь дырявый брезент воровато заглядывали несколько звездочек.
Тот мужчина средних лет, что днем помог дяде Лоханю, тихонько сел. Даже в полумраке дядя Лохань видел его пылающие глаза. Он понял, что это незаурядный человек, и молча наблюдал за ним, а тот присел на колени у входа и поднял руки; движения его были очень медленными. Дядя Лохань смотрел на его спину и затылок. Человек сделал глубокий вдох, наклонил голову набок, а затем схватился за железные прутья, словно бы натягивая тетиву. Глаза его светились темно-зеленым светом, и когда этот свет соприкасался с предметами, казалось, раздается шипение. Железные прутья беззвучно разошлись в стороны. Еще больше света от фонарей и от звезд устремилось внутрь загона, осветив незнамо чей поношенный тапок, просивший каши. Патрульный повернулся. Дядя увидел, как из загона выпорхнула черная тень. Япошка только крякнул и тут же обмяк в железной хватке этого парня и беззвучно повалился на землю. Парень схватил винтовку япошки и бесшумно растворился во тьме.
Дядя Лохань не сразу понял, что только что произошло на его глазах. Оказалось, тот мужчина был мастером боевых искусств, и он проложил путь к спасению. Беги! Дядя Лохань осторожно выбрался наружу через образовавшуюся дыру. Мертвый японец лежал навзничь, одна его нога все еще подергивалась.
Дядя Лохань на карачках дополз до гаолянового поля, там выпрямился и пошел вдоль борозды, прячась за гаоляном и стараясь не издавать ни звука. Так он добрался до реки Мошуйхэ. Прямо над головой светили три звезды[15], наступил самый темный предрассветный час. Звезды поблескивали на воде. Дядя Лохань постоял немного на берегу, холод пронизывал до костей, зубы стучали, а боль в подбородке отдавалась в щеках и ушах, объединяясь с пульсирующей, словно от нагноения, болью в макушке. Свежий воздух свободы с привкусом гаолянового сока проникал в ноздри, легкие и внутренности. Призрачный свет двух японских фонарей пробивался в тумане, а темный контур загона напоминал огромную могилу. Дядя Лохань не осмеливался поверить, что так легко сбежал. Ноги сами отнесли его к сгнившему деревянному мостику, в журчащей воде кружились рыбки, падающая звезда яркой вспышкой прочертила небо. Словно бы ничего и не произошло, совсем ничего. Вообще-то дядя Лохань мог тогда сбежать в деревню, схорониться, залечить раны и продолжить жить-поживать. Однако, ступив на мост, он услышал, как на южном берегу реки испуганно заревел охрипшим голосом мул. Он вернулся за мулами, что и привело к грандиозной трагедии.
Тягловый скот привязали к нескольким десяткам столбов неподалеку от газона, прямо под ними плескалась лужа их собственной вонючей мочи. Лошади раздували ноздри и фыркали, а мулы грызли деревянные столбы. Лошади жевали стебли гаоляна. У мулов начался понос. Лохань, спотыкаясь на каждом шагу, влетел в табун. Он учуял родной запах двух наших больших черных мулов, увидел знакомые силуэты и бросился к ним, чтобы освободить своих страдающих друзей, но мулы, эти неразумные твари, развернулись к нему задом и принялись лягаться, высоко вскидывая копыта.
Дядя Лохань забормотал себе под нос:
– Черненькие, убежим вместе!
Мулы бешено крутились туда-сюда, оберегая свою территорию. Почему-то они не узнали хозяина. Дядя Лохань не ведал, что его облик изменился из-за нового для мулов запаха запекшейся крови и вида затянувшихся ран. Дядя Лохань в расстроенных чувствах сделал шаг вперед, и мул лягнул его копытом прямо в пах. Старик отлетел в сторону и упал на бок, не чувствуя половину тела. Мул продолжал лягаться, высоко задрав зад, копыта сверкали, словно серпы луны. В паху у дяди Лоханя все отекло и горело огнем, появилось ощущение, будто он придавлен тяжелым грузом. Он попробовал подняться, но упал, а упав, снова поднялся. В деревне снова закукарекал тонким голосом петух. Тьма начала постепенно отступать, три звезды сияли еще ярче, освещая искрящиеся зады мулов и их глазные яблоки.
– Твари вы этакие!
Дядя Лохань впал в ярость и начал, скособочившись, ходить вокруг в поисках чего-нибудь острого. В канале, который рыли для отведения воды, он нашел железную лопату. Лохань разгуливал по территории, громко ругаясь, позабыв о людях и сторожевой псине всего в сотне шагов от него. Он чувствовал себя свободным, ведь свобода – это отсутствие страха. Красное марево на востоке поднималось и рассеивалось, гаоляновое поле в предрассветный час казалось таким безмолвным, словно в любую минуту эту тишину может разорвать взрыв. Дядя Лохань двинулся навстречу заре прямиком к своим двум черным большим мулам. Он ненавидел этих тварей до мозга костей. Мулы стояли тихо и не двигались. Дядя Лохань поднял лопату, прицелился одному из мулов в заднюю ногу и изо всех сил ударил. Холодная тень упала на ногу мула. Животное пару раз качнулось из стороны в сторону, а потом из его пасти вырвалось громкое ржание, в котором смешались возмущение и страх. Сразу вслед за этим раненый мул высоко задрал зад и обдал фонтаном горячей крови лицо дяди Лоханя. Тот увидел слабое место и ударил мула по другой ноге. Черный мул охнул, его круп постепенно опустился, потом мул внезапно осел на землю, все еще опираясь передними копытами, его шею сдавливали поводья, а из пасти вырвалось воззвание к светлеющему серо-синему небу. Тяжелый зад животного прижал лопату к земле, дядя Лохань присел на корточки, рванул изо всех сил лопату и почувствовал, что лезвие застряло в бедренной кости животного. Второй мул тупо пялился на рухнувшего товарища и жалостливо ржал, словно бы плакал и просил пощады.
Дядя Лохань с лопатой в руках пошел на него, мул попятился, веревка натянулась, готовая порваться, деревянный кол затрещал. Из огромных, с кулак, глаз мула лился темно-синий свет.
– Испугался, гад? И где теперь твой грозный вид? Тварюга! Неблагодарная продажная скотина! Предатель, мать твою!
Яростно ругаясь, дядя Лохань ударил лопатой, целясь в прямоугольную морду черного мула, но промазал, и железный заступ застрял в деревянном столбе. Он подергал черенок, покрутил во все стороны и только тогда вытащил лопату. Черный мул боролся изо всех сил, выгибая задние ноги, словно лук, а облезлый хвост с шуршанием подметал землю. Дядя Лохань прицелился в морду мулу – бац! – и лопата попала прямо в центр широкого лба, лезвие ударилось о крепкую кость и задрожало, вибрация передалась через черенок на руки дяди так, что они онемели. Черный мул не издал ни звука, его копыта дрожали, ноги заплетались; в конце концов животное не выдержало и рухнуло на землю, словно обвалившаяся стена. Веревка порвалась, один конец болтался на коновязи, а второй обвился вокруг морды мула. Дядя Лохань молча стоял, опустив руки по швам. Блестящая лопата торчала из головы мула, указывая прямо в небо. Поодаль лаяла собака, кричали люди. Рассвело. Над восточной стороной гаолянового поля показалась кроваво-красная дуга; солнечные лучи попадали прямехонько в полуоткрытый рот дяди Лоханя, похожий на черную дыру.
4
Отряд вышел на берег, выстроившись в линию; их освещало красное солнце, только что вырвавшееся из тумана. Как и у остальных, у отца половина лица была красной, а вторая половина – зеленой. Как и остальные, отец наблюдал, как над Мошуйхэ рассеивается туман. Участки шоссе к югу и северу от реки связывал между собой большой каменный мост с четырнадцатью пролетами, перекинутый через Мошуйхэ. Первоначальный деревянный мостик остался на прежнем месте, к западу от каменного, но с настила в реку обрушилось три или четыре секции, уцелели лишь несколько коричневых свай, торчавших из воды, которые волей-неволей задерживали бледную пену. В рассеивающемся тумане поверхность реки поблескивала красным и зеленым и казалась устрашающей. С берега открывалось величественное зрелище: к югу от реки тянулось бесконечное поле гаоляновых метелок, ровное, словно отполированное. Метелки стояли неподвижно, все колоски демонстрировали темно-красные лица. Растения сплотились во внушительный коллектив, охваченный одним великим замыслом. Отец в ту пору был слишком юн, ему не могли прийти на ум такие цветастые описания, это я додумываю.
Гаолян и люди вместе ждали, когда же из цветов народятся зерна.
Дорога тянулась прямо на юг, постепенно сужаясь, и в итоге тонула в гаоляне. В самой дальней точке, где гаолян сливался с бледно-голубым сводом неба, на рассвете точно так же разворачивалась трогающая до глубины души торжественная сцена.
Мой отец с толикой любопытства смотрел на застывших партизан. Откуда они? Куда направляются? Зачем устраивают засаду? А потом что? В безмолвии ритм журчания воды у обвалившегося моста стал еще четче, а звук – звонче. Постепенно солнечный свет прибил туман к воде. Вода в Мошуйхэ мало-помалу воспламенилась и стала золотистой. Река блестела и переливалась. Около берега росла одинокая кувшинка: пожелтевшие листья пожухли, некогда ярко-алые цветы, напоминавшие по форме тутовых шелкопрядов, завяли и повисли между листьев. Отцу снова вспомнился сезон ловли крабов: дул осенний ветер, воздух был прохладным, стая диких гусей летела на юг… Дядюшка Лохань кричал: «Хватай, Доугуань… хватай!» Мягкий ил на берегу реки покрывал искусный узор, оставленный тонкими крабьими лапками. Отец чувствовал, что от реки шел особенный тонкий запах крабов. До войны сопротивления[16] в нашей семье выращивали мак и ели с крабовой пастой, цветы были крупными, яркими, их сильный аромат бил в ноздри.
Командир Юй сказал:
– Прячемся под насыпью. Немой, разложи грабли!
Немой снял с плеча несколько мотков проволоки и связал вместе большие грабли в количестве четырех штук. Затем он промычал что-то пару раз, подзывая нескольких товарищей, чтобы они отнесли эту связку на стык шоссе и каменного моста.
Командир Юй приказал:
– Братья, спрячьтесь, пока машина япошек не окажется на мосту и ребята из подразделения Лэна не перекроют путь к отступлению. Как услышите мою команду – начинайте вместе палить, а затем скинем этих скотов в реку на съедение угрям и крабам.
Командир Юй сделал пару жестов Немому, тот покивал и повел половину вооруженных людей прятаться в гаоляне к западу от шоссе. Ван Вэньи потрусил за Немым на запад, но тот развернул его. Командир Юй сказал:
– Ты туда не ходи. За мной! Боишься?
Ван Вэньи, без конца качая головой, бормотал:
– Не боюсь… не боюсь…
Юй велел братьям Фан установить пищаль на насыпи, а потом обратился к горнисту Лю:
– Старина Лю, как только мы откроем огонь, дуй в свою дудку что есть мочи, несмотря ни на что. Черти боятся громких звуков, слышишь меня?
Горнист Лю был давним другом командира Юя, в юности Юй был носильщиком паланкина, а Лю – музыкантом, играл на барабане и соне[17]. Лю держал инструмент обеими руками, как держат винтовку.
Юй обратился ко всем присутствующим:
– Хочу сразу сказать горькую правду. Если кто-то из вас в ответственный момент струсит – прикончу. Нам нужно блеснуть перед Лэном и его подразделением. Эти ублюдки запугивают народ своими флагами. А я не такой! Он хочет, чтоб я пошел у него на поводу? А я хочу, чтоб все было по-моему!
Люди отряда засели в гаоляновом поле, Фан Шестой вытащил трубку, набил ее табаком, потом нащупал кремень и высек искру. Кресало было черным, а кремень бурым, как вареная куриная печень. Когда кресало ударило по кремню, раздалось шипение, разлетелся сноп больших искр. Одна искра приземлилась на фитиль из стеблей гаоляна, который Фан зажал между указательным и безымянным пальцами. Фан Шестой набрал побольше воздуха и подул, из трута потянулась струйка белого дыма, который стал красным. Фан Шестой раскурил трубку и сделал глубокую затяжку, а командир Юй сплюнул, поморщился и приказал:
– Погаси! Если черти унюхают табачный дым, разве они заедут на мост?
Фан Шестой поспешно сделал пару затяжек, затем потушил трубку и убрал кисет. Командир Юй сказал:
– Заляжем на склоне, не то черти подъедут, а мы еще не готовы!
Все немного напряглись, но улеглись на склоне, сжимая оружие в ожидании боя с могучим врагом. Отец плюхнулся на живот рядом с командиром Юем. Тот спросил:
– Боишься?
– Не боюсь! – ответил отец.
– Молодец! Весь в названого отца! Будешь моим вестовым. Как начнется драка – от меня ни на шаг, если появятся какие-то приказы, я буду тебе говорить, а ты передавай на запад.
Отец покивал. Он жадно смотрел на два пистолета, болтавшихся на поясе у командира Юя, большой и маленький. Большой – автоматический немецкий маузер, а маленький – французский браунинг. У каждого из пистолетов была своя история. С губ отца сорвалось одно слово:
– Пистолет!
Командир Юй переспросил:
– Пистолет хочешь?
Отец покивал головой и сказал:
– Да!
– А пользоваться умеешь?
– Умею!
Командир Юй вытащил из кобуры браунинг и взвесил в руке. Пистолет был уже старый, и воронение с него полностью сошло. Командир Юй потянул затвор, и из магазина выпрыгнул патрон с полукруглой головкой в латунной оболочке. Он высоко подкинул его, потом поймал и снова загнал в патронник.
– Вот! Стреляй, как я!
Отец схватил пистолет, крепко сжал его и вспомнил, что позавчера вечером командир Юй из этого пистолета стрелял в чарку с вином и разбил ее.
В тот момент молодой месяц только взошел и низко-низко прижимался к сухим ветвям дерева. Отец тащился в обнимку с кувшином и сжимал в одной руке медный ключ – бабушка наказала ему принести из винокурни вина. Отец открыл ворота. Во дворе царило полное безмолвие, в стойле для мулов сгустилась кромешная тьма, по винокурне распространился неприятный запах перегнившей барды. Отец снял крышку с одного из чанов и при лунном свете увидел на ровной поверхности вина свое истощенное лицо: брови короткие, тонкие; он почувствовал себя уродливым. Он опустил кувшин в чан, и вино с журчанием заструилось внутрь. Когда он вытаскивал кувшин, вино капало обратно в чан. Но отец передумал и вылил вино – вспомнил, из какого чана бабушка умывала окровавленное лицо. Сейчас бабушка пила дома с командиром Юем и командиром Лэном. Бабушка и Юй выпили много, но не опьянели, а вот Лэн поднабрался. Отец подошел к тому чану и увидел, что крышка прижата каменным жерновом. Он поставил кувшин, потом с усилием сдвинул жернов. Жернов откатился в сторону, ударился о другой чан, пробил в стенке большую дыру, и оттуда с шипением потекло вино, но отец ничего не предпринял. Он снял крышку и тут же учуял запах крови дяди Лоханя, вспоминал его окровавленную голову и бабушкино окровавленное лицо. Лица дяди Лоханя и бабушки появлялись в чане, сменяя друг друга. Отец погрузил кувшин в чан, набрал кровавого вина, взял кувшин обеими руками и понес домой.
На большом квадратном столе ярко горели свечи, командир Юй и командир Лэн пристально смотрели друг на друга и шумно дышали. Бабушка стояла между ними, положив левую руку на пистолет Лэна, а правую – на браунинг Юя.
Отец услышал ее слова:
– Если вы не можете сторговаться, то гуманность и справедливость все равно никуда не денутся, дружба всего дороже, нечего тут хвататься за ножи да пистолеты, вымещайте злость на японцах!
Командир Юй принялся браниться:
– Ты, братишка, меня не напугаешь знаменами бригады Вана. Я здесь главный, десять лет разбойничаю, и плевать я хотел на этого гребаного Большелапого Вана!
Лэн холодно усмехнулся и сказал:
– Старший брат Чжаньао, я же за тебя радею, как и бригадир Ван, если приведешь свою банду, так я сделаю тебя командиром батальона. Оружие и провиант предоставит командир бригады Ван. Уж лучше, чем быть бандитом.
– Кто бандит? Кто не бандит? Любой, кто дерется с японцами, – национальный герой. В прошлом году я пощупал трех японских постовых и добыл три винтовки «Арисака-38»[18]! Ты вот, командир Лэн, не разбойник, сколько япошек укокошил? Да ты ни одной волосинки у них не выдрал!
Лэн сел, достал сигарету и закурил.
Пользуясь случаем, отец поднес кувшин вина. Бабушка взяла у него кувшин, тут же изменилась в лице и гневно глянула на отца, затем разлила вино в три чарки, наполнив до краев. Она сказала:
– В этом вине кровь дяди Лоханя, если вы настоящие мужики, то пейте. Послезавтра вместе разбейте японскую автоколонну, а потом каждый пойдет своей дорогой, как говорится, колодезная вода речной не помеха.
Бабушка взяла вино и с бульканьем выпила.
Командир Юй, запрокинув голову, влил вино в рот.
Командир Лэн поднял чарку, отпил половину, поставил и сказал:
– Командир Юй, что-то я перебрал с алкоголем, так что откланяюсь!
Бабушка положила руку на пистолет и спросила:
– Пойдешь бить япошек?
Командир Юй со злостью прошипел:
– Не надо его уговаривать, он не пойдет, так я пойду.
Лэн сказал:
– Я пойду.
Бабушка убрала руку, командир подразделения Лэн схватил пистолет и повесил на пояс. У Лэна была белая кожа и с десяток черных оспин вокруг носа. На поясе у него была закреплена запасная обойма, а под тяжестью пистолета пояс и вовсе провис как перевернутый месяц.
Бабушка сказала:
– Чжаньао, вверяю тебе Доугуаня, послезавтра возьми его с собой.
Командир Юй посмотрел на моего отца и с улыбкой спросил:
– Названый сынок, кишка-то не тонка?
Отец презрительно глянул на темно-желтые крепкие зубы командира Юя, показавшиеся между губами, и промолчал.
Командир Юй взял чарку, поставил отцу на макушку и велел отойти к двери и встать прямо, а сам взял браунинг и направился в угол комнаты.
Отец наблюдал, как командир Юй сделал три шага, каждый был широким и неспешным. Бабушка побледнела. Уголки губ Лэна растянулись в усмешке.
Командир Юй дошел до угла, остановился, потом резко развернулся. Его рука поднялась, глаза потемнели так, что даже блеснули красным светом, а потом браунинг выплюнул струйку дыма. Над головой отца что-то просвистело, чарка разлетелась на мелкие осколки. Один свалился отцу за шиворот, он втянул голову в плечи, но осколок проскользнул за пояс брюк. Отец ничего не сказал. Бабушка побледнела еще сильнее. Лэн плюхнулся на лавку и, немного помолчав, сказал:
– Хороший выстрел.
Командир Юй похвалил:
– Молодец, парень!
Отец сжимал в руке браунинг и чувствовал, что он на удивление тяжелый.
Командир Юй сказал:
– Не мне тебя учить, ты и сам знаешь, как стрелять. Передай Немому приказ – пущай готовятся!
Отец с браунингом в руке забурился в заросли гаоляна, перешел дорогу и добрался до Немого. Тот сидел в позе лотоса и точил длинный кинжал большим ярко-зеленым камнем. Остальные члены отряда кто сидел, кто лежал.
Отец сказал Немому:
– Велено готовиться!
Немой покосился на отца и продолжил точить кинжал. Через некоторое время он сорвал несколько листиков гаоляна, вытер с клинка пыль, оставшуюся от камня, затем выдернул тонкую травинку и опробовал остроту кинжала: стоило лезвию коснуться травинки, как она разлетелась на две части.
Отец повторил:
– Велено готовиться!
Немой вставил кинжал в ножны и положил рядом с собой. Его лицо расплылось в хищной улыбке. Он поднял свою огромную лапищу, помахал отцу и что-то промычал. Отец осторожно подошел ближе и остановился в шаге от Немого, а тот потянулся, ухватил отца за полу, с силой дернул, и отец упал на его грудь. Немой потащил отца за ухо, у того рот уехал аж на щеку. Браунинг отца уперся в грудную клетку Немого. Немой с силой нажал на его нос – у отца даже слезы брызнули. Немой рассмеялся неестественным смехом.
Рассевшиеся вокруг бойцы хором загоготали.
– Похож на командира Юя?
– Его порода!
– Доугуань, я скучаю по твоей матери!
– Доугуань, хочу отведать те две булочки с финиками на теле твоей матушки!
Стыд отца перешел в гнев, он поднял браунинг, прицелился в парня, мечтающего о булочках, и выстрелил. Раздался глухой хлопок, но пуля не вылетела из ствола.
Лицо шутника приобрело серо-желтый оттенок, он стремительно вскочил и принялся вырывать пистолет из рук отца. Отец пришел в неописуемую ярость и кинулся на обидчика, пинаясь и кусаясь.
Немой поднялся и, схватив отца за шею, с силой подкинул вверх, тело подростка оторвалось от земли, он отлетел в сторону и, падая, поломал несколько стеблей гаоляна. Отец перекувыркнулся, поднялся с земли, разразился бранью и бросился на Немого, а тот лишь пару раз что-то промычал. Глядя на его бледное как смерть лицо, отец замер на месте. Немой забрал у него браунинг, щелкнул затвором, и на его ладонь выпал патрон. Он взял пулю двумя пальцами, посмотрел на маленькую дырочку, которая осталась на капсюле после удара бойком, и что-то показал отцу жестами, затем сунул пистолет отцу за пояс и потрепал его по голове.
– Ты что там разбушевался? – спросил командир Юй.
Отец обиженно ответил:
– Они… хотели переспать с мамкой.
У командира Юя вытянулось лицо:
– А ты что?
Отец потер глаза:
– Я в него пальнул!
– Ты стрелял?
– Так осечка! – Отец вручил Юю золотистый зловонный патрон.
Юй взял патрон, посмотрел, а потом выкинул, и патрон, описав красивую дугу, упал в реку.
– Ты молодец! – похвалил он. – Но сначала пули надо выпускать в японцев, а как перебьем японцев, если кто рискнет заикнуться, что хочет переспать с твоей мамкой, так стреляй ему в низ живота – не в голову, не в грудь – запомни! – целься в пах.
Отец улегся рядом с командиром Юем. Справа от него расположились братья Фаны. Пищаль установили на насыпи, развернув ствол в сторону каменного моста. В дуло набили ком ваты, а из задней части торчал запал. Рядом с Фаном Седьмым лежал трут, изготовленный из связки гаоляновых стеблей, и один из них тлел. А около Фана Шестого – тыква горлянка, набитая порохом, и металлическая коробка, полная дроби.
Слева от командира Юя притаился Ван Вэньи. Он обеими руками сжимал длинноствольный дробовик и дрожал, сжавшись в комок. Раненое ухо уже приклеилось к белой ткани.
Солнце поднялось на высоту бамбукового шеста, раскаленное добела ядро обрамлял бледно-красный ореол. Прозрачная вода искрилась. Стая диких уток пролетела над гаоляновым полем, сделала три круга, после чего большая часть птиц нырнула в заросли на речной отмели, а остальные сели на воду и поплыли по течению. Они не могли держаться ровно и крутили проворными головами. Отец стал ощущать свое тело. Одежда, промокшая от росы, высохла. Он полежал еще немого на животе, но ощутил, как острый камень больно врезается в грудь, и привстал, высунув голову и плечи над краем насыпи. Командир Юй велел:
– Ляг!
Отец с неохотой плюхнулся на живот. Фан Шестой захрапел. Юй взял ком земли и сунул ему в лицо. Фан Шестой с мутными глазами сел, зевнул так, что из глаз выкатились две маленькие слезинки.
– Чё, япошки пришли? – громко спросил он.
– Твою мать! – выругался командир Юй. – Не смей спать!
На обоих берегах стояла гробовая тишина, широкое шоссе безжизненно простиралось посреди гаолянового поля. Большой каменный мост над рекой казался таким красивым. Бескрайний гаолян тянулся к поднимавшемуся и все ярче светившему солнцу, колоски приобретали пунцовый оттенок, словно стыдились. Дикие утки скользили по мелководью у берега и с шумом процеживали воду плоскими клювами, ища что-то съестное. Взгляд отца замер на утках, он изучал их красивое оперение и умные глаза, затем поднял тяжелый браунинг, прицелившись в одну из гладких спин, и чуть было не спустил курок. Командир Юй схватил его за руку:
– Ты, мелкое черепашье отродье, ты что творишь?
Отца охватила безотчетная тревога. Шоссе по-прежнему было безлюдным, а гаолян стал еще краснее.
– Скотина этот Рябой Лэн! Если только он посмел меня разыграть! – зло воскликнул Юй. На южном берегу было тихо, никаких следов бойцов Лэна. Отец знал, что сведения о том, что здесь пройдет автоколонна япошек, получил командир Лэн, но он испугался, что в одиночку не справится, и только потому объединился с людьми Юя.
Отец напрягся, но постепенно расслабился. Его взгляд снова и снова притягивали к себе дикие утки. Он вспомнил, как они с дядей Лоханем на них охотились. У дяди Лоханя был дробовик с темно-красным прикладом и ремнем из бычьей кожи. Сейчас этот дробовик крепко сжимал в руках Ван Вэньи.
Глаза отца заволокло слезами, но не в таком количестве, чтобы они потекли. Совсем как в прошлом году. В теплом солнечном свете отец почувствовал, как холодок пробежал по телу.
Дядю Лоханя и двух мулов угнали япошки и солдаты марионеточной армии. Бабушка умыла окровавленное лицо из чана с вином. Бабушкина кожа пропиталась запахом вина, кожа раскраснелась, веки опухли, а голубовато-белая хлопчатобумажная куртка промокла на груди от вина и крови. Бабушка замерла в ожидании возле чана, уставившись на вино. Там отражалось бабушкино лицо. Отец помнил, как бабушка внезапно упала на колени и трижды поклонилась чану, затем встала, зачерпнула вино обеими руками и выпила. Лицо бабушки разрумянилось, вся кровь прилила к щекам, а лоб и подбородок побледнели.
– Вставай на колени! – приказала она отцу. – Кланяйся!
Отец повиновался.
– А теперь зачерпни вина и выпей!
Отец выпил.
Кровь тонкими ниточками оседала на дно чана. Маленькое облачко проплыло по поверхности, в которой отразились торжественно-серьезные лица бабушки и отца. Из раскосых глаз бабушки лился обжигающий свет, отец не осмеливался в них смотреть. Его сердце глухо колотилось. Он снова протянул руку, чтобы зачерпнуть еще вина. Оно стекало с пальцев, разбивая отражения белого облачка на синем небе и двух лиц, большого и маленького. Отец сделал еще глоток, и запах крови намертво приклеился к языку. Кровавые ниточки осели на дно чана, образовав на выпуклом дне грязный комок размером с кулак. Отец с бабушкой очень долго смотрели на этот комок, после чего бабушка затащила наверх крышку, прикатила из угла нижний жернов, с трудом подняла его и придавила крышку.
– Не трогай! – наказала она.
Отец смотрел на скопившуюся в углублении жернова влажную грязь и копошившихся серо-зеленых мокриц и со страхом и тревогой покивал.
В ту ночь, устроившись на своей маленькой лежанке, он слушал, как бабушка ходит по двору туда-сюда. Звук ее шагов и шелест гаоляна в поле переплетались в спутанные сновидения отца. Он и во сне слышал ржание тех двух прекрасных больших черных мулов.
На рассвете отец проснулся, голышом побежал на улицу отлить и увидел, что бабушка все еще стоит посреди двора и зачарованно смотрит в небо. Он окликнул ее, но она не отозвалась. Отец помолился, а потом взял бабушку за руку и повел в дом. Бабушка шла за ним на ватных ногах. Только они оказались внутри, как услышали какой-то шум, который волной докатился с юго-востока, после чего грянул выстрел, резкий, словно острое лезвие разрывало туго натянутый шелк.
На том месте, где сейчас находился отец, в тот момент лежала груда белых камней и каменных блоков, а кучи крупного песка на насыпи напоминали ряды высоких могил. В прошлом году в начале лета гаолян под насыпью тревожно замер. Контуры шоссе, которые проложили катками по гаоляну, тянулись строго на север. Тогда большой каменный мост еще не построили, а маленький изнемогал от множества ступавших по нему ног и копыт и совсем расшатался от ударов. Запах свежескошенной травы, исходивший от придавленного катками гаоляна, увлажнился ночным туманом и стал на рассвете еще сильнее. Целое поле гаоляна горько плакало. Вскоре после того, как отец и бабушка услышали выстрел, японские солдаты пригнали их сюда вместе с жителями деревни, включая всех старых и немощных, женщин и детей. В тот момент солнце только-только выглянуло над верхушками гаоляна. Отец, бабушка и их односельчане стояли на южном берегу реки, на западном отрезке шоссе, и топтали останки гаоляна. Все они смотрели на огромный загон, похожий на коровник или на конюшню, а за ним жалась толпа крестьян в лохмотьях. Потом два солдата марионеточной армии перегнали этих крестьян на другую сторону дороги, они встали рядом с отцом и его односельчанами, образовав единое целое. Перед ними находилась площадка, где привязывали мулов и лошадей, та самая, при виде которой впоследствии прохожие бледнели от ужаса. Люди безучастно стояли неизвестно сколько времени, пока наконец из палатки не вышел японский генерал с худощавой физиономией: на плечах у него красовались красные знаки различия, на перевязи болталась длинная сабля, он был в белых перчатках и тащил за собой овчарку на поводке. Овчарка трусила за ним, высунув ярко-красный язык, вслед за ней два солдата марионеточных войск волокли окоченевший труп японского солдата, а завершали процессию два японца, сопровождавшие двух солдат марионеточных войск, которые тащили по земле окровавленного и растерзанного дядю Лоханя. Отец прильнул к бабушке, и бабушка его обняла.
Японский генерал с овчаркой остановился на пятачке неподалеку от места, где были привязаны мулы и лошади. Полсотни белых птиц взлетели над Мошуйхэ, громко хлопая крыльями, и взмыли над толпой людей в ярко-синее небо к солнцу, напоминавшему золотой слиток. Отец увидел потрепанных животных с грязными мордами, а на земле лежали два наших больших черных мула. Один мул умер, из его головы все еще торчала лопата. Темная кровь перепачкала ошметки гаоляна и гладкую морду животного. Окровавленный хвост второго мула подметал землю, на которой он сидел, было слышно, как дрожит его живот, а ноздри раздуваются со свистом. Отец и сам не знал, как сильно любил этих двух черных мулов. Бабушка, бывало, садилась верхом на мула, гордо выпятив грудь, а отец устраивался перед ней. Мул с матерью и сыном на спине несся по тропе, которую удерживал в плену гаолян, покачиваясь из стороны в сторону, отчего бабушка и отец тряслись так, что даже подпрыгивали. Тонкие копытца мула поднимали облако пыли. Отец от волнения начинал кричать. Редкие крестьяне, стоявшие посреди гаолянового поля с мотыгами или каким другим инструментом, пялились на припудренное очаровательное личико хозяйки винокурни, и на их физиономиях застывали зависть и ненависть. А теперь один из мулов лежал мертвый, открыв пасть и вгрызаясь в землю белоснежными крупными зубами, а второй сидел и страдал даже пуще мертвого. Отец сказал бабушке:
– Мамка, наши мулы…
Бабушка закрыла ему рот рукой.
Труп японца положили перед генералом, который опирался на саблю и держал собаку на поводке. Два солдата марионеточных войск подтащили окровавленного дядю Лоханя к высокому столбу, где привязывали лошадей. Отец даже не сразу узнал его. Он увидел лишь какое-то странное избитое чудовище, напоминающее по форме человека. Чудовище подтащили к столбу, голова его болталась из стороны в сторону, струп на голове напоминал блестящую грязь на речной отмели, на солнце он подсох, сморщился и потрескался. Его ноги волочились по земле и чертили замысловатые узоры. Толпа потихоньку сбилась в кучу. Отец ощутил, что мама вцепилась ему в плечо. Все вокруг словно уменьшились в росте, у некоторых лицо словно превратилось в желтозем, а у других и вовсе стало цвета чернозема. Внезапно повисла гробовая тишина: ни воробьиного чириканья, ни карканья вороны, слышно только, как дышит огромная овчарка и как командующий с поводком в руке звонко выпускает газы. На глазах отца солдаты марионеточных войск подтащили чудище к коновязи, отпустили, и оно рухнуло на землю кучей мяса без костей.
Отец испуганно воскликнул:
– Дядя Лохань!
Бабушка снова зажала ему рот.
Дядя Лохань медленно пошевелился под столбом, сначала высоко задрал зад, так что издали напоминал арочный мост, поднялся на колени, опершись руками о землю, и поднял голову. Его лицо опухло, кожа блестела, глаза превратились в узенькие щелки, из которых пробивался темно-зеленый свет. Отец стоял прямо напротив и верил, что дядя Лохань его непременно увидит. Его сердце глухо колотилось – тук-тук-тук! – он не мог понять, ужас это или гнев. Отцу хотелось кричать что есть мочи, но бабушкина ладонь накрепко зажимала ему рот.
Японский генерал что-то прокричал собравшимся, а короткостриженый китаец перевел его слова толпе. Что он там говорил, отец не до конца расслышал, бабушкина ладонь давила так сильно, что перед глазами мелькали мушки, а в ушах стоял звон.
Два китайца в черной одежде содрали с дяди Лоханя все до нитки и привязали к столбу. Генерал взмахнул рукой, и все те же двое китайцев в черной одежде выпихнули из загона известного во всем уезде Гаоми мясника Суня Пятого из нашей деревни. Сунь Пятый был маленького роста, толстый, с выпяченным животом, лысый, краснолицый, с близко посаженными маленькими глазками. В левой руке он держал острый нож, а в правой – ведро чистой воды. Трясясь от страха, Сунь Пятый подошел к дяде Лоханю. Переводчик сказал:
– Генерал велит его освежевать; если не постараешься хорошенько, натравит овчарку, чтоб тебя выпотрошила.
Сунь Пятый повиновался, его веки напряженно затрепетали. Он зажал нож в зубах, поднял ведро с водой и вылил на голову дяди Лоханя. Тот от холодной воды встрепенулся, резко дернул головой, окровавленная вода текла по лицу и шее, смывая грязь. Один из надсмотрщиков притащил еще ведро воды из реки. Сунь Пятый окунул в воду кусок рваной тряпки и начисто обтер тело дяди Лоханя, при этом он вильнул задом и произнес:
– Братец…
Дядя Лохань отозвался:
– Братец, проткни меня ножом, у Желтого источника[19] вовек не забуду твою доброту.
Генерал что-то рявкнул.
Переводчик сказал:
– Быстрее!
Сунь Пятый изменился в лице, пухлыми короткими пальцами зажал ухо дяди Лоханя и проговорил:
– Братец, у меня нет выбора…
Отец видел, как Сунь Пятый отпиливает ухо дяди, словно пилой по дереву. Дядя Лохань дико кричал без остановки, а между ног у него забила ключом темно-желтая моча. У отца затряслись ноги. Подошел японский солдат с белым фарфоровым блюдом и встал рядом с мясником, а тот бросил на блюдо большое мясистое ухо дяди Лоханя. Сунь Пятый отрезал второе ухо, и оно отправилось вслед за первым. Отец видел, как два уха на фарфоровом блюде бойко пульсировали, бились о поверхность с глухим стуком.
Японец торжественно пронес блюдо перед толпой, медленно пройдя мимо мужчин и женщин, стариков и детей. Отец увидел, какие уши бледные и красивые, а их стук о блюдо, казалось, стал сильнее.
Солдат поднес уши командующему, тот покивал, после чего солдат поставил блюдо рядом с трупом своего сослуживца, помолчал немного, потом взял тарелку и отнес овчарке.
Овчарка убрала язык, острым черным носом обнюхала уши, покачала головой из стороны в сторону, снова вывалила язык и уселась на задние лапы.
Переводчик прикрикнул на Суня Пятого:
– Продолжай!
Сунь Пятый кружил вокруг столба и что-то лопотал. Отец увидел, что лицо его покрыто липким потом и он моргает с той же скоростью, с какой курица клюет рис.
Из тех мест, где раньше у дяди Лоханя были уши, вытекло лишь несколько капелек крови, и теперь, без ушей, голова стала идеально круглой.
Командующий чертей снова рявкнул. Переводчик перевел:
– Быстрее спускай с него шкуру!
Сунь Пятый нагнулся, одним ударом отрезал дяде Лоханю половые органы и положил на блюдо, которое японский солдат держал на вытянутых руках на уровне глаз, маршируя перед толпой, словно марионетка. Отец чувствовал, как ледяные бабушкины пальцы буквально впиваются в его плечо.
Солдат поставил блюдо перед овчаркой, собака откусила пару раз и выплюнула.
Дядя Лохань истошно кричал, его худое тело ожесточенно извивалось на коновязи.
Сунь Пятый выронил нож, упал на колени и зарыдал в голос.
Командующий отпустил поводок, собака бросилась к Суню Пятому, поставила передние лапы ему на плечи и оскалилась прямо перед его лицом. Сунь Пятый повалился на землю и закрыл лицо руками.
Офицер свистнул, и овчарка с довольным видом прибежала обратно, таща за собой поводок.
Переводчик велел:
– Быстро спускай с него шкуру!
Сунь Пятый поднялся, взял нож и, прихрамывая, поковылял к дяде Лоханю.
Дядя Лохань разразился бранью, все аж головы вскинули.
Сунь Пятый упрашивал:
– Братец… братец… ты потерпи немножко, пожалуйста.
Дядя Лохань харкнул ему в лицо кровью.
– Сдирай… чтоб твоих предков… давай…
Орудуя ножом, Сунь Пятый начал освежевывать дядю Лоханя с макушки, раздался треск. Сунь Пятый работал очень аккуратно, когда он снял кожу с головы, стали видны синеватые глаза и куски плоти…
Отец рассказывал мне, что после того, как с лица дяди Лоханя сняли кожу, его бесформенный рот продолжал рычать, а по темно-коричневой голове струилась ярко-алая кровь. Сунь Пятый уже был сам не свой, работал мастерски, обрезая кожу целыми кусками. После того как дядя Лохань превратился под ножом в груду мяса, стало видно, как пульсируют в животе внутренности, и вокруг него в небе вились скопища мух нежно-зеленого цвета. Женщины в толпе попадали на колени, и от их плача содрогнулось поле. Той ночью небо ниспослало сильный дождь, смыв все следы крови с пятачка, где держали на привязи мулов и лошадей; труп дяди Лоханя и его содранная кожа бесследно исчезли. Слух об исчезновении тела дяди Лоханя разлетелся по деревне, один поведал десяти, десять – целой сотне, рассказ этот передавался из поколения в поколение и превратился в красивую легенду.
– Если он осмелился со мной в игры играть, так я ему башку откручу и сделаю из нее ночной горшок!
Чем выше поднималось солнце, тем меньше оно становилось, раскаляясь добела. Роса на гаоляновых полях испарялась, одна стая диких уток улетела, прилетела другая. Подразделение Лэна так и не появилось, на шоссе кроме случайного проскакавшего дикого кролика не было ни единого живого существа. Чуть позже воровато прошмыгнула огненно-красная лиса. Обругав Лэна, командир Юй крикнул:
– Эй, поднимайтесь! Похоже, мы попались на удочку этого сукиного сына Рябого Лэна.
Люди уже давно устали лежать и только ждали этого приказа. Все тут же вскочили, кто-то уселся на насыпи покурить, другие встали во весь рост и мочились сильной струей.
Отец запрыгнул на насыпь, но все еще думал о случившемся в прошлом году. Перед его глазами беспрерывно покачивался череп дяди Лоханя с содранной кожей. Внезапное появление целой толпы людей напугало диких уток, они взлетели, потом сели на речной отмели неподалеку и ходили там вперевалочку, в траве поблескивало их изумрудно-зеленое и желто-коричневое оперение.
Немой с кинжалом в одной руке и старенькой винтовкой «Ханьян» в другой подошел к командиру Юю. Его лицо было удрученным, глаза остекленели. Он ткнул пальцем в солнце на юго-востоке, потом в пустынное шоссе, показал на живот, заскулил и помахал в направлении деревни. Юй задумался на минуту, а потом гаркнул тем, кто находился на другой стороне шоссе:
– Все сюда!
Члены отряда перешли через дорогу и собрались на насыпи.
– Братцы, – сказал Юй, – ежели Рябой Лэн осмелился с нами шутки шутить, я ему башку оторву! До полудня еще есть время, давайте подождем еще немного. Если до полудня машины не появятся, направимся прямиком в ущелье Таньцзя и поквитаемся с Рябым Лэном! Вы пока передохните в поле, а я отправлю Доугуаня за съестным. Доугуань!
Отец задрал голову и посмотрел на командира.
Тот велел:
– Вернись домой, скажи матери, пусть позовет кого на подмогу, напечет кулачей, а после полудня принесет сюда, только пусть сама приходит.
Отец покивал, подтянул штаны, засунул за пояс браунинг и помчался вниз по насыпи, затем пробежал вдоль небольшого участка шоссе в сторону деревни, нырнул в гаоляновое поле и двинулся в северо-западном направлении среди шуршащих стеблей. В море гаоляна он натолкнулся на несколько продолговатых черепов мулов и коней. Пнул один ногой, и оттуда выпрыгнули две короткохвостые мохнатые полевки, которые без особого испуга посмотрели на него, а потом снова проскользнули в череп. Отец вспомнил их больших черных мулов, вспомнил, как долгое время после того, как строительство шоссе было закончено, каждый раз, когда дул юго-восточный ветер, в деревне чувствовался резкий трупный запах. В прошлом году в Мошуйхэ плавало несколько десятков раздувшихся трупов мулов и лошадей, они застревали у берега на мелководье, где густо росла трава, их животы под действием солнца распирало, они лопались, и оттуда, словно распустившиеся цветы, вываливались великолепные кишки, а потоки темно-зеленой жидкости потихоньку утекали вместе с речной водой.
5
Только-только моей бабушке исполнилось шестнадцать, как отец распорядился ее судьбой и выдал замуж за единственного сына известного на весь Гаоми богача Шань Тинсю по имени Шань Бяньлан. Семья Шань владела винокурней и гнала из местного дешевого гаоляна превосходный крепкий напиток, славившийся на сто ли вокруг. Дунбэйский Гаоми – это в основном болотистая равнина, частенько подтопляемая во время осеннего паводка. Бороться с подтоплениями помогают высокие стебли гаоляна, а потому его сажают повсеместно и каждый год собирают богатый урожай. Семейство Шань гнало из дешевого гаолянового сырья вино, получало огромную прибыль и разбогатело. То, что бабушка вышла замуж за Шань Бяньлана, – крупная удача для моего прадедушки. Тогда многие надеялись породниться с семейством Шань, несмотря на слухи, что Шань Бяньлан давно уже болен проказой. Его отец Шань Тинсю был сухоньким старичком, у которого на затылке торчала торчком тоненькая косичка. Хотя у него дома сундуки ломились от денег, одевался он в рванье и частенько подпоясывался соломенным жгутом. Бабушка вошла в семью Шань действительно по воле небес. Однажды она играла со своими подружками рядом с качелями. У девчонок были длинные косы и острые «лотосовые ножки»[20]. Как раз праздновали Цинмин[21], персики расцвели алыми цветами, зазеленели ивы, шел легкий дождик, лица красавиц соперничали румянцем с персиком[22]. В этот день девочкам предоставляли свободу. Бабушка тогда была ростом метр шестьдесят и весила шестьдесят килограммов. Она нарядилась в куртку из набивного ситца в мелкий цветочек и зеленые атласные брюки, подвязанные на щиколотках темно-красными шелковыми лентами. Поскольку моросил мелкий дождь, бабушка надела вышитые тапочки, их десятки раз вымачивали в тунговом масле, и при ходьбе они поскрипывали. Блестящие длинные волосы бабушка собрала в косу, а на шее болталось тяжелое серебряное ожерелье – мой прадед изготавливал различные изделия из серебра. Прабабушка была дочерью разорившегося помещика, и она понимала, насколько важно для женщины иметь маленькие ножки. Бабушке не исполнилось и шести, как ей принялись бинтовать ноги, с каждым днем затягивая все туже. Для бинтования брали лоскут ткани длиной больше чжана[23], с его помощью прабабушка ломала бабушке косточки, заправляя все пальцы, кроме больших, под ступню. Боль была дикой! У моей матери тоже были маленькие ножки, и каждый раз, когда я их видел, на душе становилось тяжело. Мне так и хотелось гаркнуть во всю глотку: «Долой феодализм! Свободу ногам!» Испив горькую чашу страданий, бабушка в итоге обрела-таки «золотые лотосы в три цуня»[24]. В свои шестнадцать лет она уже расцвела, а когда шла, то размахивала руками и выгибалась в талии, словно ива на ветру. В тот день Шань Тинсю с корзиной для сбора навоза расхаживал по деревне, где жил прадедушка, и с первого взгляда заприметил среди девичьего цветника мою бабушку. А через три месяца свадебный паланкин уже вез ее в дом жениха.
Бабушка сидела в душном паланкине, у нее кружилась голова и рябило в глазах. Она ничего не видела из-за алой накидки, от которой шел кислый запах плесени. Бабушка подняла руку и убрала с лица накидку – хотя прабабушка строго-настрого запретила ее трогать, – тяжелый витой серебряный браслет соскользнул с запястья, бабушка посмотрела на змеевидный узор на браслете, и в душе все смешалось. Теплый юго-восточный ветер колыхал изумрудно-зеленый гаолян по обе стороны от узкой тропинки. С гаоляновых полей доносилось курлыканье голубей. С только-только засеребрившихся метелок гаоляна летела легкая пыльца. У бабушки перед глазами была шторка паланкина, вышитая драконами и фениксами[25]. Поскольку паланкин сдавался в аренду уже много лет подряд, красная шторка выцвела, а посередине виднелось большое масляное пятно. То был самый конец лета – начало осени, солнце палило нещадно, носильщики шли быстро, и паланкин трясся, бычья кожа на ручках скрипела, шторка паланкина слегка приоткрывалась, пропуская внутрь солнечные лучи и освежающий ветер. Бабушка вспотела, сердце колотилось, как барабан, она прислушивалась к размеренным шагам и тяжелому дыханию, и на нее то накатывал сильный холод, гладкий, как галька, то жар, обжигающий, словно перец чили.
После того как Шань Тинсю выбрал бабушку, незнамо сколько народу пришло поздравить прадеда и прабабушку с невиданной удачей. Бабушка хоть и не прочь была жить в достатке, как говорится, спать на золоте, есть на серебре, но еще сильнее ей хотелось обзавестись образованным, симпатичным, внимательным и заботливым супругом. В девичестве она вышивала свадебное одеяние и вышила прекрасный портрет моего будущего деда. Она очень хотела выйти замуж пораньше, но подружки намекнули, что сын этих Шаней прокаженный. У бабушки внутри все похолодело, она испытала горькое разочарование и высказала свои тревоги родителям. Прадед ушел от ответа, а прабабушка принялась поносить бабушкиных подружек: дескать, они как та лиса, что не может попробовать виноград и говорит, что он кислый. После этого прадед заявил, что отпрыск Шаней начитан, просто он все время сидит дома, а потому у него кожа на лице белая-белая, сразу видно, талант. Бабушка растерялась, не понимала, правда это или нет, ей казалось, что в Поднебесной нет таких жестокосердных родителей, может, и правда подружки наврали. Она снова стала с надеждой ждать дня свадьбы. Бабушка на пике молодости излучала яркую тревогу и бесцветное одиночество; вот она и жаждала упасть в объятия сильного мужчины, чтобы эту тревогу смягчить и избавиться от одиночества. Наконец бабушка дождалась дня свадьбы, ее усадили в большой паланкин, который тащили четверо носильщиков, перед паланкином и позади трубачи выдували на маленьких и больших трубах такие скорбные мотивы, что бабушка не могла сдержать слез. Паланкин подняли, и он покачивался, словно бы парил в облаках и плыл в тумане. Стоило процессии покинуть деревню, как ленивые музыканты перестали играть, а носильщики ускорили шаг. Аромат гаоляна проникал в глубь людских сердец. С гаоляновых полей доносилось пение и щебет диковинных птиц. Когда солнечные лучи проникали в полумрак внутри паланкина, в мыслях бабушки образ мужа постепенно обретал четкость. Ее сердце словно бы пронзали шилом, так сильно оно болело.
– Владыка Неба, спаси и помилуй меня! – Бабушка молилась про себя, и ее нежные губы трепетали. Над верхней губой рос нежный пушок. Она была в расцвете своей юности, в самом соку. Ее тихий шепот впитывали без остатка стенки и шторки паланкина.
Бабушка сорвала с головы пахнувшее кислятиной покрывало и положила на колени. По традиции в день свадьбы, несмотря на сильную жару, ее обрядили в три слоя новой одежды, в ватную куртку и ватные штаны. Внутри свадебный паланкин был потрепанным и грязным, словно гроб; неизвестно скольких в нем перевозили невест, уже обратившихся в бренные останки. Атлас на стенках паланкина загрязнился настолько, что казался жирным, из пяти мух, залетевших внутрь, три жужжали над бабушкиной головой, а две сели на шторку и терли черными лапками, напоминавшими прутики, свои блестящие глаза. Духота стала невыносимой, и бабушка тихонько выставила вперед крошечную ножку, похожую на молодой побег бамбука, приоткрыла шторку и тайком выглянула наружу. Она увидела мощные длинные ноги носильщиков, красиво очерченные под черными шелковыми брюками, и их крупные ступни, обутые в туфли из конопляного волокна. При каждом шаге ноги поднимали облачка пыли. Бабушка догадывалась, что у носильщиков должен быть крепкий торс, но, не выдержав, приподняла носок туфельки и подалась вперед. Она увидела отполированный до блеска фиолетовый шест из софоры и широкие плечи носильщиков. По обе стороны дороги плотной стеной стоял гаолян, словно единый массив, растения теснились друг к дружке, будто бы меряясь ростом, неотличимые серовато-зеленые метелки еще не открылись. Гаолян простирался насколько хватало глаз, напоминая журчащую реку. Местами дорога становилась совсем узкой, и листья, влажные от липкой жидкости, оставленной тлей, шурша задевали боковые стенки паланкина.
От тел носильщиков шел кисловатый запах пота, бабушка зачарованно вдыхала мужской аромат, а в душе, разумеется, расходилось кругами чувство влюбленности. Когда носильщики несли паланкин по дороге, то обычно шагали широко и слегка косолапили – это называлось «топтать улицу», – чтобы понравиться заказчику и тот побольше заплатил, а еще они так проявляли свой высокий профессионализм. Когда «топчешь улицу», нельзя сбиваться с ритма и нельзя вцепляться в шесты-ручки. Настоящие профессионалы упирали обе руки в бока и шагали в ногу, паланкин покачивался в том же ритме, что и мелодия, которую играли музыканты, напоминая всем, что за любым счастьем кроется такая же доля страданий. Когда паланкин вынесли на равнину, то носильщики стали безобразничать и раскачивать его: во-первых, спешили к месту назначения, во-вторых, хотели помучить новобрачную. Некоторых невест укачивало так, что их рвало прямо на роскошный наряд и вышитые туфельки; девушек выворачивало наизнанку, а носильщикам эти звуки приносили радость – ведь эти молодые крепкие парни несли жертву в чужие покои для новобрачных, на душе кошки скребли, вот и хотелось помучить невесту.
Из четырех носильщиков, что тащили мою бабушку, один стал впоследствии моим дедом. То был будущий командир Юй Чжаньао. В ту пору ему было всего двадцать, он был лучшим среди носильщиков гробов и свадебных паланкинов во всем дунбэйском Гаоми. Молодые люди его поколения обладали таким же ярким характером, что и гаолян в этих местах, не сравнить с нами, их хилыми потомками. По тогдашним обычаям носильщики в дороге подтрунивали над новобрачной, так же как работники винокурни пробовали вино своего производства, – это незыблемое правило, и они мучили бы даже невесту самого императора.
Листья гаоляна шелестели, задевая о стенки паланкина, и внезапно из глубин гаоляна донесся жалобный плач, нарушив монотонность происходящего. Плач этот очень напоминал мелодию, которую исполняли музыканты. Бабушка подумала, что и это музыка, и силилась представить, что же за инструмент держат в руках музыканты. Она ножкой отодвигала шторку до тех пор, пока не увидела взмокшую от пота поясницу одного из носильщиков, но куда внимательнее бабушка изучала свои обутые в красные вышитые туфельки ножки – заостренные, худенькие, печальные, в упавшем на них дневном свете они напоминали два лепестка лотоса, а еще больше – двух крошечных золотых рыбок, спрятавшихся на дне прозрачного пруда. Две розоватые хрустальные слезинки, похожие на зернышки гаоляна, скатились с бабушкиных ресниц, побежали по щекам и достигли уголков рта. На сердце у бабушки было тоскливо и горько, нарисованный ею образ статного и элегантного мужа приятной наружности, в высокой шапке и с широким поясом, как обычно изображают героев на сцене, затуманился слезами и исчез, она с ужасом увидела покрытое язвами лицо больного проказой Шань Бяньлана и похолодела. Бабушка подумала: неужто эти золотые лотосы, нежное, как персик, личико, все ее тепло и очарование достанутся прокаженному? Если так, то лучше уж умереть.
Долгий плач в гаоляновом поле перемежался со словами через запинку: «Небо чистое-е-е, небо сине-е-е, небо пестрое-е-е, братик мой родной, братик мой дурной, преставился-я-я, небо для сестренки обрушилося-я-я».
Должен сказать вам, что у нас в дунбэйском Гаоми женщины голосят по покойникам так же красиво, как поют. В первый год Республики[26] профессиональные плакальщики из Цюйфу, родины Конфуция, приезжали сюда учиться, как правильно оплакивать покойников. Бабушка почувствовала, что в такой радостный день встретить женщину, оплакивающую умершего мужа, – дурной знак. На сердце стало еще тяжелее. В этот момент один из носильщиков подал голос:
– Эй, девушка в паланкине, поговори с нами! Дорога дальняя, скучно до ужаса!
Бабушка поспешно схватила красное покрывало, накинула на голову и потихоньку убрала ножку, придерживающую шторку. В паланкине снова воцарилась непроглядная тьма.
– Спой-ка нам песенку, мы же тебя несем!
Музыканты словно бы пробудились ото сна и яростно задудели; взвыла большая труба.
– Ту-у-у-у… – Кто-то из носильщиков впереди передразнил трубу, и с обеих сторон от паланкина раздался грубый хохот.
Бабушка истекала потом. Перед тем как она села в паланкин, прабабушка много раз повторила, что в дороге ни в коем случае нельзя болтать с носильщиками, мол, носильщики и музыканты – представители низких профессий, лживые странные типы, которые могут выкинуть любую гадость.
Носильщики с силой раскачивали паланкин, бабушкин зад ерзал туда-сюда, а обеими руками она крепко держалась за сиденье.
– Даже не пикнешь? Трясите, ребята! Коли не вытрясем из нее ни звука, то хоть мочу выжмем!
Паланкин уже напоминал маленькую лодочку, попавшую в шторм. Бабушка мертвой хваткой вцепилась в сиденье, в животе бултыхались два яйца, съеденных утром, мухи жужжали под ухом, горло сжалось, тошнотворный яичный запах ударил в нос. Бабушка закусила губу. Нельзя, чтобы тебя вырвало, нельзя! Бабушка приказывала себе: «Нельзя, чтобы тебя стошнило, Фэнлянь, говорят, что когда невесту рвет в свадебном паланкине – это самый дурной знак, тогда всю жизнь счастья не видать…»
Носильщики стали говорить еще грубее: некоторые поносили моего дедушку, малодушный, мол, человечишка, про каких говорят «при виде денег и у слепого глаза открываются», некоторые намекали, дескать, свежий цветок воткнут в навозную кучу[27], а третьи заявляли, что Шань Бяньлан – прокаженный, истекающий гноем, мол, даже если просто встать за двором Шаней, то можно учуять смрад гниющей плоти, а во дворе у них толпами вьются зеленые мухи…
– Невестушка, ты не позволяй Шань Бяньлану до себя дотрагиваться, а не то сгниешь заживо!
Трубы и соны выли и всхлипывали, яичная вонь становилась сильнее, бабушка еще сильнее закусывала губу, в горло словно кто-то бил кулаком, и она не выдержала: стоило открыть рот, как из него фонтаном вырвалась рвота прямо на шторку паланкина. Пять мух пулей метнулись к рвоте.
– О, затошнило ее! Трясите! – заорали носильщики. – Трясите! Рано или поздно растрясем ее на разговоры!
– Братцы… пощадите… – горестно вымолвила бабушка в перерыве между рвотными спазмами, а потом заревела в голос. Бабушке было очень обидно, она понимала, что впереди ее ждет нечто опасное и до конца жизни не вырваться ей из моря страданий. Папа, мама… падкий на деньги отец, жестокосердная мать, вы мою жизнь сломали!
От бабушкиного рева гаолян содрогнулся. Носильщики перестали раскачивать паланкин, музыканты, создававшие своими инструментами бурю и поднимавшие волны, перестали дудеть. Остался лишь бабушкин горестный плач, да вступила одинокая грустная сона, которая рыдает даже красивее, чем любая из женщин. Услыхав эти звуки, бабушка резко прекратила плакать, как будто бы прислушалась к голосу природы, внимая музыке, доносившейся словно с небес. Бабушкино припудренное личико увяло, покрытое жемчужинами слез, в этой горестной мелодии она уловила звуки смерти, почуяла дыхание смерти, увидела смеющееся лицо божества смерти с такими же темно-красными, как гаолян, губами и кожей золотисто-желтого цвета зрелой кукурузы.
Носильщики замолчали, шаги их стали тяжелыми. Завывания жертвы в паланкине под аккомпанемент соны разбередили их души – так весло нарушает покой ряски или дождь бьет по траурному флагу с заклинаниями, призывающими душу. Процессия, двигавшаяся по узкой тропинке в гаоляновом поле, перестала напоминать свадебную, а походила теперь на похоронную. У носильщика, что был ближе всех к бабушкиным ножкам – моего будущего дедушки Юй Чжаньао, – душа озарилась странным предчувствием, которое вспыхнуло внутри, как пламя, и осветило дорогу впереди. Бабушкин плач пробудил в глубинах его души давно сокрытую там любовь.
Носильщики решили устроить в пути короткую передышку и поставили паланкин на землю. Бабушка от долгого плача была словно в тумане и сама не заметила, как выставила наружу маленькую ножку. При виде этой изящной, бесподобно красивой крошечной ножки носильщики забыли обо всем на свете. Тогда Юй Чжаньао подошел, наклонился, легонько взял бабушкину ножку, словно неоперившегося птенчика, и осторожно вернул в паланкин. А в паланкине бабушка растрогалась от этого нежного жеста, ей безумно хотелось откинуть шторку и посмотреть, как выглядит носильщик, которому принадлежит эта огромная молодая ласковая рука.
Мне кажется, влюбленные, которым небо уготовило быть вместе, связаны навеки невидимой нитью и через тысячу ли, и это непреложная истина. Когда Юй Чжаньао взял бабушкину ножку, то в его душе пробудилось огромное желание построить новую жизнь, которое в корне изменило его судьбу, как и судьбу моей бабушки.
Паланкин снова подняли, сона издала протяжный звук, похожий на крик обезьяны, а потом умолкла. Подул северо-восточный ветер, на небе скучились облака, заслоняя солнечный свет, внутри паланкина стало еще темнее. Бабушка слышала, как гаолян шелестел на ветру, шелест этот накатывал волнами и уходил вдаль. Где-то на северо-востоке загрохотал гром. Носильщики ускорили шаг. Сколько еще оставалось до дома Шаней, бабушка не знала; так чувствует себя связанный ягненок: чем ближе смертный час, тем он спокойнее. За пазухой она спрятала острые ножницы, возможно, припасла их для Шань Бяньлана, возможно, и для себя самой.
Важную роль в истории моего рода играет ограбление свадебного паланкина, в котором ехала моя бабушка, в Жабьей яме. Жабья яма – это низина посреди низины, земля там особенно тучная, воды достаточно, и гаолян растет особенно густо. Когда паланкин с бабушкой дотащили до Жабьей ямы, на северо-востоке небо пронзила кроваво-красная молния, обломки абрикосовых солнечных лучей с воем устремились к тропинке, пробиваясь сквозь густые облака. Носильщики запыхались и обливались горячим потом. Когда они оказались в Жабьей яме, воздух налился тяжестью, гаолян вдоль обочины потемнел, блестел как вороново крыло, гаоляновое море казалось бездонным, а дорога почти сплошь заросла дикой травой и цветами. Среди травы тянули тонкие длинные стебли васильки, распускались их фиолетовые, синие, розовые и белые цветы. В глубине гаоляна горестно квакали жабы, печально стрекотали кузнечики и жалобно подвывали лисы. Бабушка в паланкине внезапно ощутила порыв холодного воздуха, отчего кожа покрылась мурашками. Она еще не успела сообразить, что происходит, как услышала громкий окрик снаружи:
– Хотите пройти – откупайтесь!
Бабушкино сердце екнуло, она не знала, то ли расстроиться, то ли обрадоваться. О, небо! Им повстречался любитель кулачей!
В дунбэйском Гаоми разбойников было как грязи, они шныряли в гаоляновых зарослях, словно рыбы, сбивались в банды, чтобы грабить, похищать людей с целью выкупа, они без конца чинили всякие злодеяния, позабыв о добрых делах. Ежели испытывали голод, то ловили пару человек, одного оставляли в заложниках, а второго отправляли обратно в деревню, чтобы потребовать определенное количество тонких лепешек по две пяди в длину, в которые заворачивали яйца и зеленый лук. Поскольку разбойники упихивали лепешку с начинкой в рот обоими кулаками, то такие лепешки стали именовать кулачами.
– Откупайтесь! – взревел разбойник.
Носильщики остановились и уставились на мужика, который стоял посреди дороги, широко расставив ноги. Он был невысок, лицо вымазано черной тушью, на голове широкополая коническая шляпа, сплетенная из стеблей гаоляна, а одет разбойник был в просторный дождевой плащ, распахнутый на груди, под которым виднелась черная рубаха с множеством пуговиц и широким поясом, а за поясом торчал какой-то предмет, завернутый в красную шелковую тряпицу, который разбойник придерживал одной рукой.
У бабушки тут же мелькнула мысль, что при любом раскладе пугаться-то нечего, смерть ей не страшна, а чего еще бояться? Она отдернула шторку и посмотрела на любителя кулачей.
Разбойник снова заорал:
– А ну, платите! Иначе я вас мигом расстреляю!
Он похлопал по красному свертку, заткнутому за пояс.
Музыканты тут же отстегнули с поясов связки медных монет[28], которые заплатил им прадедушка, и кинули под ноги разбойнику. Носильщики поставили паланкин, достали полученные в награду медяки и сделали то же самое.
Разбойник ногой сдвинул связки монет в кучу, не отрывая взгляда от бабушки, сидящей в паланкине.
– А теперь встаньте позади паланкина, все вы! Не то пальну! – громко прикрикнул он, похлопав по предмету, заткнутому за пояс.
Носильщики медленно отошли. Юй Чжаньао был самым последним, он резко обернулся и уставился на любителя кулачей. Разбойник мгновенно поменялся в лице, крепко сжал красный сверток и пронзительно заверещал:
– Не оборачиваться! Еще раз башку повернешь, и я тебя прикончу!
Придерживая сверток за поясом, он направился к паланкину, шаркая ногами по земле, протянул руку и сжал бабушкину ножку. Бабушка усмехнулась, и злодей отдернул руку, словно бы обжегся.
– Вылезай из паланкина, пошли со мной! – приказал он.
Бабушка продолжала сидеть, не шелохнувшись, а усмешка словно бы застыла на ее личике.
– Вылезай!
Бабушка поднялась, смело перешагнула через шест-ручку паланкина и встала среди ярких васильков. Правым глазом она смотрела на разбойника, но краем левого глаза следила и за носильщиками и музыкантами.
– Иди в гаолян! – велел ей грабитель, все так же не отпуская красный сверток.
Бабушка стояла с уверенным видом; тут облака пронзила молния, сопровождавшаяся металлическим дребезжанием, и улыбка на бабушкином лице разбилась вдребезги. Разбойник подталкивал ее к гаоляну, не отнимая руки от предмета в красной тряпке. А бабушка горящим взглядом смотрела на Юй Чжаньао.
Юй Чжаньао двинулся прямиком на разбойника, его тонкие губы превратились в волевую линию, один уголок губ слегка приподнялся, второй – опустился.
– Ну-ка, стоять! – слабым голосом скомандовал разбойник. – Еще шаг, и я пальну!
Он прижимал рукой красный сверток.
Юй Чжаньао спокойно шел на злодея, он делал очередной шаг, а любитель кулачей пятился назад. Из глаз разбойника посыпались зеленые искры, а по лицу, на котором застыла паника, побежали ручьями кристальные капли пота. Когда их с Юй Чжаньао разделяло всего три шага, разбойник стыдливо крикнул, развернулся и бросился наутек, но Юй Чжаньао помчался за ним и успел пнуть его прямо в зад. Тело разбойника скользнуло над дикой травой, сбивая васильки, он летел параллельно земле и в воздухе сучил руками и ногами, как невинный младенчик, а потом приземлился в гаоляне.
– Братцы, пощадите! У меня дома мать восьмидесятилетняя, поневоле занялся разбоем! – хорошо поставленным голосом кричал злодей, барахтаясь в руках Юй Чжаньао. Тот схватил его за загривок, подтащил к носильщикам и с силой швырнул на землю, после чего пнул в рот, который ни на минуту не закрывался. Мужик закричал от боли, отплевываясь и задыхаясь, из носа у него хлынула кровь.
Юй Чжаньао наклонился, рывком вытащил из-за пояса разбойника красный сверток и развернул красную тряпицу – внутри оказалась небольшая изогнутая коряга. Носильщики и музыканты заохали.
Злодей плюхнулся на колени прямо на землю, без конца отбивал поклоны и молил о пощаде. Юй Чжаньао хмыкнул:
– Все разбойники на дорогах всегда рассказывают про восьмидесятилетнюю мать!
Он отошел в сторону и смотрел на носильщиков и музыкантов, как вожак собачьей стаи смотрит на остальных псов. Те с дикими криками окружили разбойника плотным кольцом и принялись осыпать его тумаками и пинками, было видно только, как мелькают руки и ноги. Сначала еще доносились пронзительные крики и плач разбойника, а потом он затих. Бабушка стояла у дороги, слушая, как с глухим стуком удары обрушиваются на тело злодея; она взглянула на Юй Чжаньао, потом подняла голову, посмотрела на молнию в небе, и на лице ее по-прежнему застыла величественная, ослепительная, как золото, улыбка.
Один из музыкантов поднял большую трубу и с размаху ударил разбойника по голове. Острый край вошел в кость черепа, да так, что пришлось применить немалую силу, чтобы его вытащить. В животе у разбойника что-то булькнуло, сведенное судорогой тело расслабилось и обмякло, а из глубокой раны потянулась ниточка красноватой жидкости.
– Подох? – спросил музыкант, державший в руках трубу, которой нанес смертельный удар.
– Забили мы его насмерть, но такую сволочь и убить не жалко!
Лица носильщиков и музыкантов помрачнели, им явно было не по себе.
Юй Чжаньао посмотрел на мертвеца, а потом на своих товарищей, но ни слова не сказал. Охапкой гаоляновых листьев он вытер бабушкину рвоту внутри паланкина, потом поднял ту корягу посмотреть поближе, замотал ее снова в красную тряпицу и с силой отшвырнул. В полете ткань размоталась, коряга упала первой, а следом и тряпица приземлилась на гаолян большой темно-красной бабочкой.
Юй Чжаньао усадил бабушку в паланкин:
– Дождь собирается, пора двигаться дальше!
Бабушка сорвала шторку и сунула ее под сиденье паланкина. Вдыхая свежий воздух, она смотрела на широкие плечи и тонкую талию Юй Чжаньао. Он был так близко от паланкина, что можно было бы протянуть ножку и дотронуться до его крепкой, побритой налысо головы.
Ветер крепчал, под его порывами по гаоляну бежали волны, а вдоль обочины гаолян кланялся до земли, словно бы выражая свое почтение бабушке. Носильщики рысью помчались вперед, но паланкин был на удивление устойчив, словно бы маленькая лодочка, стремительно скользящая по гребням волн. Лягушки и жабы возбужденно квакали в предвкушении надвигавшегося летнего ливня. Низко нависавший небосвод мрачно всматривался в серебристо-серые лики гаоляна, над макушками которого одна за другой сверкали кроваво-красные молнии, раскаты грома становились все громче, сотрясая барабанные перепонки. Волнение в душе бабушки нарастало, и она бесстрашно наблюдала, как черный ветер поднимает зеленые волны. Гром скрежетал как вращающиеся жернова, ветер постоянно менял свое направление, гаолян гнулся во все стороны, и в поле воцарился полный хаос. Первые капли дождя ударили по гаоляну с такой злостью, что он содрогнулся, дикие травы затрепетали, мелкозем под ногами стал собираться в комки, которые тут же трескались. Дождь забарабанил по крыше паланкина, по бабушкиным вышитым туфелькам, по лысой голове Юй Чжаньао, а брызги долетали до бабушкиного лица.
Юй Чжаньао и его товарищи стремительно неслись, как кролики, но не могли укрыться от этой утренней грозы. Дождь приминал бесчисленные стебли гаоляна, бушевал в полях, лягушки прятались под стеблями гаоляна, с шумом раздувая белоснежные грудки, лисицы сидели по темным норам, глядя на мелкие капли воды, брызгающие с гаоляна, дорогу очень быстро размыло, трава прижималась к земле, а васильки тянули свои влажные головки.
Широкие брюки носильщиков прилипли к телу, и все они стали стройными и гибкими, как тростинки. Дождь начисто омыл голову Юй Чжаньао, и она напоминала бабушке полную луну. От дождя промокла и бабушкина одежда, она могла бы вернуть на место шторку и укрыться за ней, но не стала, не захотела; вместо этого бабушка через широкий вход в паланкин смотрела на величественный окружающий мир, погрузившийся в хаос.
6
Раздвигая стебли гаоляна, отец быстро шел в северо-западном направлении, в сторону нашей деревни. Барсук с похожими на человеческие ноги лапами неуклюже метнулся вдоль борозды, но отец не обратил на него внимания. Оказавшись на дороге, где уже нельзя было запутаться в гаоляновых зарослях, он побежал словно дикий заяц. Под тяжестью браунинга матерчатый красный ремень провис, как заходящий месяц. Пистолет больно упирался в бедро, но от этой боли, вызывающей оцепенение, отец ощущал себя настоящим мужчиной. Вдалеке показалась деревня. Покрытое пышной листвой дерево гинкго, которое росло на околице уже почти сто лет, торжественно приветствовало отца. Он вытащил из-за пояса пистолет, поднял руку и на бегу целился в птиц, грациозно скользящих по небу.
Улица была безлюдной, только чей-то хромоногий слепой ишак, привязанный к глинобитной стене с осыпавшейся известкой, неподвижно стоял, повесив голову. На каменном катке примостились две темно-синих вороны. Все деревенские собрались на площадке перед нашей винокурней. Некогда эта площадка была ярко-алой, поскольку здесь сваливали в кучу красный гаолян, который закупала моя семья. В те дни бабушка, держа в руках метелку с белым хвостом, неторопливо и нетвердо переступая своими крошечными ножками, наблюдала, как наши подвыпившие работники деревянными ковшами мерили закупаемый гаолян, и на ее личике играли отблески утренней зари. Сейчас все стояли, повернувшись на юго-восток и прислушиваясь, не раздадутся ли выстрелы. Дети одного с отцом возраста не осмеливались шуметь, хотя едва сдерживались.
Отец и Сунь Пятый, тот самый, что в прошлом году освежевал дядю Лоханя ножом для разделки свиных туш, прибежали на площадку с разных сторон. После того случая Сунь Пятый тронулся умом, руки и ноги и у него дергались, глаза смотрели прямо перед собой, щеки дрожали, он бессвязно бормотал, пускал белую пену изо рта, а то вдруг плюхался на колени и орал дурниной: «Братец, братец, братец… это генерал меня заставил, я не осмелился ослушаться… Ты после смерти поднялся на небеса, ездишь там на белом скакуне, в седле с подвесками, носишь парадный халат, расшитый драконами, и у тебя золотая плеть…»
Односельчане, видя, что с ним сталось, перестали его ненавидеть. Прошло несколько месяцев после того, как Сунь Пятый рехнулся, и у него появились новые симптомы: бывало, он покричит-покричит, а потом внезапно глаза закатываются, из носа начинают ручьем течь сопли, а изо рта – слюни, а дальше ни слова не разобрать. Местные поговаривали, что это небесная кара.
Отец прибежал с браунингом в руке, он запыхался, голова его была припорошена белой пыльцой гаоляна и красной пылью. Сунь Пятый появился на площади в лохмотьях, припадая на правую ногу. Но собравшиеся не обращали на него внимания, поскольку смотрели на моего отважного отца.
Бабушка подошла к отцу. Ей только-только исполнилось тридцать, волосы она завязывала в тугой узел, а челка, разделенная на пять прядей, закрывала гладкий лоб, словно занавес, украшенный жемчужинами. Бабушкины глаза всегда были влажными и блестящими, как осенний паводок, – некоторые поговаривали, что это от гаолянового вина. Пятнадцать лет постоянного преодоления трудностей превратили ее из юной невинной девушки в яркую молодую женщину.
Бабушка спросила:
– Что случилось?
Отец, задыхаясь, заткнул браунинг обратно за пояс.
– Японцы не появились?
Отец ответил:
– Мы этого гребаного командира Лэна не пощадим!
– Что случилось? – не унималась бабушка.
– Напеки кулачей.
– Я не слышала звуков боя.
– Напеки лепешек, да заверни побольше яиц и лука.
– Японцы не пришли?!
– Командир Юй велел напечь кулачей да чтоб ты лично принесла!
– Односельчане, расходимся по домам месить тесто и печь лепешки! – велела бабушка.
Отец повернулся и собрался было бежать, но бабушка схватила его за руку:
– Доугуань, отвечай маме, что там с подразделением Лэна?
Отец выдернул руку и рассерженно сказал:
– От них ни слуху! Командир Юй этого так не оставит!
Отец убежал. Бабушка, глядя на его худенькую спину, вздохнула. На опустевшей площадке все еще торчал Сунь Пятый. Он остекленевшими глазами смотрел на бабушку, энергично жестикулировал, а изо рта с бульканьем вытекала слюна.
Бабушка, не обращая внимания на Суня, направилась к девушке с длинным личиком, которая стояла, опершись о стену. Та хихикнула, но стоило бабушке подойти вплотную, как девушка внезапно присела на корточки, обеими руками ухватилась за пояс штанов и визгливо заплакала. В ее глазах, похожих на глубокие омуты, вспыхнули искры безумия. Бабушка погладила девушку по лицу, приговаривая:
– Линцзы, хорошая девочка, не бойся!
Семнадцатилетняя Линцзы в то время слыла первой красавицей в нашей деревне. Когда командир Юй впервые набирал солдат под свое знамя, в отряде числилось больше пятидесяти человек, в том числе один бледный худощавый юноша с черными как вороново крыло длинными волосами, который одевался во все черное, если не считать пары белых кожаных ботинок. По слухам, Линцзы влюбилась в того парня. Он говорил на красивом пекинском диалекте, никогда не улыбался, вечно хмурил брови, отчего между ними образовались три вертикальные морщинки. Его все называли адъютантом Жэнем. Линцзы чувствовала, что за прекрасной ледяной наружностью адъютанта Жэня полыхает жар, да такой сильный, что она не могла найти себе места. В тот момент солдаты адъютанта Жэня каждое утро маршировали на пустой площадке, где раньше моя семья складировала закупленный гаолян. Горнистом в отряде адъютанта Жэня был наш местный музыкант Лю Сышань, который на своей трубе исполнял все военные сигналы. Каждый раз перед началом строевой подготовки Лю Сышань играл сбор. Линцзы, заслышав звуки трубы, выскакивала из дома и как ветер неслась к плацу, чтобы прижаться к глинобитной стене в ожидании адъютанта Жэня. Адъютант Жэнь отвечал за строевую подготовку, он подпоясывался широким ремнем из бычьей кожи, на котором болтался браунинг.
Адъютант Жэнь, выпятив грудь и втянув живот, выходил перед своим отрядом, командовал «смирно!», и в двух шеренгах солдаты стучали что есть мочи пяткой о пятку.
– Когда дана команда «смирно», – наставлял адъютант Жэнь, – ноги нужно выпрямить, живот втянуть, грудь выпятить и широко открыть глаза, как леопард, готовый напасть на человека. Глянь, как ты стоишь! – Адъютант Жэнь пнул Ван Вэньи. – Что ноги-то расставил, как кобылица, которой по малой нужде приспичило?! И бьешь тебя, а все без толку!
Линцзы нравилось смотреть, как адъютант Жэнь бьет солдат, и нравилось слушать, как он их ругает. Его непринужденные манеры сводили Линцзы с ума. В свободное время адъютант Жэнь прогуливался по импровизированному плацу, заложив руки за спину, а Линцзы из-за стены тайком наблюдала за ним.
Как-то раз он спросил:
– Как тебя звать?
– Линцзы.
– Что ты там прячешься за стеной?
– На вас смотрю.
– Грамотная?
– Не-а.
– Хочешь в солдаты?
– Не-а.
– Значит, не хочешь.
Линцзы потом жалела, она сказала моему отцу: если адъютант Жэнь снова спросит, она ответит, что хочет в солдаты. Вот только адъютант Жэнь больше не спросил.
Линцзы с моим отцом и другими ребятишками поверх стены наблюдала, как адъютант Жэнь обучал на плацу солдат революционным песням. Отец ростом был маленький, приходилось вставать на горку из трех камней, чтобы увидеть, что происходит по ту сторону стены. Линцзы клала подбородок на стену и во все глаза смотрела на адъютанта Жэня, утопавшего в утреннем свете. Жэнь учил солдат песне: «Гаолян заалел, гаолян покраснел, псы японские тут как тут, и творят беспредел, и страну они рвут, наши родичи толпами мрут! Ты, товарищ, вставай, будем бить мы врагов, охранять наш родимый край!»
Солдаты в отряде были все сплошь косноязычные, так и не могли нормально выучить песню, а вот дети, выглядывавшие из-за стены, пели без запинки. Отец до конца жизни помнил слова этой песни.
Однажды Линцзы набралась смелости и сама пошла к адъютанту Жэню, вот только по ошибке зашла в комнату ответственного за снабжение войск Зубастого Юя, который приходился командиру Юй Чжаньао родным дядей. Зубастому Юю перевалило за сорок, больше всего на свете он любил спиртное, деньги и женщин. В тот день он надрался в хлам, и тут в комнату ворвалась Линцзы; это все равно что мотылек летит к огню, а невинный ягненок попадает в логово к тигру…
Адъютант Жэнь приказал нескольким солдатам из своего отряда связать Зубастого Юя, который лишил девственности Линцзы.
Командир Юй тогда был расквартирован у нас дома, и когда к нему явился с донесением адъютант Жэнь, он спал на кане у моей бабушки. Бабушка уже умылась, расчесалась и собиралась поджарить несколько рыбинок в качестве закуски к вину, тут в комнату влетел разъяренный адъютант Жэнь и напугал бабушку так, что она аж подпрыгнула.
Адъютант Жэнь спросил у бабушки:
– Где командир?
– На кане спит.
– Разбуди его!
Бабушка сделала то, что ей велели.
Вышел заспанный командир Юй, он потягивался и зевал.
– Что случилось?
– Командир Юй, ежели япошка снасильничает одну из наших сестриц, надо ли его убить? – спросил адъютант Жэнь.
– Конечно!
– А ежели это будет китаец!
– Убить!
– Хорошо, товарищ командир, я ждал, что вы так скажете. Зубастый Юй надругался над простой девушкой Цао Линцзы. Я уже велел братьям связать его.
– Да неужто?
– Командир, на какое время назначим расстрел?
Командир Юй икнул и сказал:
– Переспать с бабой – не такое уж великое преступление!
– Товарищ командир, перед законом все равны, даже наследник императора!
– И как ты предлагаешь его покарать? – мрачно поинтересовался командир Юй.
– Расстрелять! – без тени сомнения ответил адъютант Жэнь.
Командир Юй хмыкнул и начал нервно мерять комнату шагами со злой миной. Затем лицо его растянулось в улыбке.
– Адъютант Жэнь, а что если мы всыплем ему прилюдно пятьдесят ударов плетью, а семье Линцзы выплатим двадцать юаней серебром?
Адъютант Жэнь насмешливо поинтересовался:
– Только потому, что он ваш родной дядя?
– Восемьдесят ударов плетью? А еще в наказание заставим жениться на Линцзы, я даже буду звать ее тетушкой!
Адъютант Жэнь снял с себя ремень и вместе с браунингом кинул командиру Юю в руки, после чего поклонился, сложив руки в почтительном жесте[29], и со словами «Командир, так будет проще для нас обоих!» стремительно вышел во двор.
Командир Юй с браунингом в руке смотрел вслед уходящему адъютанту Жэню. Потом процедил сквозь зубы:
– Катись ты знаешь куда, еще будут меня всякие несмышленыши учить! За те десять лет, что я разбойничал, никто не смел так развязно себя со мной вести!
Бабушка сказала:
– Чжаньао, нельзя отпускать адъютанта Жэня, как говорится, тысячу солдат легко набрать, а одного генерала с трудом сыщешь.
– Бабы в этом не разбираются! – в сердцах огрызнулся командир Юй.
– Я-то считала тебя храбрецом, вот уж не думала, что ты такой слабак! – заявила бабушка.
Командир Юй навел на нее пистолет.
– Что, жить надоело?
Бабушка рывком разорвала на груди сорочку, обнажив груди, похожие на пончики из рисовой муки.
– Стреляй!
Отец с криком «мамка!» кинулся к ней на грудь.
Неизвестно, сколько воспоминаний промелькнуло у Юй Чжаньао, пока он смотрел на круглую голову моего отца и прекрасное, словно луна, лицо бабушки. Он вздохнул, убрал пистолет и сказал:
– Одежду поправь!
С плетью в руках Юй Чжаньао вышел во двор, отвязал своего жеребчика соловой масти и, не седлая, поскакал на плац.
Солдаты лениво ошивались у стенки; при виде командира Юя все тут же встали по стойке смирно, никто не проронил ни слова.
Зубастого Юя со связанными руками привязали к дереву.
Командир Юй спешился и подошел к Зубастому Юю.
– Ты и впрямь такое сотворил?
Зубастый Юй запричитал:
– Чжаньао, развяжи меня, и я уйду.
Все взгляды солдат были прикованы к командиру Юю.
Командир Юй сказал:
– Дядя, мне придется тебя расстрелять.
Зубастый Юй взревел:
– Ублюдок! Осмелишься родного дядю умертвить?! Вспомни, сколько тебе дядя добра сделал! У тебя отец умер рано, дядя горбатился, зарабатывал, чтоб содержать твою мамку и тебя, если бы не я, то ты давно бы уже собак кормил!
Командир Юй взмахнул плетью, хлестнул Зубастого Юя по лицу и выругался:
– Ах ты, негодяй!
Затем он бухнулся на колени и воскликнул:
– Дядя, я никогда не забуду, что ты меня воспитал! После твоей смерти я надену траурную одежду, а на Новый год и другие праздники буду убираться на твоей могиле и устраивать жертвоприношения.
Командир Юй отвернулся, вскочил на жеребчика, подстегнул его, понесся в том направлении, куда ушел адъютант Жэнь, и догнал его. От цокота копыт сотрясался весь мир.
Отец своими глазами видел расстрел Зубастого Юя. Немой вместе с двумя другими солдатами оттащили приговоренного на западную околицу. Местом казни выбрали излучину реки Мошуйхэ в виде полумесяца, где скапливалась черная гнилая вода и водился в большом количестве гнус. На берегу росла одинокая ива с темно-желтыми листьями. Здесь прыгали с хлюпаньем жабы, а на куче обрезков волос валялась потрепанная женская туфелька.
Двое солдат подтащили Зубастого Юя к излучине, поставили там и посмотрели на Немого. Немой снял с плеча винтовку, передернул затвор, и пуля со звоном вошла в ствол.
Зубастый Юй повернулся лицом к Немому и улыбнулся. Отец увидел, что улыбка у него добрая и ласковая, словно тусклые лучи заходящего солнца.
– Братец Немой, развяжи меня, не могу я умереть с этими веревками!
Немой подумал немного, потом, не выпуская винтовки из рук, вытащил из-за пазухи нож и с треском перерезал пеньковые веревки. Зубастый Юй расслабил руки, повернулся и заорал:
– Стреляй, братец Немой! Целься в висок! Чтоб я не страдал!
Отцу казалось, что окружающие испытали благоговение перед человеком, который находился на грани смерти. В конце концов, Зубастый Юй был отпрыском нашего дунбэйского Гаоми. Да, он совершил серьезное преступление, даже смертью не мог искупить вину, но перед лицом кончины проявил должный героический дух. Отца его поведение тронуло так сильно, что аж пятки загорелись огнем и захотелось прыгать на месте.
Зубастый Юй посмотрел на застойную гнилую воду, где плавали несколько островков зеленых листьев и хилый белый цветок дикого лотоса, потом перевел взгляд на ослепительный гаолян на противоположном берегу реки, сплюнул и громко запел:
– Гаолян заалел, гаолян покраснел, псы японские тут как тут, и творят беспредел, и страну они рвут, наши родичи толпами мрут…
Немой поднял винтовку, потом опустил и снова поднял.
Два солдата сказали:
– Немой, давай попросим командира Юя о снисхождении! Пощади его!
Крепко сжимая винтовку, Немой слушал, как Зубастый Юй горланит песню, не попадая в ноты.
Зубастый Юй развернулся и, гневно глядя широко распахнутыми глазами, заорал:
– Стреляй, брат! Неужто я сам себя должен убить?
Немой вскинул винтовку, прицелился в выпуклый лоб Зубастого Юя и спустил курок.
Отец увидел, как лоб Зубастого Юя раскололся, как черепица, и только потом до его ушей долетел глухой звук выстрела. Немой низко опустил голову, а ствол выплюнул струйку белоснежного порохового дыма. Тело Зубастого Юя замерло на пару секунд, словно деревяшка, а потом рухнуло в воду.
Немой ушел, таща за собой винтовку, двое солдат поковыляли следом.
Отец вместе с толпой ребятишек, охваченный смертельным ужасом, подошел к краю берега и оттуда посмотрел на Зубастого Юя, лежавшего в грязи на спине. От его лица целым остался только рот, черепную коробку снесло, мозги вытекли и залили уши, один глаз выпал из орбиты и висел рядом с ухом, словно огромная виноградина. Его тело упало в грязь так, что брызги полетели во все стороны, сломав стебель хилого белого лотоса, несколько тонких белых волокон протянулись вдоль руки покойника. Отец учуял нежный аромат лотоса.
Впоследствии адъютант Жэнь раздобыл гроб из кипарисового дерева, обитый желтым атласом и покрытый лаком толщиной с медную монету. Зубастого Юя обрядили, положили в гроб и похоронили со всеми церемониями, а могилу вырыли под той маленькой ивой у излучины. В день похорон адъютант Жэнь оделся во все черное. Волосы его блестели, а на левое предплечье он повязал красную шелковую ленту. Командир Юй облачился в траурные холщовые одежды и в голос рыдал. Когда похоронная процессия вышла за околицу, Юй со всей силы разбил о кирпичи новый глиняный горшок[30].
В тот день мама повязала отцу белую траурную повязку да и сама оделась в холщовые траурные одежды. Отец с палкой из свежесрубленного ивового колышка шел следом за командиром Юем и бабушкой. Он видел, как разлетелись черепки глиняного горшка, и это напомнило ему, как раскололся, словно черепица, лоб Зубастого Юя. Отец смутно чувствовал, что две эти похожие картины как-то неразрывно связаны между собой, а столкновение двух этих событий может повлечь за собой и третье.
Отец не проронил ни слезинки, ледяным взглядом наблюдая за похоронной процессией. Ее участники окружили иву, и шестнадцать крепких парней играючи опустили тяжелый гроб в глубокую могилу на восьми пеньковых веревках толщиной в полпяди, взявшись за оба конца. Командир Юй зачерпнул пригоршню земли и отстраненно бросил на сверкающую крышку гроба. Послышался грохот, от которого содрогнулись сердца. Несколько человек с лопатами начали поддевать большие комья чернозема и закапывать могилу, гроб возмущенно кряхтел, потихоньку исчезая под слоем земли, который становился все толще и толще; сначала он поравнялся с краями могилы, потом вырос в холмик в форме пампушки. Командир Юй достал пистолет и, прицелившись в небо над ивой, трижды пальнул. Пули друг за дружкой пролетели через крону дерева, сбив несколько желтых листиков, похожих на тонкие брови. Три блестящие словно лед гильзы со щелчком отскочили в вонючую жижу в излучине, и какой-то мальчишка прыгнул туда же и, чавкая в зеленой грязи, подобрал их. Адъютант Жэнь достал браунинг и тоже дал три выстрела подряд. Пули вылетели из ствола со свистом, пронзительным, как крики петухов, и понеслись над гаоляном. Адъютант Жэнь и командир Юй стояли с дымящимися пистолетами, глядя друг другу в глаза. Адъютант Жэнь покивал:
– Он умер как герой!
С этими словами он сунул пистолет за пояс и широким шагом двинулся в сторону деревни.
Отец заметил, что рука командира Юя, в которой тот держал пистолет, медленно поднялась, дуло пистолета преследовало спину адъютанта Жэня. Участники похоронной процессии ужасно удивились, но никто не осмеливался и пикнуть. Ни о чем не подозревавший адъютант Жэнь размеренно шагал с гордо поднятой головой к деревне, навстречу солнцу, которое вращалось, словно шестеренка. Отец видел, что пистолет в руках командира Юя дрогнул. Отец практически не слышал звука выстрела, настолько он был слабым и далеким, лишь увидел, как пуля пролетела совсем низко и практически скользнула по черным, как вороново крыло, волосам адъютанта Жэня. Адъютант Жэнь не повернул головы, продолжив двигаться вперед все тем же размеренным шагом. Отец услышал, что адъютант насвистывает до боли знакомый мотив. Это была песня «Гаолян заалел, гаолян покраснел». Глаза отца наполнились горючими слезами. Чем дальше уходил адъютант Жэнь, тем больше казался его силуэт. Командир Юй снова выстрелил. От этого выстрела содрогнулись небо и земля, отец одновременно увидел полет пули и услышал звук выстрела. Пуля вонзилась в горло гаоляновому стеблю, и тот повалился на землю. Пока колос медленно падал, его сразила еще одна пуля. Отцу смутно показалось, что адъютант Жэнь наклонился, сорвал у дороги золотисто-желтый цветок дикого латука и долго-долго нюхал его.
Отец говорил мне, что адъютант Жэнь почти наверняка был коммунистом. Кроме коммунистов таких чистокровных героев и не сыщешь. Вот только, к сожалению, герою уготована была короткая жизнь. Спустя три месяца после того, как он удалился размашистой походкой, демонстрируя всем свою героическую выдержку, Жэнь чистил тот самый браунинг, и пистолет выстрелил у него в руках. Пуля вошла в левый глаз и вышла из правого уха, половина лица покрылась порошком синего цвета со стальным отливом, а из правого уха вытекала капельками черная кровь. Люди, услышав выстрел, подбежали к адъютанту, но тот уже мертвым лежал на земле.
Командир Юй поднял браунинг адъютанта Жэня и долго молчал.
7
Бабушка несла на коромысле корзины с кулачами, а жена Ван Вэньи тащила на коромысле два ведра похлебки из золотистой фасоли. Они поспешно продвигались в сторону большого моста через реку Мошуйхэ. Первоначально женщины хотели срезать через гаоляновое поле, напрямую на юго-восток, но с коромыслами пробираться через заросли гаоляна оказалось непросто. Бабушка сказала:
– Сестрица, давай пойдем по дороге. Хоть и длиннее, да выйдет быстрее.
Бабушка с женой Ван Вэньи, словно две больших птицы, прям-таки летели по пустой дороге. Бабушка переоделась в темно-красную куртку, а на черные волосы нанесла специальное масло для расчесывания, так что они блестели. Жена Ван Вэньи была очень миниатюрной, но хваткой и проворной. Когда командир Юй начал вербовать солдат, она сама привела мужа к нам домой и попросила бабушку замолвить словечко, чтоб Ван Вэньи забрали в партизаны. Бабушка обещала помочь. Командир Юй оставил Ван Вэньи только из уважения перед бабушкиным авторитетом. Он спросил у Ван Вэньи:
– Ты смерти боишься?
Тот ответил:
– Боюсь.
Жена добавила:
– Товарищ командир, он говорит, что боится, а сам не боится. Во время японской бомбежки наших трех сыночков разорвало на кусочки.
Ван Вэньи категорически не годился в солдаты, реакции у него были замедленные, он путал право и лево, а во время строевой подготовки на плацу получал от адъютанта Жэня незнамо сколько раз. Жена предложила ему выход: велела в правой руке сжимать стебель гаоляна, как услышит команду «направо!», так разворачиваться в сторону той руки, которая держит гаолян. Ван Вэньи стал-таки солдатом, но оружия у него не было, и бабушка отдала ему наш дробовик.
Когда они поднялись на извилистый берег Мошуйхэ, не было времени любоваться на желтый лилейник, который пышным цветом цвел по обе стороны насыпи, и заросли кроваво-красного гаоляна, простиравшиеся за насыпью. Женщины спешили на восток. Супруга Ван Вэньи привыкла к трудностям, а моя бабушка – к комфорту, бабушка обливалась потом, а у жены Ван Вэньи и капельки пота не выступило.
Отец давно уже прибежал к началу моста и отчитался перед командиром Юем, сказал, что лепешки скоро принесут, и командир с довольным видом потрепал его по голове. Большая часть отряда залегла в гаоляновом поле и грелась на солнышке. Отцу скучно было сидеть на месте, он нырнул в гаоляновое поле с западной стороны дороги, чтобы посмотреть, чем там занят Немой и его ребята. Немой увлеченно точил свой кинжал; отец, придерживая браунинг за поясом, встал перед ним с победоносной усмешкой. При виде отца Немой осклабился. Некоторые солдаты спали и громко храпели. Те, кто не спал, тоже лениво валялись, с отцом никто не разговаривал. Отец вновь выскочил на шоссе, где через желтизну проступал белый цвет, поскольку дорога уже совсем притомилась. Ее преграждали грабли, лежавшие рядком, их острые зубья тянулись в небо, и отец прямо-таки ощутил, что и грабли изнывали уже от ожидания. Каменный мост припал к воде, как больной, только-только начавший поправляться от тяжелого недуга. Отец уселся на насыпи, глядя то на восток, то на запад, то на воду, то на диких уток. Речка была очень красивой, каждая водоросль жила своей жизнью, каждый крошечный гребешок волны скрывал секреты. Отец увидел на дне несколько кучек белых костей, то ли мулов, то ли лошадей, плотно облепленных водорослями, и снова вспомнил тех двух наших больших черных мулов. Весной в полях целыми толпами скакали дикие зайцы, бабушка верхом на муле с охотничьим ружьем в руках гонялась за ними. Отец тоже сидел на муле, обнимая бабушку за талию. Зайцы испуганно шарахались, и бабушка их подстреливала, а когда они с отцом возвращались домой, то на шее мула болталось сразу несколько диких зайцев. Один раз, когда бабушка ела зайчатину, у нее между задними зубами застряла дробинка размером с большое гаоляновое зерно и никак не вынималась.
А еще отец наблюдал за муравьями. Отряд темно-красных муравьев поспешно перетаскивал ил. Отец положил в середину их цепочки ком земли, но те муравьи, которым этот ком преградил путь, не пошли в обход, а принялись энергично карабкаться вверх, тогда отец швырнул ком в реку, по воде пошли круги, но плеска не было. Солнце стояло в зените, над рекой в горячем воздухе поднимался специфический запах, напоминавший рыбный. Все вокруг сверкало и жужжало. Отцу показалось, что все пространство между небом и землей было заполнено красной гаоляновой пыльцой и ароматом гаолянового вина. Он лег на спину, и в этот момент его сердце подпрыгнуло. Только потом он понял: ожидание оказалось не напрасным, но плоды его были весьма заурядными, простыми и естественными. Отец увидел, как по шоссе среди гаоляна в его сторону беззвучно ползут четыре темно-зеленых существа, напоминающие огромных жуков.
– Грузовики! – невнятно проговорил отец, но на него никто не обратил внимания. – Японские черти! – Отец подпрыгнул, в растерянности глядя на машины, которые двигались в его сторону, словно метеоры, за ними тянулся длиннющий темно-желтый хвост дыма, а из передней части с треском вырывались раскаленные добела лучи. – Грузовики приехали!
Слова отца, как нож, сразили всех наповал, и гаоляновое поле накрыла тревожная тишина.
Командир Юй довольно хмыкнул:
– Приехали все-таки, сволочи! Братцы, готовимся, по моей команде открывайте огонь!
С западной стороны дороги Немой подпрыгнул, хлопнув себя по заду. Несколько десятков солдат наклонились, похватали оружие и улеглись на пологом склоне.
Стало слышно гудение моторов. Отец улегся рядом с командиром Юем, вытащив тяжелый браунинг, запястья затекли и горели огнем, ладони вспотели и стали липкими, мышца между большим и указательным пальцем сначала дернулась, а потом ее и вовсе свело судорогой. Отец с изумлением наблюдал, как небольшой участок плоти размером с абрикосовую косточку ритмично трепыхается, словно там спрятан цыпленок, пытающийся выбраться из скорлупы. Он не хотел, чтобы кисть дрожала, но поскольку сжал пистолет слишком сильно, то следом затряслась вся рука. Командир Юй легонько надавил ему на спину, кисть перестала дрожать, и отец переложил браунинг в левую руку, но пальцы правой скрючило так сильно, что они целую вечность не могли распрямиться.
Грузовики стремительно приближались, увеличиваясь в размерах, из глаз размером с лошадиное копыто на мордах грузовиков лился белый свет. Громкий гул моторов, словно ветер перед внезапным ливнем, принес с собой незнакомое волнение, которое давило на людские сердца. Отец видел грузовики впервые в жизни и гадал, чем питаются эти чудища, травой или кормом, пьют воду или кровь, ведь они бегали даже быстрее, чем те два наших молодых сильных мула на тонких ногах. Луноподобные колеса быстро вращались, поднимая облака желтой пыли. Вскоре стало видно и что перевозили в грузовиках. На подъезде к каменному мосту автоколонна замедлила ход, желтый дым, тянувшийся за машинами, переместился вперед, скрыв за пеленой два десятка японцев в коричневой форме и блестящих стальных шлемах. Только потом отец узнал, что эти шлемы называются касками. (В одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году, когда началась массовая выплавка стали[31], у нас конфисковали все котелки, и мой старший брат стащил одну такую каску из груды металлолома и подвесил ее над очагом, чтобы кипятить воду и готовить еду. Когда отец зачарованно смотрел, как в огне каска меняет свой цвет, его глаза обрели торжественно-печальное – как у старого коня – выражение.) На двух грузовиках, что ехали посередине, были свалены небольшой горкой белоснежные мешки, а в последней машине, как и в первой, стояло двадцать с чем-то японцев в стальных касках. Колонна подъехала к насыпи, неспешно крутившиеся колеса казались громоздкими, а квадратными мордами грузовики напомнили отцу голову гигантской саранчи. Желтая пыль постепенно оседала, а из задней части машин вырывались клубы темно-синего дыма.
Отец вжал голову в плечи, холодок, которого он доселе не испытывал, от ступней поднялся в живот, собрался там в комок и давил изнутри. Ему ужасно захотелось по-маленькому, он с силой сжал ягодицы, чтобы не обмочить штаны. Командир Юй строгим голосом прикрикнул:
– Ну-ка не ерзай тут, постреленок!
Отец не мог уже терпеть и попросил у названого отца позволения сходить отлить.
Получив разрешение, он отполз до гаолянового поля и с силой выпустил струю мочи, такой же темной, как гаолян, и обжигающе-горячей. Он почувствовал неимоверное облегчение. Отец невольно окинул взглядом лица партизан – все они были свирепыми и страшными, как у статуй в храмах. Ван Вэньи высунул язык, глаза его остекленели, как у ящерицы.
Грузовики, как огромные настороженные звери, поползли вперед, затаив дыхание. Отец уловил исходящий от них запах. В этот момент бабушка в насквозь мокрой от пота красной куртке и пыхтящая от натуги жена Ван Вэньи вышли на извилистую насыпь вдоль реки Мошуйхэ.
Бабушка несла на коромысле лепешки, а жена Ван Вэньи – ведра с похлебкой из золотистой фасоли. Они с облегчением увидели вдали печальный каменный мост через Мошуйхэ. Бабушка радостно сообщила жене Ван Вэньи:
– Тетушка, наконец-то мы дотащились!
После замужества бабушка всегда жила в достатке и роскоши, от тяжелого коромысла на нежном плече остался глубокий фиолетовый след, который сопровождал ее до конца жизни и вместе с ней вознесся на небо, став славным символом героической борьбы бабушки против японских оккупантов.
Отец увидел ее первым. Повинуясь какой-то таинственной силе, он повернул голову на запад, тогда как взгляды остальных были прикованы к неспешно приближавшимся грузовикам. Отец увидел, как бабушка огромной ярко-красной бабочкой медленно летит в его сторону. Он громко крикнул:
– Мама!
Его крик словно бы послужил приказом, и японцы открыли с грузовиков кучный огонь. На крышах были установлены три ручных пулемета «Тип 11»[32]. Звук выстрелов был мрачным, как лай собак в дождливую ночь. Прямо на глазах отца куртка с треском лопнула на груди матери, и образовались две дырочки. Бабушка радостно вскрикнула, рухнула на землю, а сверху ее придавило коромыслом. Две плетеные корзины с лепешками разлетелись в стороны, одна укатилась на юг от насыпи, а вторая – на север. Белоснежные лепешки, ярко-зеленый лук и раздавленные яйца для начинки рассыпались по сочной траве на склоне. После того как бабушка упала, из квадратного черепа жены Ван Вэньи прыснула красно-желтая жидкость – брызги разлетелись аж до гаоляна под насыпью. Отец увидел, как эта маленькая женщина, сраженная пулей, пошатнулась, потеряла равновесие, накренилась к южному склону насыпи и скатилась к реке. Ведра, которые она несла на коромысле, опрокинулись, и похлебка растеклась, словно кровь героев. Одно из железных ведер, подпрыгивая, докатилось до реки и потихоньку поплыло по темной воде, миновало Немого, пару раз ударилось об опору моста, проскользнуло под пролетом и оставило позади командира Юя, моего отца, Ван Вэньи, Седьмого и Шестого братьев Фан.
– Мама-а-а! – в ужасе крикнул отец и метнулся к насыпи.
Командир Юй попытался схватить отца, но не сумел. Он прорычал:
– Вернись!
Отец не слышал приказа, он ничего не слышал. Маленькая худенькая фигурка отца мчалась по узкой насыпи, на ней играли пятна солнечного света. На подходе к насыпи отец выкинул тяжелый пистолет, и тот приземлился на золотисто-желтый цветок латука с поломанными листьями. Раскинув руки, словно крошечный птенчик в полете, отец несся к бабушке. На насыпи было тихо, можно было услышать, как оседает пыль, вода, казалось, лишь светится, но остается неподвижной, а гаолян под насыпью стоял безмятежно и торжественно. Маленькая худенькая фигурка бежала, но отец казался величавым и героически-прекрасным. Он пронзительно кричал «мама-мама-мама!», и это слово было насквозь пропитано кровью и слезами, родственной любовью и высоким порывом. Отец добежал до конца восточной части насыпи, перемахнул через заграждение из грабель и начал карабкаться по склону западного отрезка насыпи. Под дамбой промелькнуло окаменевшее лицо Немого. Отец добежал до тела бабушки и позвал ее. Она лежала на насыпи, уткнувшись лицом в траву. На спине у нее виднелось два пулевых отверстия с рваными краями, из которых пробивался запах свежего гаолянового вина. Отец потянул бабушку за плечи и перевернул. Лицо бабушки не пострадало, на нем застыло серьезное выражение, ни одна волосинка не выбилась из прически, челка свисала на лоб пятью прядками, кончики бровей слегка опустились. Глаза бабушки были приоткрыты, губы казались пунцовыми на пепельном лице. Отец схватил теплую бабушкину ладонь и снова позвал ее. Бабушка распахнула глаза, и лицо расплылось в невинной улыбке. Она протянула сыну руку.
Грузовики японских чертей остановились у въезда на мост, гул моторов звучал то громче, то тише.
Какой-то высокий человек метнулся на насыпь и стащил вниз отца и бабушку. Это Немой подоспел как раз вовремя. Отец и опомниться не успел, как еще одна пулеметная очередь, подобная порыву ветра, сломала и разбила вдребезги бесчисленное количество стеблей гаоляна у него над головой.
Четыре грузовика встали притык друг к другу и не двигались, пули, летевшие из пулеметов, стоявших на первом и втором грузовике, собирались в жесткие ленты света, которые пересекались друг с другом, напоминая драный веер. То к востоку, то к западу от шоссе рыдал гаолян. Его поломанные конечности падали на землю или дугой летели по воздуху. От глухих ударов пуль, долетавших до насыпи, рождались пузыри желтой пыли.
Партизаны на склоне вжались в траву и чернозем, не шевелясь. Пулеметная очередь продолжалась три минуты, потом внезапно прекратилась; все пространство вокруг грузовиков было усыпано золотистыми гильзами.
Командир Юй тихо скомандовал:
– Не стрелять!
Японцы молчали. Пороховой дым тонкими струйками плыл вслед за легким ветерком на восток.
Отец рассказывал мне, что в этой тишине Ван Вэньи, шатаясь, поднялся на насыпь. Он стоял там с дробовиком в руке, широко распахнув глаза и открыв рот, весь его вид выражал страдание. Ван Вэньи громко крикнул: «Жена-а-а-а!», – но не успел ступить и двух шагов, как несколько десятков пуль пробили в его животе огромную сквозную дыру в форме месяца. Пули с ошметками кишок с шумом просвистели над головой командира Юя.
Ван Вэньи тут же свалился с насыпи и скатился к реке, по другую сторону моста от своей жены. Его сердце еще билось, голова осталась целой и невредимой, а душу пронзило необычное чувство полного понимания.
Отец поведал мне, что жена родила Ван Вэньи одного за другим трех сыновей. На гаоляновой каше детишки росли пухленькими, толстощекими и очень подвижными. Однажды Ван Вэньи с женой ушли в поле мотыжить гаолян, сыночки остались играть во дворе, а над деревней пролетел со странным жужжанием двукрылый японский самолет. Самолет снес яйцо, которое упало во дворе Ван Вэньи, и все трое сыновей разлетелись на мелкие кусочки, которые попали на конек крыши, зацепились за ветки деревьев, размазались по стенам… Стоило командиру Юю поднять знамя борьбы с японцами, как жена Ван Вэньи привела к нему мужа…
Командир Юй скрежетал зубами от ярости, не сводя взгляда с Ван Вэньи, голову которого уже наполовину скрывала вода. Он снова тихо прорычал:
– Не двигайтесь!
8
По бабушкиному лицу скакали гаоляновые зернышки, вылетающие из колосков, и одно зернышко попало прямиком между слегка приоткрытыми губами и лежало на белоснежных зубах. Отец смотрел, как ярко-алые губы бабушки постепенно бледнеют, задыхаясь, он звал ее, и слезы в два ручья капали ей на грудь. Под гаоляновым дождем бабушка открыла глаза, они сияли перламутровым блеском. Бабушка сказала:
– Сыночек… а где твой названый отец…
– В бою!
– Он и есть твой родной папа…
Отец покивал.
Бабушка попыталась сесть, ее тело дернулось, брызнули две струи крови.
– Мам, я схожу за ним, – сказал отец.
Бабушка махнула рукой, потом внезапно села.
– Доугуань… сыночек… помоги мне… давай вернемся домой… домой…
Отец встал на колени, чтобы бабушка могла обхватить его за шею, потом с усилием поднялся, потащив за собой бабушку. Кровь на ее груди быстро испачкала голову и шею отца, он внезапно почувствовал, что свежая кровь бабушки сильно пахнет гаоляновым вином. Бабушкино тяжелое тело опиралось на отца, на дрожащих ногах нетвердой походкой он потащился в заросли гаоляна. Над их головами пули нещадно истребляли гаолян. Отец раздвигал густые стебли, продвигаясь шаг за шагом, пот и слезы перемешивались с бабушкиной свежей кровью, обезображивая его лицо. Отцу казалось, что бабушкино тело становится все тяжелее и тяжелее, гаоляновые листья безжалостно резали его. Отец упал на землю, а сверху его всей тяжестью придавила бабушка. Он выкарабкался наружу и уложил бабушку ровно. Лежа на спине, она издала протяжный вздох и еле заметно улыбнулась. Эта загадочная улыбка словно паяльником выжгла в памяти отца след, похожий на лошадиное копыто.
Бабушка лежала, чувствуя, как обжигающая боль в груди потихоньку стихает. Она внезапно поняла, что сын расстегнул ее одежду и закрыл рукой пулевые отверстия, одно над грудью, другое под грудью. Его ладони окрасились бабушкиной кровью в красный и зеленый, бабушкина белоснежная грудь тоже окрасилась кровью в зеленый и красный. Пули прошли навылет через бабушкину высокую грудь, обнажив бледно-красные соты молочной железы. Отцу больно было на это смотреть. Остановить кровь из раны не получалось, кровь вытекала, и бабушка бледнела на глазах, тело обретало легкость, словно в любой момент могло подняться на небеса.
Бабушка с довольным видом смотрела на точеное лицо моего отца в тени гаоляна – их совместное с командиром Юем творение, – и яркие картины минувших дней пролетали перед ее глазами, словно резвые скакуны.
Она вспомнила, как тогда, под проливным дождем, ее в паланкине, словно лодке, внесли в деревню, где жила семья Шань Тинсю. По улицам ручьями текла вода, и на ее поверхности плавала гаоляновая шелуха. Когда свадебная процессия добралась до ворот нужного дома, встречать их вышел только сухонький старичок с тоненькой косицей, напоминающей стручок фасоли. Ливень стих, но мелкий дождь продолжал накрапывать. Хотя музыканты играли свои мелодии, никто из местных не вышел поглазеть, и бабушка поняла, что дело плохо. Когда она отбивала поклоны небу и земле, ее поддерживали двое мужчин, одному было за пятьдесят, другому за сорок. Тот, что постарше, и был дядя Лю Лохань, а помладше – один из работников винокурни.
Носильщики и музыканты, мокрые до нитки, стояли посреди лужи и с серьезными лицами наблюдали, как два худых мужика уводят мою румяную бабушку в мрачную боковую комнату. Бабушка ощутила, что от ее провожатых исходит сильный запах гаолянового вина, словно бы они им пропитались.
Пока бабушка совершала поклонения[33], ее голову все еще покрывала та вонючая накидка. Восковые свечи издавали неприятный запах, бабушка ухватилась за мягкую шелковую ленту, и ее куда-то повели. Этот отрезок пути, темный, как самая непроглядная тьма, и удушливый, был полон ужаса. Бабушку усадили на кан. Красную накидку так никто и не снял, поэтому она стянула ее сама. Она увидела, что на квадратном табурете под каном сидит скрюченный парень с лицом, сведенным судорогой, голова у него была плоской и длинной, а нижние веки сгнили и покраснели. Он встал и протянул к бабушке руку, похожую на куриную лапу. Она заорала, выхватила из-за пазухи ножницы и встала на кане, сердито глядя на парня. Тот снова скрючился на табурете. В ту ночь бабушка так и не выпускала ножниц, а плоскоголовый парень больше не поднимался с табурета.
Спозаранку, улучив момент, когда парень уснул, бабушка соскользнула с кана, выбежала из комнаты, открыла ворота и собралась было сбежать, как ее поймали. Тот высохший старикашка с тонкой косицей схватил бабушку за запястье, свирепо глядя на нее.
Шань Тинсю откашлялся, затем сменил злобное выражение на улыбку и сказал:
– Доченька, тебя выдали в нашу семью замуж, теперь ты нам как родная. У Бяньлана вовсе не та болезнь, ты не слушай сплетен. Хозяйство у нас большое, работы много. Бяньлан – хороший мальчик. Ты к нам приехала, теперь дом на тебе. – Шань Тинсю вручил бабушке большую связку медно-желтых ключей, но бабушка ее не взяла.
Вторую ночь бабушка просидела до рассвета с ножницами в руках.
На третий день утром мой прадедушка, ведя за поводья ослика, пришел за моей бабушкой. По традиции нашего дунбэйского Гаоми на третий день после свадьбы новобрачная едет навестить родителей. Прадед и Шань Тинсю пили до самого полудня, только после этого они с бабушкой поехали обратно.
Свесив ноги на одну сторону и покачиваясь, бабушка ехала на ослике, на спину которого накинули тонкое одеяло. После ливня прошло три дня, но дороги оставались влажными, над гаоляновыми полями клубился пар, зеленые стебли, окутанные белыми облаками, напоминали святых. У прадедушки в поясном кошеле позвякивали серебряные монеты. Он так напился, что ноги заплетались, а взгляд затуманился. Ослик морщил лоб и плелся еле-еле, маленькие копытца оставляли четкие следы на влажной дороге. Бабушка сидела на ослике, у нее кружилась голова, в глазах рябило, веки покраснели и опухли, волосы растрепались. Гаолян, который за три дня еще вырос, насмешливо взирал на бабушку.
Она сказала:
– Папа, я к нему не вернусь, хоть умру, но не вернусь…
Прадедушка одернул ее:
– Доча, тебе такое счастье привалило! Свекор мне обещал подарить большого черного мула, тогда я ослика продам…
Ослик вытянул квадратную голову и щипал придорожную траву, забрызганную грязью.
Бабушка со слезами проговорила:
– Папа, у него проказа…
– Твой свекор пообещал нам мула… – талдычил прадедушка.
Он напился до того, что потерял человеческое обличье, его без конца выворачивало на обочину, и рвота, воняющая вином и мясом, вызывала у бабушки чувство гадливости. Она возненавидела отца всем сердцем.
Ослик доплелся до Жабьей ямы, учуял смрадный запах и прижал уши. Бабушка увидела труп того самого разбойника. Живот у покойника вспучило, рой зеленых мух облепил тело. Когда ослик с бабушкой на спине прошел мимо разлагающегося трупа, мухи раздраженно взмыли в воздух зеленым облаком. Прадедушка шел за осликом, казалось, его тело стало шире дороги: он то задевал гаолян слева, то наступал на траву справа. Остановившись перед трупом, прадед заохал, а потом дрожащими губами запричитал:
– Бедный ты голодранец… прилег тут поспать?
Бабушка не могла забыть лицо разбойника, напоминающее тыкву. Когда мухи испуганно взлетели, аристократичное выражение трупа показалось ярким контрастом злой и трусоватой физиономии разбойника при жизни. Они проходили одно ли за другим, день клонился к вечеру, небо стало синим, как горный ручей. Прадед остался далеко позади, ослик знал дорогу и беззаботно вез бабушку. Дорога делала небольшой поворот, и когда они добрались до этого места, бабушка накренилась назад и соскользнула со спины ослика, а чья-то сильная рука потащила ее в заросли гаоляна.
У бабушки не было ни сил, ни желания бороться, три дня новой жизни она провела в настоящем кошмаре. Некоторые люди могут стать великими вождями за одну минуту, а бабушка за эти три дня познала все откровения человеческой жизни. Она даже подняла руку и обняла похитителя за шею, чтобы ему удобнее было нести ее. Гаоляновые листья шуршали. С дороги доносился хриплый крик дедушки:
– Доча, куда ты запропастилась?
От каменного моста донесся надрывный вой сигнальной трубы и звуки выстрелов, сливавшихся в единое целое. Бабушкина кровь струйками вытекала в такт дыханию. Отец закричал:
– Мам, нельзя, чтоб твоя кровь вытекала, когда она вся вытечет, ты умрешь!
Он взял ком земли от корней гаоляна и заткнул рану, но кровь быстро просочилась наружу, и отец набрал еще пригоршню земли. Бабушка довольно улыбалась, глядя в бездонное темно-синее небо, глядя на добрый и нежный, как любящая матушка, гаолян. Перед ее мысленным взором появилась дорожка в густой зеленой траве, украшенной маленькими белыми цветочками, по этой дорожке бабушка спокойно ехала на ослике в глубь гаоляна. Там рослый крепкий парень пел во весь голос, и песня вырывалась за пределы гаоляновой чащи. Бабушка двигалась на звук, и вот она уже летела, едва касаясь ногами верхушек гаоляна, словно бы поднималась на зеленую тучу…
Человек положил бабушку на землю, она обмякла, словно лапша, и щурилась, как ягненок. Похититель сорвал черную маску, показав свое лицо. Это был он! Бабушка взмолилась небу и задрожала, ощущение безграничного счастья наполнило ее глаза слезами.
Юй Чжаньао снял с себя плащ, притоптал несколько гаоляновых стеблей и расстелил плащ на их трупах, затем заключил бабушку в объятия и уложил на него. У бабушки душа готова была отделиться от тела, когда она смотрела на обнаженный торс Юй Чжаньао; она словно бы видела, как под этой смуглой кожей непрерывным потоком течет кровь героя. Над верхушками гаоляна клубилась легкая дымка, казалось, было слышно, как он растет. Ветер стих, по гаоляну больше не шли волны, лишь влажные солнечные лучи пробивались сквозь щели в стене растений. Бабушкино сердце трепетало, страсть, скрывавшаяся внутри шестнадцать лет, внезапно прорвалась. Она извивалась на дождевике. Юй Чжаньао внезапно уменьшился в росте, он со стуком упал на колени рядом с бабушкой. Она дрожала с головы до пят, перед ее глазами полыхал желтый ароматный шар. Юй Чжаньао резким движением разорвал на ней одежду, открывая льющемуся сверху солнечному свету ее затвердевшие от холода груди, усыпанные белыми мурашками. При первом же его сильном движении резкая боль и ощущение счастья отполировали ее нервы, бабушка низким хриплым голосом воскликнула: «О, небо!» – и потеряла сознание.
Бабушка с дедушкой любили друг друга среди колышущегося гаоляна, две вольных души, презревшие земные правила, растворялись один в другом даже сильнее, чем тела, дарившие друг другу радость. Они в гаоляновом поле «вспахивали облака и сеяли дождь»[34], чтобы оставить ярко-алый след в и без того богатой истории нашего дунбэйского Гаоми. Можно сказать, что мой отец, зачатый по велению Неба и Земли, стал кристаллом, вобравшим в себя боль и радость. Громкий рев ослика, просочившийся в заросли гаоляна, вернул бабушку с небес в безжалостный мир людей. Она села, совершенно растерянная, по ее щекам потекли слезы:
– У него и правда проказа!
Дедушка, стоявший на коленях, вдруг незнамо откуда достал небольшой меч длиной чуть больше двух чи[35] и со свистом вынул его из ножен. Лезвие меча было изогнутым, словно перо душистого лука. Дедушка взмахнул рукой, меч скользнул между двух стеблей гаоляна, стебли упали на землю, а на аккуратных срезах выступил темно-зеленый сок. Дедушка велел:
– Через три дня возвращайся и ни о чем не беспокойся.
Бабушка в недоумении уставилась на него. Дедушка оделся, бабушка тоже привела себя в порядок. Она не поняла, куда он спрятал меч. Дедушка проводил ее до дороги, а потом бесследно исчез.
Через три дня ослик привез бабушку обратно. Как только она въехала в деревню, то узнала, что отца и сына Шань убили, а трупы сбросили в излучину на западном краю деревни.
Бабушка лежала, купаясь в чистом тепле гаолянового поля, она почувствовала себя быстрой, как ласточка, которая вольно порхает над верхушками колосков. Мелькающие портреты чуть замедлились: Шань Бяньлан, Шань Тинсю, прадедушка, прабабушка, дядя Лохань… Столько ненавистных, любимых, злых и добрых лиц появились и исчезли. Она уже написала последний штрих в тридцатилетней истории, все, что было в ее прошлом, словно зрелые ароматные плоды, стрелой упало на землю, а в будущем она могла лишь смутно различить какие-то нечеткие пятна света. Оставалось лишь короткое, клейкое и скользкое настоящее, которое бабушка изо всех сил старалась ухватить, но не могла. Бабушка чувствовала, как маленькие руки отца, похожие на звериные лапки, гладят ее, отчаянные крики мальчика высекли несколько искорок желания жить в бабушкином сознании, где уже испарялись любовь и ненависть, исчезали добро и зло. Бабушка силилась поднять руку, чтобы погладить сына по лицу, но рука ни в какую не поднималась. А сама она взлетела вверх, увидела разноцветный свет, лившийся с небес, услышала доносившуюся оттуда торжественную мелодию, которую выдували на сонах и трубах, больших и маленьких.
Она почувствовала ужасную усталость, и скользкая ручка настоящего, мира людей, уже почти выскользнула у нее из рук. Это и есть смерть? Я умру? Я больше не увижу это небо, эту землю, гаолян, своего сына, своего любимого, который сейчас ведет за собой бойцов? Выстрелы звучали далеко-далеко, за плотной пеленой дыма. Доугуань! Доугуань! Сыночек, помоги маме, удержи маму, мама не хочет умирать! О, небо! Небо… небо даровало мне возлюбленного, даровало мне сына, даровало богатство и тридцать лет жизни такой же яркой, как красный гаолян. Небо, раз ты дало мне все это, то не забирай обратно, помилуй меня, отпусти меня! Небо, ты считаешь, что я провинилась? Ты считаешь, что спать с прокаженным на одной подушке и нарожать паршивых чертят, замарав этот прекрасный мир, было бы правильно? Небо, а что такое чистота? Что такое истинный путь? Что такое доброта? А порок? Ты мне никогда этого не говорило, я поступала так, как считала нужным, я любила счастье, любила силу, любила красоту, мое тело принадлежит тебе, я сама себе хозяйка, я не боюсь вины и не боюсь наказания, я не боюсь пройти восемнадцать уровней ада[36]. Я сделала все, что должна была сделать, и не боюсь ничего. Но я не хочу умирать, хочу жить, подольше смотреть на этот мир, о, Небо…
Бабушкина искренность тронула Небо, ее пересохшие глаза увлажнились и заблестели дивным светом, который шел с небес, она снова увидела золотисто-желтые щеки отца и глаза, так похожие на дедушкины. Бабушкины губы зашевелились, она позвала Доугуаня, и тот радостно закричал:
– Мама, тебе лучше! Ты не умрешь, я заткнул твою рану, кровь уже не льется! Я сбегаю за отцом, чтобы он на тебя посмотрел. Мамочка, ты не можешь умереть, дождись отца!
Он убежал. Звук его шагов превратился в легкий шепот, в еле слышную музыку, доносившуюся с небес. Бабушка услышала голос Вселенной, исходивший от стеблей гаоляна. Она пристально смотрела на гаолян, перед затуманенным взором его стебли принимали причудливые формы, стонали, перекручивались, подавали сигналы, обвивались друг вокруг друга, то становились похожими на бесов, то на родных и близких, переплетались перед бабушкиными глазами в клубок, словно змеи, а потом с треском распускались, и бабушка была не в состоянии выразить их красоту. Гаолян был красным и зеленым, белым, черным, синим, гаолян смеялся, гаолян рыдал, и слезы, словно дождевые капли, падали на пустынный берег бабушкиного сердца. Просветы между стеблями и метелками гаоляна были инкрустированы синим небом, одновременно высоким и низким. Бабушке казалось, что небо смешалось с землей, с людьми, с гаоляном, – все вокруг накрыто куполом, не имеющим себе равных. Белые облака скользили по верхушкам гаоляна и по ее лицу. Твердые краешки облаков с шорохом чиркали по бабушкиному лицу, а их тени неотрывно следовали за самими облаками, праздно покачиваясь. Стая белоснежных диких голубей спорхнула вниз с неба и уселась на макушки гаоляна. Воркование голубей разбудило бабушку, она четко разглядела птиц. Голуби тоже смотрели на бабушку маленькими красными глазками размером с гаоляновое зернышко. Бабушка искренне улыбнулась им, а голуби широкими улыбками вознаградили ту горячую любовь к жизни, что бабушка испытывала на смертном одре. Она громко крикнула:
– Любимые мои, я не хочу покидать вас!
Голуби клевали гаоляновые зерна, отвечая на бабушкин беззвучный крик. Они клевали и глотали гаолян, и их грудь потихоньку надувалась, а перья хвоста от напряжения медленно распушались веером, словно лепестки цветов от дождя и ветра.
Под стрехой в нашем доме раньше жило множество голубей. Осенью бабушка во дворе ставила большую деревянную бадью с чистой водой, голуби прилетали с поля, аккуратно садились на самый краешек бадьи и, глядя на свое перевернутое отражение в воде, выплевывали одно за другим зерна гаоляна из зоба[37]. Голуби с самодовольным видом расхаживали по двору. Голуби! На мирных гаоляновых верхушках сидела стая голубей, которых выгнали из родного гнезда ужасы войны. Они внимательно смотрели на бабушку и горько оплакивали ее.
Бабушкины глаза снова затуманились, голуби, хлопая крыльями, взлетели и в ритме знакомой мелодии кружили в синем небе, похожем на море. От трения о воздух крылья издавали свист. Взмахнув своими новыми крыльями, бабушка плавно поднялась вслед за птицами и грациозно закружилась. Внизу остались чернозем и гаолян. Она с тоской смотрела на свою израненную деревню, на извилистую речку, на сетку дорог, на беспорядочно рассекаемое пулями пространство и множество живых существ, которые замешкались на перекрестке между жизнью и смертью. Бабушка в последний раз вдохнула аромат гаолянового вина и острый запах горячей крови, и в мозгу ее внезапно промелькнула доселе невиданная картина: под ударами десятков тысяч пуль сотни односельчан в лохмотьях пляшут посреди гаолянового поля…
Последняя ниточка, связывавшая ее с миром людей, готова была оборваться, все тревоги, страдания, волнения, уныния упали на гаоляновое поле, подобно граду сбивая верхушки растений, пустили в черноземе корни, распустились цветами, а потом дали в наследство многим последующим поколениям терпкие, кислые плоды. Бабушка завершила свое освобождение, она летела с голубями. Пространство мыслей, сжавшееся до размера кулака, переполняли радость, покой, тепло, нега и гармония. Бабушку охватило всепоглощающее чувство удовлетворения. Она набожно воскликнула:
– О, Небо!
9
Пулеметы на крышах грузовиков безостановочно палили, колеса прокручивались, поднимаясь на крепкий каменный мост. Ливень пуль обрушился на дедушкин отряд. Несколько партизан, по неосторожности высунувших голову, уже лежали мертвыми под насыпью. Пламя гнева заполняло дедушкину грудь. Когда грузовики полностью въехали на мост, пули полетели выше, и тогда дедушка скомандовал:
– Братцы, огонь!
Дедушка выстрелил трижды подряд, два японских солдата улеглись на крыше, и их черная кровь потекла на капот. Следом за дедушкиными с обеих стороны дороги за насыпью раздалось несколько десятков нестройных выстрелов, и еще семь или восемь японцев упали. Двое японцев выпали из машины, их ноги и руки беспорядочно трепыхались из последних сил, и в конце концов они сползли в черную воду за мостом. Тут сердито взревела пищаль братьев Фан, изрыгнув широкий язык пламени, страшно сверкнувший у реки, дробь и ядра полетели в белые мешки на втором грузовике. Когда дым рассеялся, стало видно, как из бесчисленных дыр утекает белоснежный рис. Отец по-пластунски дополз от гаолянового поля до края насыпи, ему не терпелось поговорить с дедушкой, а тот поспешно засовывал обойму в свой пистолет. Первый грузовик поддал газу, влетая на мост, и угодил передними колесами прямо на разложенные зубьями вверх грабли. Камера лопнула, из нее со свистом выходил воздух. Автомобиль зарычал и потащил за собой грабли. Отцу грузовик напоминал огромную змею, которая проглотила ежа и теперь мучительно трясет головой. Япошки повыскакивали из первой машины. Дедушка скомандовал:
– Старина Лю, давай!
Лю Сышань протрубил в большую трубу, звук получился пронзительным и страшным.
Дедушка закричал:
– Впере-е-ед!
Дедушка выпрыгнул, размахивая пистолетом, он вообще не целился, но японцы стали падать один за другим. Бойцы, сидевшие в засаде с западной стороны, помчались на восток и перемешались с японскими чертями, а те япошки, что ехали в последнем грузовике, теперь палили в воздух. В машине оставались двое. Дедушка увидел, как Немой одним махом взлетел в кузов, а япошки встретили его штыками наперевес. Немой отбил один из штыков тыльной стороной кинжального клинка, затем нанес еще один удар, и голова в стальной каске слетела с плеч, издав протяжный вой, а после того, как шлепнулась на землю, из ее рта все еще доносились остатки крика. Отец подумал, что кинжал у Немого действительно острый. Он увидел выражение ужаса, застывшее на лице японца до того, как голова отделилась от тела, щеки все еще дрожали, а ноздри раздувались, словно бы он собирался чихнуть. Немой отрубил голову еще одному япошке, труп привалился к борту грузовика, внезапно кожа на шее обвисла, и оттуда с бульканьем забил фонтан крови. В этот момент с последнего грузовика японцы принялись строчить из пулемета и выпустили невесть сколько пуль; дедушкины товарищи по оружию один за другим падали на трупы японцев. Немой сел на крышу кабины, на его груди проступили пятна крови.
Отец и дедушка прильнули к земле и уползли в гаоляновое поле, и только тогда потихоньку высунули головы. Последний грузовик, кряхтя, сдавал назад. Дедушка закричал:
– Фан Шестой! Пли! Бей эту сволочь!
Братья Фан выкатили уже заряженную пищаль на насыпь, но только Фан Шестой наклонился, чтобы поджечь фитиль, как ему в живот угодила пуля, и из образовавшейся дырки выпала темно-зеленая кишка.
Фан Шестой вскрикнул, закрыл живот руками и скатился в гаолян. Грузовик уже почти съехал с моста. Дедушка раздраженно заорал:
– Огонь!
Фан Седьмой взял трут и трясущимися руками поднес к фитилю, однако никак не мог его поджечь. Тогда дедушка кинулся к нему, выхватил трут, поднес к губам и начал дуть. Как только трут загорелся, дедушка тут же коснулся им фитиля, тот зашипел и исчез в белом дыму. Пищаль стояла молча, словно уснула. Отец решил, что она не выстрелит. Машина япошек уже съехала с моста, второй и третий грузовики сдавали задом. Рис продолжал высыпаться на мост и в реку, от чего на воде появилось множество белых крапинок. Несколько трупов япошек медленно плыли на восток, и в окровавленной воде крутилась целая армия белых угрей. Пищаль помолчала еще немного, а потом оглушительно ухнула. Стальной ствол подпрыгнул над насыпью, из него вырвался широкий язык пламени, который попал прямо в тот грузовик, что продолжал посыпать все вокруг рисом. Нижняя часть машины тут же воспламенилась.
Сдававший назад автомобиль остановился, япошки повыпрыгивали оттуда, залегли на противоположной стороне, установили пулеметы и начали яростно отстреливаться. Фаню Шестому пуля раздробила нос, и его кровь брызнула в лицо отцу.
Два япошки из горящего грузовика рывком открыли дверь, выскочили наружу и спрыгнули в реку. Средний грузовик, из которого сыпался рис, не мог двинуться ни вперед, ни назад, он лишь кряхтел на мосту. Рис журчал, словно дождевая вода.
Внезапно пулеметный огонь со стороны японцев прекратился, лишь время от времени раздавались выстрелы из винтовок «Арисака-38». Больше десяти япошек, прижав к груди винтовки и согнувшись, бежали на север мимо горящего грузовика. Дедушка снова крикнул «Огонь!», однако мало кто откликнулся. Отец обернулся и увидел под насыпью трупы своих бойцов, раненые стонали в гаоляновом поле. Дедушка серией выстрелов уложил несколько япошек. К западу от дороги тоже прозвучало несколько разрозненных выстрелов, и еще несколько япошек упали. Теперь они отступали. С насыпи к югу от реки прилетела пуля и вонзилась в правую руку дедушки, рука дернулась, дедушка выпустил винтовку, и она повисла на шее. Командир Юй отступал в гаоляновое поле с криком:
– Доугуань, помоги мне!
Он оторвал рукав, потом велел сыну вытащить из-за пазухи кусок белой ткани и помочь ему перевязать рану. Мальчик, пользуясь случаем, сказал:
– Отец, тебя мама зовет.
– Сынок, давай сначала перебьем этих ублюдков!
Дедушка достал из-за пояса выброшенный отцом браунинг и отдал ему. Горнист Лю, подволакивая окровавленную ногу, приполз с края дамбы и спросил:
– Командир, трубить?
– Труби! – велел дедушка.
Лю, встав на колено одной ноги и вытянув вторую, поднес трубу к губам и начал дуть, запрокинув голову. Из трубы раздался темно-красный звук.
– Вперед, братцы! – заорал дедушка.
С гаолянового поля к западу от дороги донеслись в ответ несколько криков. Дедушка взял винтовку в левую руку, но только вскочил на ноги, как по щеке чиркнула пуля, и он кубарем укатился обратно в гаолян. На насыпи к западу от дороги раздался истошный крик. Отец понял, что еще кто-то из их отряда получил пулю.
Горнист Лю продолжал трубить в небо, и темно-красные звуки сотрясали гаолян.
Дедушка схватил отца за руку со словами:
– Сынок, пойдем с папой, нам надо соединиться с братцами на западной стороне.
Над грузовиком на мосту клубился дым, полыхало пламя, рис тек по реке, словно снежная крупа. Дедушка потащил за собой отца, они стремительно пересекли шоссе, пули звонко щелкали о дорожное покрытие. Два бойца из их отряда с перепачканными копотью лицами и потрескавшейся кожей при виде дедушки и отца скривились и со слезами на глазах запричитали:
– Командир, нам конец!
Дедушка удрученно сел в гаоляновом поле и долго-долго не поднимал головы. Японцы с другого берега перестали стрелять.
Слышно было, как на мосту потрескивает пламя, в котором горит грузовик, а к востоку от дороги трубит в свою трубу Лю.
Отец уже не испытывал страха, он проскользнул в западном направлении вдоль насыпи, аккуратно выглядывая из-за жухлой травы, и увидел, как из-под тента на втором грузовике, который еще не успел загореться, выскочил солдат и вытащил из кузова старого япошку. Старикан был очень тощий, в белых перчатках, с длинной саблей на поясе и в черных сапогах для верховой езды, доходивших до колена. Они начали пробираться вдоль борта машины, а потом спустились с моста. Отец поднял браунинг, не в силах унять дрожь в руке, впалый зад старика подпрыгивал туда-сюда перед дулом пистолета. Отец стиснул зубы, закрыл глаза и выстрелил. Пуля со свистом вошла прямо в воду, и один белый угорь всплыл кверху брюхом. Японский генерал споткнулся и упал в реку. Отец громко крикнул:
– Пап, тут их начальник!
Сзади кто-то выстрелил, голова старого японца треснула, и по воде расплылась целая лужа крови. Второй япошка, перебирая руками и ногами, спрятался за опору моста.
Японцы снова начали активно стрелять, и дедушка придавил отца к земле. Пули засвистели в гаоляновом поле. Дедушка похвалил:
– Молодец! Моя порода!
Отец с дедушкой не знали, что убитый старик – знаменитый японский генерал-майор Накаока Дзико.
Труба Горниста Лю не замолкала, грузовик горел таким жарким пламенем, что солнце в небе раскалилось, стало красно-зеленым и, казалось, увяло.
Отец сказал:
– Тебя мамка звала.
– Она еще жива?
– Жива.
Отец потащил дедушку за руку в глубь гаолянового поля.
Бабушка лежала под гаоляном, на ее лице играли тени от гаоляна и застыла приготовленная для дедушки улыбка. Ее кожа была неестественно белой, а глаза так и не закрылись.
Отец впервые увидел, как по суровому лицу дедушки в два ручья текут слезы.
Дедушка встал на колени рядом с бабушкой и здоровой левой рукой закрыл ей глаза.
В одна тысяча девятьсот семьдесят шестом году, когда умер дедушка, отец закрыл ему глаза левой рукой, на которой не хватало двух пальцев. Когда дедушка в пятьдесят восьмом году вернулся с диких гор на японском острове Хоккайдо, ему уже трудно было говорить, каждое слово он выплевывал, словно тяжелый камень. Когда дедушка вернулся из Японии, в деревне устроили торжественную церемонию, в которой принял участие даже глава уезда. Мне тогда было два года, я помню, как на околице под деревом гинкго расставили в ряд восемь квадратных столов, на каждый стол поставили кувшин с вином и больше десятка белых чарок. Глава уезда взял кувшин, налил вина и обеими руками поднес дедушке чарку со словами:
– Подношу эту чарку вам, наш герой! Вы прославили жителей всего нашего уезда!
Дедушка неуклюже поднялся с места, вращая блеклыми глазами, потом выдавил:
– В-в-в-винтовка!
Я увидел, как он поднес к губам чарку, его морщинистая шея вытянулась, кадык задвигался вверх-вниз, большая часть вина попала не в рот, а стекла по подбородку, а оттуда на грудь.
Помню, как дедушка вел меня гулять по полю, а я тащил на поводке маленького черного песика. Дедушке больше всего нравилось смотреть на большой мост через Мошуйхэ: он стоял, держась за опору, и мог так простоять пол-утра или полдня. Я видел, как дедушка пристально всматривается в выбоины каменного моста. Когда гаолян подрастал, дедушка отводил меня в поле, ему нравилось местечко неподалеку от большого моста через Мошуйхэ. Я догадался, что это то самое место, откуда бабушка вознеслась на небеса, и этот ничем не примечательный клочок чернозема пропитался ее свежей кровью. В ту пору наш старый дом еще не снесли, и однажды дедушка взял лопату и начал копать под катальпой. Он выкопал несколько личинок цикад и дал мне, я бросил их псу, тот надкусил, но есть не стал.
– Папа, вы что там копаете? – поинтересовалась мама, которая шла в общественную столовую[38] готовить еду.
Дедушка поднял голову и посмотрел на маму невидящим взглядом. Мама ушла, а дедушка продолжил копать. Он выкопал большую яму, обрубил больше десятка толстых и тонких корней, поднял каменную плиту и из маленькой печи для обжига кирпичей извлек длинную жестяную коробку, изъеденную ржавчиной. При падении на землю коробка рассыпалась, внутри оказалась какая-то рваная тряпка, а в ней железная штуковина, покрасневшая от ржавчины, ростом повыше меня. Я спросил у дедушки, что это такое, а он ответил:
– В-в-в-винтовка!
Дедушка положил винтовку просушиться на солнце, а сам сел перед ней и то открывал глаза, то закрывал, то снова открывал и снова закрывал. Потом он поднялся, нашел большой топор и начал рубить винтовку, а когда она превратилась в груду железа, стал раскидывать обломки, пока весь двор не был ими усеян.
– Пап, а мамка умерла? – спросил отец у дедушки.
Дедушка покивал.
– Па-а-а-ап!
Дедушка потрепал отца по голове, потом вытащил из-за пазухи короткий кинжал и принялся рубить гаолян, чтобы укрыть тело бабушки.
К югу от насыпи раздались звуки яростной перестрелки и крики «Бей их!». Дедушка потащил отца к мосту.
Из гаолянового поля к югу от моста выскочили больше сотни людей в серой военной форме. С десяток япошек забежали на насыпь, некоторых сразили пули, других прокололи штыком. Отец увидел, как командир Лэн, подпоясанный широким кожаным ремнем, за который заткнут пистолет, обходит горящий грузовик в окружении здоровенных охранников. При виде Лэна дедушка криво усмехнулся и встал при входе на мост с винтовкой в руках.
Лэн с гордым видом подошел к нему и сообщил:
– Отличный бой, командир Юй!
– Сукин ты сын!
– Мы с ребятами малость опоздали…
– Сукин ты сын!
– Если бы мы не появились, тебе крышка!
– Сукин ты сын! – в третий раз повторил дедушка.
Дедушка направил винтовку на Лэна. Тот сделал знак глазами, и два дюжих охранника ловким движением выбили оружие из рук дедушки.
Отец поднял браунинг и выстрелил в задницу охранника, скрутившего дедушку.
Второй охранник пнул отца так, что тот повалился на землю, здоровенной ногой наступил ему на запястье, наклонился и забрал пистолет.
Отца и дедушку поставили рядом.
– Рябой Лэн, разуй свои собачьи глаза да посмотри, что сталось с моими братьями!
На насыпи по обе стороны от шоссе в гаоляновом поле лежали вповалку трупы и раненые. Горнист Лю прерывисто дул в трубу, а из уголков его рта и из носа текла кровь.
Командир Лэн сдернул с себя фуражку и, глядя на гаоляновое поле с восточной стороны от дороги, поклонился до земли, а потом развернулся в другую сторону и снова поклонился.
– Отпустить командира Юя и его сына! – приказал он.
Охранники отпустили дедушку и отца. Тот, в которого отец стрелял, стоял, прижав ладонь к заднице, и между пальцами у него сочилась кровь.
Лэн забрал у охранника оружие и вернул дедушке и отцу. Бойцы Лэна сплошным потоком пересекали мост. Они бросились к грузовикам и трупам япошек – забрать пулеметы, винтовки, патроны и магазины, а еще штыки, ножны, кожаные пояса, сапоги, кошельки и бритвы. Несколько человек сиганули в реку, схватили живого япошку, прятавшегося за опорой моста, и выловили из воды труп того японского старика.
– Товарищ начальник, тут японский генерал! – крикнул один из офицеров.
Лэн обрадованно посмотрел и велел:
– Снимите с него форму и заберите все вещи!
Затем он обратился к дедушке:
– Командир Юй, до новых встреч!
Группа охранников окружила Лэна, и все они двинулись на юг.
Дедушка взревел:
– Стой, где стоишь, Лэн!
Лэн обернулся и насмешливо произнес:
– Командир Юй, ты же не станешь стрелять мне в спину?
Дедушка процедил:
– Пощады не жди!
Лэн велел:
– Ван Ху, оставь командиру Юю один пулемет.
Несколько солдат поставили пулемет у ног дедушки.
– Грузовики и рис в них тоже ваши.
Солдаты Лэна перешли через мост, выстроились на насыпи и двинулись вдоль нее на восток.
Солнце село. Грузовик догорел дотла, остался лишь черный остов, а от запаха сгоревшей резины можно было задохнуться. Черная речная вода стала красной, как кровь, а по всему полю рос красный, словно кровь, гаолян.
Отец подобрал с насыпи лепешку, которая не развалилась, и дал отцу:
– Пап, съешь. Это мамка приготовила.
Дедушка сказал:
– Ты ешь!
Отец сунул лепешку дедушке в руку.
– Я еще найду.
Он подобрал еще одну лепешку и яростно откусил от нее кусок.
Часть II
Гаоляновое вино
1
Как гаолян дунбэйского Гаоми превращается в ароматное, дурманящее, сладкое, как мед, но не вызывающее похмелья вино? Мама мне рассказывала. Она без конца наставляла меня, что это наш семейный секрет, который нельзя разбалтывать, и если я его выдам, то, во-первых, пострадает репутация нашей семьи, а во-вторых, если в один прекрасный день кто-то из потомков решит начать производство вина, то потеряет свое исключительное преимущество. В наших краях все ремесленники, обладающие особыми секретами, передают их своим невесткам, а не дочерям, это правило такое же незыблемое, как закон в некоторых странах.
Мать рассказывала: когда нашей семейной винокурней управляли отец и сын Шань, производство уже достигло определенного масштаба; тогдашнее вино хоть и было неплохим на вкус, однако далеко не таким ароматным, каким стало потом, и не обладало медовым послевкусием. Наше вино приобрело поистине особенный вкус и начало выделяться на фоне продукции десятков местных винокурен, когда дедушка убил отца и сына Шань, а бабушка после непродолжительного периода смятения гордо распрямила спину, продемонстрировала свои таланты и подняла семейное дело на новый уровень. Многие великие открытия совершаются случайно или становятся результатом чьей-то злой шутки, вот и наше гаоляновое вино приобрело уникальный вкус благодаря тому, что дедушка помочился в кувшин. Каким образом небольшая порция мочи вдруг смогла превратить целый кувшин обычного гаолянового вина в первоклассное вино с яркими отличительными особенностями? Это целая наука, я не осмелюсь нести отсебятину, а потому доверим исследовать этот вопрос ученым, изучающим процессы перегонки спирта. Впоследствии бабушка и дядя Лохань продолжили экспериментировать и, после бесконечных блужданий впотьмах и обобщения полученных знаний, создали простую, понятную и точную технологию купажирования, заменив свежую мочу на щелочи, оседавшие на стенках старого ночного горшка. Способ хранили в строжайшем секрете, о нем знали тогда лишь моя бабушка, дедушка и дядя Лохань. По слухам, замешивание происходило глубокой ночью в третью стражу[39], когда стихали человеческие шаги, бабушка во дворе воскуривала ароматическую свечу, сжигала три сотни бумажных денег[40], а затем наливала в чан с вином жидкость из тыквы-горлянки. Бабушка говорила, что специально делала все с помпой, окружая процесс мистикой, чтобы у тех, кто решил подсмотреть, волосы вставали дыбом и люди считали, что моя семья обращается за помощью к духам и в торговле нам помогает Небо. Вот так гаоляновое вино нашего производства затмило собой все остальные и практически единолично захватило рынок.
2
После того как бабушка вернулась в родительский дом, незаметно промелькнуло три дня. Пора было отправляться в дом мужа. Все эти три дня она не ела, не пила и ходила как пришибленная. Прабабушка наготовила вкусной еды и ласково уговаривала дочку поесть, но та не реагировала на уговоры, словно обратившись в деревянную статую. Хотя бабушка почти ничего не ела, цвет лица у нее оставался прекрасным: белоснежный лоб, румяные щеки, вот только вокруг глаз темные круги, от чего глаза напоминали полную луну в тумане. Прабабушка ворчала:
– Непослушная ты девчонка, не ешь, не пьешь, бессмертной, что ли, стала или в Будду превратилась? Ты меня в могилу сведешь!
Она смотрела на бабушку, которая сидела тихо, как Гуаньинь[41], – лишь две хрустальные слезинки брызнули из уголков глаз. Через полуприкрытые веки сквозило замешательство, бабушка смотрела на свою мать так, словно с высокой насыпи оценивала размеры черной старой рыбины, притаившейся в воде.
Только на второй день бабушкиного пребывания дома прадедушка наконец вернулся из царства пьяных грез и первым делом вспомнил, что Шань Тинсю пообещал подарить ему большого черного мула. В его ушах словно бы постоянно звучал ритмичный цокот копыт этого мула, мчавшегося на всех парах. Мул был черным, глаза его горели, как фонари, а копыта напоминали кубки для вина. Прабабушка взволнованно спросила:
– Старый ты хрыч, дочка ничего не ест, что делать?
Прадедушка прищурил пьяные глаза и буркнул:
– Какая муха ее укусила?! Чего она там себе удумала?
Прадедушка встал перед бабушкой и раздраженно сказал:
– Дочка, ты чего это? Супруги связаны нитью даже на расстоянии в десять тысяч ли. Между мужем и женой всякое бывает, и любовь, и вражда, но, как говорится, коли вышла за петуха, то дели с ним курятник, а коли выбрала пса, то живи в будке. Жена следует за мужем и должна ему подчиняться. Я не высокопоставленный чиновник, да и ты у нас не золотая ветвь с нефритовыми листьями[42], найти такого богача – счастье для тебя и для меня, твой свекор с первого же слова пообещал подарить мне большого черного мула, такой щедрый…
Бабушка сидела неподвижно, закрыв глаза. Ее мокрые ресницы были словно медом намазаны, толстые и слипшиеся, они цеплялись друг за дружку и топорщились, как ласточкины хвосты. Прадедушка, глядя на бабушкины ресницы, раздраженно рявкнул:
– Нечего тут моргать и притворяться слепой и немой, даже если помрешь, то станешь духом семейства Шань, а на нашем семейном кладбище тебе не найдется места!
Бабушка хмыкнула.
Прадедушка замахнулся веером и влепил ей затрещину.
Румянец разом схлынул со щек бабушки, лицо приобрело голубоватый оттенок, потом цвет постепенно вернулся, и лицо стало напоминать восходящее красное солнце.
Бабушка сверкнула глазами, стиснула зубы, холодно усмехнулась и с ненавистью глянула на отца:
– Только боюсь, в таком случае ты и волосинки мула не увидишь! – сказала она.
Бабушка наклонила голову, взяла палочки и стремительно смела еще дымившуюся еду с нескольких чашек, а потом подкинула одну из них в воздух, и та несколько раз перевернулась в полете, посверкивая блестящим фарфоровым боком, затем перелетела через балку, задев ее и смазав два пятна давнишней сажи, медленно упала, покатилась по полу и, сделав полукруг, улеглась на полу кверху дном. Вторую чашку бабушка швырнула в стену, и при падении она раскололась на две части. Прадедушка от удивления разинул рот, кончики его усов подрагивали, он долго не мог найти слов, а прабабушка воскликнула:
– Деточка, наконец-то ты поела!
Раскидав чашки, бабушка зарыдала, плач был таким громким и горьким, что не вмещался в комнату, перелился через край и выплеснулся аж в поле, чтобы слиться с шелестом гаоляна, уже опыленного к концу лета. Во время этого бесконечного пронзительного плача в ее голове промелькнуло множество мыслей, бабушка раз за разом вспоминала три дня, прошедшие с того момента, как она села в свадебный паланкин, и до тех пор, как на ослике вернулась в родительский дом. Все картины этих дней, все звуки и запахи вновь нахлынули на нее… Трубы и сона… короткие мелодии и громкие напевы… Музыканты играли так, что гаолян из зеленого стал красным. Ясное небо подернулось тучами, громыхнуло раз, потом второй, сверкнула молния, струи дождя были спутанными, как пряжа, и такими же спутанными были чувства… дождь шел то наискось, то снова вертикально…
Бабушка вспомнила разбойника в Жабьей яме и мужественный поступок молодого носильщика, который верховодил другими, как вожак собачьей стаи. На вид ему было не больше двадцати четырех, на суровом лице ни единой морщинки. Бабушка вспомнила, как это лицо нависало над ней совсем близко, а твердые, как раковина беззубки, губы впивались в ее рот. Кровь в сердце бабушки на мгновение застыла, а потом снова забила ключом, будто прорвала плотину, да так, что каждый, даже самый крошечный сосуд в теле затрепетал. Ноги свело судорогой, мышцы живота дрожали и никак не могли остановиться. В тот момент их мятеж одобрил своей бьющей через край энергией гаолян. Пыльца, что сыпалась с метелок, почти невидимая, заполнила все пространство между их телами.
Бабушка множество раз пыталась задержать в памяти картину их юной страсти, но не получалось, воспоминания мелькали и исчезали, зато снова и снова появлялось лицо прокаженного, напоминавшее морковь, сгнившую в подвале, и его крючковатые пальцы, похожие на куриную лапу, а еще старик с тоненькой косичкой и связка блестящих медных ключей, болтавшаяся у него на поясе. Бабушка спокойно сидела и, хотя находилась в десятках ли оттуда, словно бы ощущала на губах терпкий запах гаолянового вина и кисловатый запах барды. Она вспомнила двух мужчин, что взяли на себя роль служанок и напоминали цыплят, замаринованных в вине, – из каждой их поры сочился аромат вина… А тот носильщик срубил множество стеблей гаоляна своим мечом с закругленным лезвием, на срезах, имеющих форму подковы, проступал темно-зеленый сок – кровь гаоляна. Бабушка вспомнила, как он велел через три дня возвращаться и ни о чем не беспокоиться. Когда он произносил эти слова, черные узкие глаза блеснули светом, похожим на лезвие меча. Бабушка уже предчувствовала, что жизнь вот-вот переменится самым необычным образом.
В некотором смысле героями рождаются, а не становятся, героизм скрыт, словно подземные воды, и когда человек сталкивается с внешней причиной, он превращается в героя. В ту пору бабушке было всего шестнадцать, она с детства проводила время за вышиванием, рукоделием, ее верными спутниками стали иголка, ножницы для вырезания цветов, длинные лоскуты для бинтования ног, лавровое масло для расчесывания волос и другие девчачьи штучки. Общалась она исключительно с соседскими девочками. Откуда же взялись способности и смелость справиться с ожидавшими ее переменами? Как она смогла выковать героический характер, благодаря которому в минуту опасности, сжав зубы, держалась вопреки страху? Трудно сказать.
Во время этого долгого и горького плача бабушка не испытывала особых мук, напротив, изливала радость, теснившую грудь. Она рыдала, но при этом вспоминала былые счастье и веселье, страдание и тоску, плач словно бы не вырывался изо рта, а был музыкой, которая доносилась издалека и сопровождала громоздившиеся друг на друга прекрасные и уродливые образы. В конце бабушке подумалось, что век человеческий так же короток, как у осенней травы, а потому чего уж тут бояться рисковать жизнью?
– Надо ехать, Девяточка! – Прабабушка назвала бабушку молочным[43] именем.
Поехали-поехали-поехали!
Бабушка попросила принести таз с водой, умылась, напудрилась и нанесла красные румяна, сняла перед зеркалом сетку для волос – тяжелый пучок с шелестом рассыпался, закрыв бабушкину спину. Она встала на кане, шелковые волосы ниспадали до колен. В правой руке она держала расческу из грушевого дерева, а левой закинула волосы на плечо, собрала перед грудью и начала расчесывать прядь за прядью.
Волосы у бабушки были необычайно густые, черные и блестящие, только ближе к кончикам слегка выцветшие. Расчесанные волосы она скрутила в жгут, завернула в тугой узел в виде большого цветка, убрала под плотную сетку из черных шелковых нитей и закрепила четырьмя серебряными шпильками. Бабушка подровняла ножницами челку, чтобы она доходила до бровей, затем заново перебинтовала ноги, надела белые хлопковые носки, туго подвязала нижний конец штанин и наконец обула вышитые туфельки, в которых особенно выделялись ее крошечные ножки.
Первым делом Шань Тинсю в бабушке привлекли именно ножки, и у носильщика паланкина Юй Чжаньао страсть вызывали сначала они же. Бабушка гордилась своими ножками. Обладательнице миниатюрных ступней не приходилось печалиться о замужестве, даже если ее лицо изрыто оспой, зато большеногую никто замуж не брал, пусть даже она была прекрасна, как небожительница. А у бабушки и ножки были маленькими, и лицо прекрасным, она считалась образцом красоты своего времени. Мне кажется, что за долгую историю женские ножки стали своеобразным сексуальным органом, изящные заостренные ступни дарили мужчинам того времени эстетическое наслаждение с немалой долей страсти.
Бабушка привела себя в порядок и, цокая каблучками, вышла из комнаты. Прадедушка вывел ослика и набросил ему на спину одеяло. В выразительных глазах животного отражалась бабушкина точеная фигурка. Бабушка увидела, что ослик внимательно смотрит на нее и в этом взгляде светится понимание. Она села на ослика, но не боком, как полагалось ездить женщинам, а оседлала, перекинув ногу через спину. Прабабушка пыталась уговорить бабушку сесть боком, но бабушка ударила ослика пятками в живот, и он потрусил, высоко поднимая копыта. Бабушка ехала, выпятив грудь, высоко подняв голову и устремив взгляд вперед.
Бабушка не обернулась; поводья сначала держал прадедушка, а когда они вышли из деревни, она отняла поводья, и ему оставалось лишь плестись позади ослика.
За эти три дня прошла еще одна гроза, бабушка увидела справа от дороги участок размером с мельничный жернов, где гаолян завял и выделялся белым пятном посреди темной зелени. Бабушка поняла, что сюда ударила шаровая молния. Она помнила, как в прошлом году от удара молнии погибла ее семнадцатилетняя подружка Красотка, волосы у нее тогда обгорели, одежда была разорвана в клочья, на спине остался рисунок из продольных и поперечных линий, некоторые поговаривали, что это небесное головастиковое письмо[44]. По слухам, Красотка угробила ребенка из-за своей жадности. Описывали это во всех подробностях. Якобы Красотка поехала на рынок, на перекрестке услыхала детский плач, подошла и увидела сверток, а внутри него – розового новорожденного мальчика и записку, в которой говорилось: «Отцу восемнадцать, матери тоже, когда луна висела прямо над головой, родился наш сынок по имени Луси[45], только вот отец уже женат на большеногой Второй сестрице Чжан из Западной деревни, а мать должна вот-вот выйти за парня в шрамах из Восточной деревни. Они скрепя сердце вынуждены бросить свою кровиночку, отец рыдает, да и мать утирает слезы, затыкает рот, чтобы не расплакаться, боится, что прохожие услышат. Ах, Луси, Луси, радость придорожная, кто тебя подберет, тому ты и станешь сыном. В пеленки завернули один чжан узорного шелка и положили двадцать серебряных долларов. Просим доброго путника спасти жизнь нашего сына, приумножив добродетель». Поговаривали, что Красотка забрала шелк и серебряные доллары, а младенца выбросила в гаоляновое поле, вот потому-то ее и поразила молния. Бабушка близко дружила с Красоткой и, разумеется, не верила в подобные сплетни, но когда она размышляла о человеческой жизни, о том, что не угадаешь, жив будешь или помрешь, ее сердце неизменно сжималось от тоски.
После грозы с ливнем дорога все еще была влажной, от яростных дождевых капель на ней образовались выбоины, заполнившиеся жидкой грязью. Ослик снова оставлял за собой четкие следы. Похожие на звездочки васильки казались уже немного поблекшими, листья и цветы забрызгала грязь. В траве и на листьях гаоляна прятались кузнечики, ниточки их усиков подрагивали, прозрачные крылышки раскрывались как ножницы, издавая жалобный стрекот. Длинное лето подходило к концу, и в воздухе уже витал торжественный запах осени, орды саранчи, предчувствующие ее дыхание, выбирались на дорогу с набитыми семенами животами, чтобы вонзить зады в твердую поверхность и отложить яйца.
Прадедушка отломал стебель гаоляна и хлестнул по крупу уже изрядно притомившегося ослика, тот поджал хвост и на несколько шагов перешел на рысцу, а потом снова вернулся к неторопливому темпу. Явно довольный собой, прадедушка мурлыкал под нос популярную в дунбэйском Гаоми ханчжоускую оперу, не попадая в ноты: «У Далан[46] выпил яд, худо ему стало… кишки сразу затряслись, все внутри дрожало… взял урод себе красавицу-жену и накликал страшную беду-у-у-у… помирает У Далан от боли в кишках, только ждет, когда же явится братишка… Младший брат домой примчит, за убийство отомстит…»
Слушая нескладное пение прадедушки, бабушка чувствовала, как трепещет сердце, как изнутри ее пробирает ледяная дрожь. Перед глазами тут же ярко предстал образ того свирепого юноши с мечом в руках. Что он за человек? Что собирается делать? Ведь она этого смельчака и не знает толком, думала бабушка, а они уже близки, как рыба и вода. Их единственный «встречный бой» вышел поспешным, не разобрать, то ли сон, то ли явь, и вызвал у бабушки замешательство, словно бы она встретилась с призраком. Решив, что нужно покориться судьбе, бабушка тяжело вздохнула.
Она доверила ослику идти без поводьев, а сама слушала, как отец, перевирая ноты, исполняет арию У Далана. Так незаметно они доехали до Жабьей ямы. Ослик опустил голову, потом поднял, втянул ноздри, стал бить копытами по земле и ни в какую не хотел идти вперед. Прадед стеблем гаоляна хлестал его по заду и задним ногам, приговаривая:
– Ну-ка, ублюдок, шагай! Мерзкий ты осел!
Гаоляновый стебель свистел и хлестал ослика, но тот не просто отказывался идти вперед, но еще и пятился назад. В этот момент бабушка учуяла омерзительную вонь, от которой волосы вставали дыбом. Она спрыгнула на землю, рукавом прикрыла нос и потянула ослика за поводья. Ослик вскинул голову, открыл пасть, и его глаза наполнились слезами. Бабушка уговаривала его:
– Ослик, миленький, сожми зубы и иди, нет таких гор, на которые нельзя подняться, и таких рек, которые нельзя пересечь.
Ослика бабушкины слова тронули, он тихонько заржал, поднял голову, а потом помчался вперед и потащил бабушку за собой, да так, что ее ноги едва касались земли, а полы одежды развевались, словно красные облака, летящие по небу. Проносясь мимо трупа разбойника, бабушка искоса глянула на него. В глаза бросилась отвратительная сцена: туча жирных опарышей объела плоть покойника так, что остались лишь ошметки.
Бабушка довела ослика до Жабьей ямы и там опять его оседлала. Постепенно она снова стала ощущать аромат гаолянового вина, который принес с собой северо-восточный ветер. Она снова и снова пыталась храбриться, но чем ближе к развязке, тем сильнее ужас сковывал ее душу. Солнце поднялось высоко и припекало так сильно, что над землей клубился белый пар, но по бабушкиной спине пробегал холодок. Вдалеке показалась деревня, в которой жило семейство Шань, и, окутанная ароматом гаолянового вина, который становился все сильнее, бабушка ощутила, что ее позвоночник словно заледенел. В гаоляновом поле к западу от дороги какой-то парень горланил песню:
- Сестренка, не бойся, смело ступай вперед!
- Зубы мои железные, кости – сталь!
- К небу дорога в девять тысяч ли ведет.
- Ты не бойся, смело шагай вдаль!
- Из высокого алого терема,
- Вышитый красный мяч бросай,
- Прямо в голову целься мне,
- И тогда мы с тобой растворимся
- В гаоляновом алом вине[47]!
– Эй, горе-певец, выходи! Что ты поешь? На маоцян[48] не похоже, но и на театр люй[49] не тянет! Все мотивы переврал! – крикнул прадедушка в гаоляновое поле.
3
Доев кулач, отец по жухлой траве, кроваво-красной в лучах заходящего солнца, спустился с насыпи, осторожно подошел к кромке воды по рыхлому песку, устланному ковром из водорослей, и остановился. На большом каменном мосту через Мошуйхэ стояли четыре грузовика, первый, тот, что наехал на грабли и проткнул шины, припал к земле перед остальными тремя, на его кузове виднелись темно-синие пятна крови и нежно-зеленые кляксы мозгов. Верхняя часть туловища японского солдата перевешивалась через борт, каска слетела с головы и болталась на шее. С кончика носа в каску капала темная кровь. Вода в реке всхлипывала. Шелестел дозревающий гаолян. Тяжелые солнечные лучи разбивались мелкой рябью на поверхности реки. Под корнями водорослей, во влажном песке, жалобно стрекотали осенние насекомые. Громко потрескивали темные обгоревшие остовы третьего и четвертого грузовиков. В этом обилии красок и нескладном хоре звуков отец увидел и услышал, как кровь с кончика носа японского солдата падает в каску со звонким бульканьем, словно кто-то ударяет в каменный гонг, и по поверхности лужицы расходятся круги. Отцу тогда шел пятнадцатый год. Когда девятого числа восьмого лунного месяца одна тысяча девятьсот тридцать девятого года солнце кренилось к закату и его угасающие лучи окрасили мир вокруг красным цветом, на лице моего отца, казавшемся еще худощавее после целого дня ожесточенной борьбы, застыла плотным слоем фиолетовая глина. Он присел на корточки возле трупа жены Ван Вэньи, набрал пригоршню воды и выпил, липкие капли просачивались сквозь пальцы и беззвучно падали. Потрескавшиеся опухшие губы коснулись воды, отец испытал резкую боль, между зубами в рот проник едкий привкус крови – он ощущался и в горле, отчего оно сжалось так, что окаменело, и отцу пришлось несколько раз кашлянуть, чтобы спазм прошел. Теплая речная вода лилась в горло, избавляя от сухости и доставляя мучительное удовольствие. Хотя от привкуса крови в животе забурлило, он продолжал зачерпывать воду снова и снова, пока она не размочила сухую потрескавшуюся лепешку у него в животе. Только тогда отец распрямился и с облегчением выдохнул. Почти стемнело, от солнца остался лишь красный ободок на самом краю небосвода. Запах гари, который шел от третьего и четвертого грузовиков на большом каменном мосту, стал слабее. От громкого хлопка отец вздрогнул, вскинул голову и увидел, как ошметки лопнувших шин, словно черные бабочки, парят в воздухе над рекой и падают вниз, а на ровную, как доска, поверхность воды с шуршанием сыплется черно-белый японский рис, взметнувшийся от взрыва верх. Повернувшись, отец увидел маленькую жену Ван Вэньи, которая лежала на берегу, а по воде растекалась ее кровь. Он вскарабкался на насыпь и громко крикнул:
– Пап!
Дедушка стоял на насыпи, выпрямившись. Он явно осунулся за день, прошедший в бою, под потемневшей кожей четко проступали скулы. В темно-зеленых вечерних сумерках отец увидел, что короткие жесткие волосы дедушки побелели целыми островками. С болью и страхом в сердце он бросился к дедушке и принялся теребить его:
– Пап! Пап! Что с тобой?
По дедушкиному лицу текли слезы, в горле клокотало. У его ног стоял, словно старый волк, японский пулемет, оставленный от щедрот командиром Лэном, а его ствол, похожий на сону, напоминал увеличенный собачий глаз.
– Пап, скажи что-нибудь, пап, скушай лепешку, только потом водички попей… если не будешь есть и пить, то помрешь от жажды и голода…
Дедушка согнул шею, голова упала на грудь. Его тело, словно бы не выдержав тяжести черепной коробки, потихоньку оседало. Он опустился на корточки на насыпи, обхватил обеими руками голову, всхлипнул, а потом вдруг воскликнул:
– Доугуань, сынок! Неужто нам с тобой конец?
Отец остолбенело смотрел на дедушку, в зрачках его широко распахнутых глаз, похожих на два бриллианта, светился тот самый мужественный, неистребимый бунтарский дух, которым изначально славилась моя бабушка, и этот луч надежды во мраке осветил душу дедушки.
– Пап, – сказал отец, – не печалься, я научусь стрелять из пистолета, буду тренироваться, как ты, в излучине реки стрелять по рыбе, а еще по семи монетам, разложенным в форме цветка сливы, и тогда поквитаюсь с этим ублюдком Рябым Лэном!
Отец резко вскочил на ноги, трижды взревел – то ли горько заплакал, то ли дико захохотал, – из его рта потекла ручейком темно-фиолетовая кровь.
– И то правда! Сынок, верно сказано!
Дедушка подобрал с черной земли лепешку, приготовленную собственноручно моей бабушкой, и принялся жадно глотать большими кусками; темно-желтые зубы с прилипшими крошками окрасились кровавой пеной. Отец услышал, как дедушка вскрикнул, подавившись лепешкой, и словно увидел, как лепешка с острыми краями медленно ползет в горле отца.
– Пап, спустись к речке, выпей воды, чтобы размочить лепешку в животе, – сказал он.
Дедушка нетвердой походкой спустился по насыпи, опустился на колени на водоросли, вытянул шею, словно мул или конь на водопое. Отец увидел, что дедушка, напившись, оперся обеими руками о землю и окунул в воду голову и половину шеи; речная вода, наталкиваясь на неожиданное препятствие, разбегались множеством пенистых волн. Дедушка держал голову под водой так долго, что хватило бы времени выкурить половину трубки. Отец с насыпи смотрел на своего отца, похожего на огромную отлитую из меди лягушку, а сердце снова и снова сжималось. Наконец дедушка рывком вытащил из воды мокрую голову, хватая ртом воздух, поднялся на насыпь и встал перед отцом. Отец видел, как с него стекает вода. Дедушка потряс головой, смахнув с себя сорок девять капель разного размера, словно множество жемчужин.
– Доугуань, – сказал дедушка. – Пойдем с папой, посмотрим, как там братцы!
Он шатаясь побрел через гаоляновое поле с западной стороны дороги, а отец двинулся за ним. Они наступали на поломанный гаолян и использованные гильзы, светившиеся слабым желтым светом, то и дело наклоняясь и опуская головы, чтобы посмотреть на своих товарищей, лежавших вдоль и поперек поля с оскаленными зубами. Все они были мертвы. Дедушка с отцом переворачивали их в надежде найти хоть одного живого, но увы. Руки стали липкими от крови. На самом западном краю отец увидел еще двух человек, у одного изо рта торчал самопал, а задняя часть шеи была разворочена так, что превратилась в месиво, словно разоренное осиное гнездо; второй лежал на боку, из его груди торчал острый нож. Дедушка перевернул их, чтобы посмотреть, и отец увидел, что у обоих переломаны ноги и вспороты животы. Дедушка тяжело вздохнул, вытащил самопал изо рта одного своего бойца и нож из груди другого.
Отец следом за дедушкой перешел через шоссе, казавшееся в темноте блестящим, в гаоляновое поле с восточной стороны дороги, которое точно так же выкосило пулеметной очередью. Они переворачивали и осматривали тела своих братьев, лежавшие то тут, то там. Горнист Лю так и остался стоять на коленях с трубой в руках, замерев в этой позе. Дедушка взволнованно закричал:
