Черная пантера
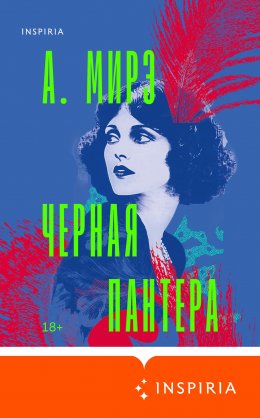
Предисловие М. В. Михайловой, подготовка текста при участии М. В. Михайловой и С. В. Кудрицкой
Составители сборника: Мария Михайлова, Софья Кудрицкая, Людмила Иванова
© Мирэ А., текст, 2024
© Михайлова Мария Викторовна, текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
В поисках настоящей любви
Сохранилась только одна фотография этой женщины: замысловатый тюрбан (следование моде начала XX века) и усталое, какое-то растерянное, чуть склоненное вбок лицо под ним. Однако встречи с ней людям врезались в память: «Женщина странная, ни на кого не похожая». Но странное впечатление складывалось еще до личного знакомства, тогда, когда читающая Россия ломала голову, кто же скрывается под звучным псевдонимом «А. Мирэ» – мужчина или женщина? Даже такой знаток литературы, как В. Брюсов, беспомощно разводил руками: «Мы не знаем французского автора с фамилией Мире»[1]. Впоследствии стало известно, что псевдоним она придумала, взяв фамилию знакомого студента «Реми» и переставив в ней слоги. Но есть и версия, что в основе французское слово mire — прицел, мушка. Возможно, она так себя и ощущала: всегда была на мушке, на взводе, на прицеле…
Впрочем о жизни Александры Михайловны Моисеевой (1874–1913), а именно она скрывалась под звучным псевдонимом, надо рассказывать по порядку: столько она заключает в себе событий, переживаний, трагизма и – любви…
Родилась Шурочка – так звали ее близкие – в семье среднего достатка в провинциальном городе Борисоглебске. Окончила гимназию. Годы юности, смутных порывов и надежд, ожиданий и волнений подробно описаны ею в одном из последних опубликованных произведений – «Страницы из дневника» (1912), где автор вывела себя под именем героини Лары. Это она, юная прелестная Шурочка-Лара, томится неясными мечтами. Замкнутая и стеснительная, она пробует разорвать круг повседневности, покидает постылый домашний очаг, устремляется к тому светлому, романтическому, что сосредоточено для нее в театре. Лара поступает на сцену, но вскоре оставляет ее (это проделала и Шурочка Моисеева), так как и там встретилась с корыстолюбием и пошлостью.
Девяностые годы позапрошлого века. Время революционного бурления в среде молодежи. Шурочка с ее стремлением к правде и справедливости оказывается в кругу радикально настроенных молодых людей. По делам революционной пропаганды она выехала в Одессу, где и была арестована, оказалась в тюрьме, откуда освободилась в 1894 году, оставшись под надзором полиции. Без паспорта, дожидаясь разрешения на выезд за границу, прожила следующие три года уже в Кишиневе. Трудно судить, насколько значимо было для нее революционное прошлое. Возможно, ее опять-таки привлекала романтика, на этот раз сосредоточившаяся в борьбе, горячих спорах, ощущении опасности. Во всяком случае, в тех странах, где она побывала после России (выехала в 1897 году), – в Бельгии, Франции, Италии – она нередко посещала рабочие собрания, митинги и даже запечатлела несколько таких сценок в своих рассказах.
1897 год. Париж. Монпарнас. Художественная богема. Шурочка позирует живописцам, становясь подругой то одного, то другого. Позже в ее рассказах возникнет много этих «моделей», являвшихся «материалом» искусства, от которых принято брать молодость, красоту, готовность служить любимому, а потом, выбрасывая на улицу, забывать о них. Для Шурочки началась вольная жизнь: веселые дружеские попойки, ночные бдения, нескончаемые разговоры об искусстве. Она пристрастилась к табаку, абсенту. Такой ее знал Максимилиан Волошин, и это знакомство оставило у него неприятные воспоминания…
Кончилось тем, что один из любовников продал ее в публичный дом в Марселе, где она развлекала пьяных матросов и из которого ей с огромным трудом удалось выбраться. Выбиваясь из последних сил, прося милостыню, она добралась до Парижа. Возможно, уже тогда у нее появились первые признаки душевного заболевания – тяжелые видения, ощущение давящей пустоты. Однако все это не заставило ее проклясть «парижскую» и ту «новую, могучую жизнь», которая ей была так необходима.
«В Париж нужно в первый раз попасть такой, какой я попала: очень беззаботной»[2], – писала она в одном из писем. Но «беззаботность» Шурочки была особого рода – это была жадность молодости, надежда на встречу, ту великую, единственную встречу, которая оправдает все лишения и падения. Любви, любви исступленно искала Шурочка на мансардах, в кафе и даже, возможно, на мостовой. Кому-то это может показаться отвратительным, ужасающе безнравственным. Но, как бы отводя подобные подозрения, она повторяла: «Вы мне говорили, что у меня никогда не было любви, а так, обрывки (от себя прибавляю) – цинизма. Дело в том, что я в глубине души никогда не была цинична. Так сложилась жизнь».
Она вернулась в Россию приблизительно в 1903 году. Поселилась в Нижнем Новгороде, где зарабатывала на жизнь, едва ли не ежедневно публикуя в местной газете зарисовки, картинки и сценки из парижской жизни. Происходило это так: она запасалась на ночь водкой, селедкой и огурцами, а наутро приносила в редакцию очередной рассказ. Естественно, такой образ жизни не проходит бесследно. Уже тогда, как свидетельствовали друзья, она «совсем потеряла образ человеческий. С утомленным лицом от бессонных ночей и вина, плохо, неопрятно одетая, с какой-то виноватой улыбкой и странным неестественным смехом»[3]. И не случайно в первом же сборнике А. Мирэ «Жизнь» (Нижний Новгород, 1904) А. Блок проницательно выделил те вещи, которые обращают на себя внимание «тихой измученностью, которая не мешает свежести восприятия… Автор в своем жанре достигает тихой простоты, которая говорит больше, чем «правда жизни», обыкновенно становящаяся фальшью в искусстве»[4]. Это были «психологические картинки с оттенком своеобразного романтизма, страстного и в то же время печального»[5]. На самом деле в книге были собраны рассказы (или, как она их чаще называла, «рассказички») двух типов. Одни – бытовые сценки, мимолетные картинки текущей жизни, всегда имеющие тонкий философский подтекст. Другие – этюды, в аллегорическом ключе разрешающие проблемы Жизни, Смерти, Красоты, Искусства, Творчества. Если первые выдавали острый глаз писательницы, ее умение наблюдать и обобщать, то во вторых – чаще всего обнаженно и прямолинейно, даже с дидактическим уклоном – излагалось ее кредо: желание борьбы, сопротивления неблагоприятному течению судьбы, зов жизни, проповедь активности, победа воли. Но даже в этих «обнаженных» по мысли произведениях можно было обнаружить неповторимое своеобразие творческого почерка Мирэ. Она импрессионистическими красками могла, например, создать образ Ночи или экспрессивными мазками нарисовать «когти» солнечных лучей, терзающих Землю.
В 1905 году Мирэ переехала Петербург, где при помощи друга юности писателя-символиста Георгия Чулкова начала печататься в модернистских изданиях «Вопросы жизни», «Золотое Руно», «Перевал», вращаться в кругах петербургской художественной элиты. Многим запомнились тогда ее «ни с чем не сообразная фигурка», «бледное, помятое лицо с растерянной жалкой улыбкой и горящими, красивыми глазами, все еще молодыми и полными ожидания»[6].
В это время довольно резко меняется творческая манера писательницы: ее рассказы приобретают мистический колорит, большу́ю роль начинают играть условность и фантастика. Черная пантера из одноименного рассказа, вызывающая у героя непреодолимое влечение, воплощает Зло «пламенных сфер», уходящих в Вечность. Образ дикого зверя, как и любовь, одновременно сулит неземное наслаждение и приносит неминуемую гибель. Появляется автоматический человек, который тем не менее остро ощущает муки ревности и, страдая, убегает от своего хозяина. Взамен настроений надежды и веры, свойственных первому сборнику (хотя и в нем слышались ноты отчаяния), здесь начинают преобладать настроения тоски, главенствует одиночество, непонимание, отчужденность. Роковые случайности, непредсказуемость поведения, алогичность поступков и, как следствие, – безнадежность, мучения, смерть. Именно они становятся законами, властно распоряжающимися жизнью. И это результат того, что Бог отвернулся от человека, оставив ему в удел страдания и скорбь. Разгул «темных сил», воля «к уничтожению» – вот что отныне становится сутью художественного мира Мирэ. Если раньше присутствовали надежда и устремленность в будущее, если у французов она восприняла импрессионизм, то теперь вечные темы решались в мрачно-декадентском, «уайльдовском» духе[7] – как «безумие каннибальской пляски чувства, эгоизма и тщеславия»[8].
Мирэ филигранно смешивает разные краски, и из-под ее пера выходит нечто, напоминающее современный стиль camp, где можно найти красоту и уродство, серьезное и манерное, трагическое и пародийное. Так, в «Черной пантере» она тасует известные всем подробности жизни Уайльда, дает своему герою имя Альфред, а фамилию скрывает за инициалом Д. (что ясно указывает на возлюбленного английского писателя – лорда Альфреда Дугласа). А вот кто скрывается за пылающей страстью пантерой? Уайльд? Или это символ разрушительной любви, пожирающей бездумно отдающихся ей (в рассказе и пантера, и Альфред погибают)? А может, это вообще пародия на чувственность и чувствительность натур, которые требовали особого к себе отношения в Серебряном веке и демонстрировали несоприкосновение с пошлым и земным? И не подсмеивалась ли она над собой, когда описывала в рассказе «Рамбеллино» любовь героини к человеку-автомату (здесь явная отсылка к «Песочному человеку» Э.-А. Гофмана), который не выдерживает ее притязаний и сбегает от нее? Но, недолго погоревав, ветреница уже готова к новым отношениям. Однако, грезя наяву, о самой себе Мирэ знала, что ей, снедаемой страстной жаждой любви, не найти успокоения нигде. Наверное, так можно проинтерпретировать ее рассказ «Весенняя ночь» (1908), где две героини, монахини, в последние часы жизни на земле думают о любви, ревности, мщении, бросаются взаимными обвинениями, забывая о Боге и искуплении.
Как бы то ни было, судьба приготовила Мирэ еще одно испытание. Ее приятельница прочитала в брачной газете объявление одинокого холостяка из Перми, по профессии агронома, с предложением вступить с ним в брак, предварительно обменявшись фотографиями и письмами. Она отозвалась на призыв, получила его фотокарточку, но, разочаровавшись внешностью, переслала фото Мирэ, которая и начала с ним переписку. Заочно Александра Михайловна понравилась «жениху», он сделал ей предложение, пригласил приехать к нему, прислал денег на переезд.
Дальше происходило все так, как и должно было происходить с витающей в облаках, абсолютно не приспособленной к жизни Александрой Михайловной. Окрыленная надеждой женщина ехала так долго и так устала, что совсем не позаботилась о том, чтобы выглядеть привлекательно. Приехав на назначенную станцию, она вышла из вагона невыспавшаяся и непричесанная. Вид ее настолько отличался от изображения на фотографии, что жених даже не сразу узнал ее. Ей пришлось самой представиться ему, и только тогда он повез ее к себе. А жил он в глухом захолустье: на станции Частые Оханского уезда Пермской губернии (во всем уезде в то время насчитывалось около полутора сотен дворян!).
Вначале, по-видимому, все шло неплохо и Александра Михайловна была близка к тому, чтобы обрести себя подлинную! Счастье окрылило ее, она радостно констатировала изменения в себе: стала спокойней, уравновешенней. В семейной жизни она мечтала обрести твердость духа, ясность, уверенность в завтрашнем дне. Величавая красота уральской природы действовала на нее благотворно: «Высокие холмы и леса, наш домик на берегу Камы. По Каме ходят пароходы. Красота, ширь…» Оказавшись волею случая в «прекрасной глуши» (ее собственное определение), она с головой окунулась в неизвестный для нее доселе мир. «Меня все здесь интересует. Разговариваю с бабами», – сообщала она в письме. Она даже стала употреблять несвойственные ей ранее выражения: «Собралась начать писать большую повесть, а что из этого писанья выйдет, знать заранее никак невозможно, как говорят крестьяне». Она продолжила интенсивно работать не только над собственными сочинениями, но и над переводами (переводила Золя, Мопассана, Барбе де Оревильи, Роденбаха), очень переживая, что заказчики не спешат расплачиваться.
Оказавшись в новом для себя месте, Мирэ присматривалась к непривычному для нее окружению. И хотя ее пугали монотонность, однообразие, отсутствие внешних впечатлений, она могла все это принять и счастливо смириться со всем… при одном условии. Этим условием был Он. Безымянный, вымечтанный, неземной, гамсуновский Глан[9] (в письмах она только так его и называет!) должен был осветить ее неприютную, призрачную жизнь любовью, теплотой, человеческой признательностью, доверительными разговорами. Но разговоров как раз и не было. Муж оказался молчуном. Все попытки Александры Михайловны что-либо понять об его отношении к жизни не увенчивались успехом. Он не пускал ее в свой внутренний мир. Да и был ли этот мир у него? По крайней мере, тот, какой был нужен Шурочке! Ведь поместивший в брачной газете объявление агроном в первую очередь, видимо, все же искал хозяйку дома, аккуратную, бережливую женщину, а не экзальтированную особу, помешавшуюся на любви. С мужской точки зрения – это наихудший вид «помешательства»!
Не получив желаемого, Александра Михайловна взбунтовалась. Подробности их расставания неизвестны. Скорее всего, это был взрыв, истерика, резкое неприятие установившейся нормы отношений. Безусловно, свою роль сыграла и душевная болезнь. А может быть, это было не заболевание, а та беспредельная, немыслимая высота требований, которые не «прививаются» к реальной жизни. Ведь свое представление о любви, свой идеал любовного накала переживаний она «без скидок» переносила на взаимоотношения с мужчинами, что и приводило к бесконечным разочарованиям. Если бы ее будущий супруг до того, как «выписывать» себе из Петербурга невесту, удосужился прочитать хотя бы один ее рассказ! Ну хотя бы «Белый ключ» (1910), в котором она заставила пережить свою героиню Ольгу сладостные минуты той настоящей любви, о которой сама мечтала всю жизнь, той, которая для нее всегда была «оправданием и завершением всего, что есть и что будет»[10], то ему бы стало ясно, что от такой женщины надо бежать куда глаза глядят…
Разбитая, опустошенная, она вернулась в Петербург. В ее окружении четко обозначились «мужская» и «женская» трактовки произошедшего: «В Петербурге виделась со всеми. Все женщины говорили, что я хорошо сделала, что уехала, а мужчины (Федор Сологуб и Вячеслав Иванов) сказали, что я была, вероятно, во многом не права…» Она так и не оправилась от пережитого. С этого момента начинаются ее метания. Нигде она не может оставаться надолго. В паспорте появляются штампы разных городов… Ее неотступно преследует чувство вины и раскаяния. Она упорно продолжает анализировать происшедшее… «Я все сама напортила. Мой муж, как я теперь сознаю, очень, очень любил меня, и, если бы я не нервничала и не делала бы таких глупостей и верила бы ему, у нас была бы хорошая жизнь. Какой ужас сознавать это теперь, когда все кончено. Я была тогда под гипнозом недоверия. Нервы много лучше. Теперь владею собой, но боль временами ужасна» (подчеркнуто автором. – М. М.).
Мысль о неосуществленной любви к покинутому Глану терзает ее. Она писала: «Я его очень сильно люблю, всем существом, очень глубоко. В этой любви много мучений, но я, как недавно прочитала в романе Коллет Вилли[11], “не променяла бы этих мучений на самую большую радость”… Помните, я говорила Вам раньше, что хотела бы знать, что такое настоящая любовь, не мимолетное увлечение, а любовь (выделено автором. – М. М.). Теперь я узнала ее…»
Она прибегает к последнему оставшемуся ей средству – работе и неустанно твердит: «Работать, запретить себе думать о любви, забыть о счастье…» И неожиданно делает в творчестве резкий поворот к реализму. Теперь в ее рассказах появляются крестьяне-пасечники, обедневшие дворяне, пейзажи русской стороны. В этих произведениях явно ощущается что-то бунинское, глубоко проникновенное. Казалось бы, очень хорошо: вернулась на землю, обогатилась новыми впечатлениями, начала осваивать новые сферы жизни. Но зачем литературе второй Бунин? И вот парадокс: теперь ее рассказы теряются в массе других. Это среднестатистическая манера русских писателей, демократически настроенных, ищущих основы русского национального характера, вскрывающих язвы жизни, прибегающих к психологическому анализу. Мирэ утратила свою «почву», на которой только и могло взрастать и развиваться ее оригинальное дарование. «Пересаженное» на другую, оно перестало давать плоды. Прежнее ощущается только в ее автобиографической повести «Страницы из дневника», где героиня Лара проделывает тот же самый путь в новый, неизведанный, полный опасностей большой мир, что и Шурочка Моисеева когда-то…
Перенапряжение привело ее в психиатрическую лечебницу, лечение в которой, казалось, принесло плоды: тревога исчезла. Но наступило оцепенение: «Мне сейчас трудно говорить, хочется быть одной, читать, думать». Ей теперь кажется: несмотря на то, что она и ее прежний муж были очень разными людьми, они «могли бы ужиться» и даже хорошо «наладить жизнь». Причиной случившегося она склонна считать те «навязчивые идеи», что овладели ею, закончившиеся, по ее мнению, «чем-то вроде истерического психоза». «Вот в чем ужас», – беспрестанно твердила она. Но на самом деле ужас был в другом: «…я не могу разлюбить теперь и никогда не разлюблю. Я полюбила навсегда, и ужас в том, что все порвано навсегда» (выделено автором. – М. М.). Это итог, к которому пришла в результате размышлений бедная Александра Михайловна. Как-то в начале своего замужества она обронила: «Я узнала любовь, но еще не знаю – для жизни или для смерти».
Обмолвка оказалась пророческой: как-то упала на улице в Москве в обморок неизвестная женщина. При ней не оказалось никаких документов, и ее отвезли в Старо-Екатерининскую больницу для бедняков. Там она в полубреду декламировала стихи, жестикулировала, чем очень веселила окружающих. Вскоре умерла. Пять дней тело неопознанным пролежало в мертвецкой. Похоронили в общей могиле на одном из московских кладбищ. О смерти Александры Михайловны – а это была она – друзья-литераторы узнали только спустя несколько месяцев. Оставшаяся после нее корзина с рукописями и письмами – единственное ее достояние – где-то затерялась. Однако еще год после ее смерти нет-нет да и появлялись в печати рассказы, подписанные знакомой фамилией. Но теперь это было уже нечто невообразимое, авантюрно-приключенческое и залихватское. Какой-то «Капитан Икамура» и какие-то «Документы полковника Фрича»… Воспользовался ли кто-то бумагами из выброшенной корзины? Или прибегнул к известной фамилии, чтобы пробиться в печать? Этого мы никогда не узнаем…
Каков же писательский облик Мирэ? Что это за литературное явление? Она, несомненно, была «одарена настоящим талантом». Но этот «талант настоящий, незаурядный <…> не расцвел», и «талантливая писательница с блестящим, чеканным стилем дала гораздо меньше того, что она могла бы дать при более благоприятной обстановке и при более уравновешенных нервах»[12]. Оформилась точка зрения, что она не сумела окончательно «из трудного и унизительного материала», который представляла ее жизнь, сделать «материал для художественного сплава»[13]. Таков был вердикт ее современников. Сегодня же наследие Мирэ прочитывается как указание на новые открывавшиеся возможности литературы.
Мария Михайлова
Сборник «Жизнь»
Жизнь
Море тихо плескалось у берега.
Беловатая пена взбегала на камни ступенек и прикасалась легким поцелуем к ногам женщины с бледным, холодным лицом.
Глаза стоявшей женщины смотрели вдаль, спокойные и грустные. Там клубились туманы, в потемневшей дали – словно гигантские виденья. И они простирали объятия, они звали к себе.
«Там, должно быть, так холодно, в глубине моря», – думала женщина.
Она сошла по каменным ступенькам ближе к воде. Беловатая пена касалась уже ее платья, и холодные брызги долетали до сомкнутых губ.
Море, казалось, напевало песенку, ласкающую, словно шелест шелка: «Иди сюда! Спускайся ниже, ниже; не бойся холода. Иди своей дорогой – пока не дойдешь к смерти. Эта смерть не страшна, она знает волшебные чары земли. У нее много сладких снов. Холодная и неподвижная пелена вод сомкнется над тобой. Жизнь не посмеет прийти к тебе. Она так зла, жизнь. Вглядись, как много у нее морщин и как накрашено ее лицо! Она обманывает всех людей своим молодым видом, своей поддельной красотой. И она приникает к ним, и она входит в их сердца. Она нашептывает им безумные прекрасные мечты, великие, как мир, ласкаясь к ним, как женщина в минуты страсти».
И женщина спускалась ниже, ниже, с раскрытыми глазами… Жизнь отходила от нее. Смерть прижималась к ней. И еще несколько шагов, незаметных, неслышных…
Ресницы глаз ее отяжелели, все тело вздрагивало, руки прижались к сомкнутым губам.
И ей почудилось, что кто-то ее обнял. Это была Жизнь.
Она шептала: «Не сходи вниз по мокрым ступеням. Там ждет тебя уничтожение… И ты больше не будешь смеяться. Ты знаешь, ведь ничего нет лучше смеха, звенящего перлами радости в воздухе, – нет ничего лучше смеха. Вернись ко мне, ты будешь жить. Слышишь ты эти крики и этот смех людей? Каким безумием и какой гордостью одарила я сердца людей: все они хотят жить. Вернись назад! Я была зла и разбила все то, во что ты верила, чем ты жила. Но у меня их много – прекрасных грез. И знаешь? Ведь нельзя жить одним и тем же, – все делается старым, все разрушается.
Отыскивай же новые пути, пролагай новые дороги к новым звездам.
Вернись… Я обовью тебя, всю, с головы до ног, смеющимися снами. И я зажгу на небе много звезд, которые ты можешь сорвать хоть все, если тебе захочется. Ведь я богата».
Объятие Жизни стало крепче, крепче. Грудь женщины приподнялась широкою волной. Она замедлила шаги, поворотила голову в ту сторону, где жили люди, и медленно стала взбираться наверх.
На мостовой
Тяжелая безжизненная масса, покрытая холстиной с ярко-красными пятнами от просочившейся местами крови, неподвижно лежала на чистых камнях мостовой, блестевших под лучами солнца.
Кругом стояли люди. Ожидали прихода полиции.
– Это – женщина, – ответил кучер компании Урбэн, сошедший с козел своего фиакра и замешавшийся в толпе, – видна одна нога. Если судить по башмаку, то это была бедная, очень бедная женщина.
Башмак был жалкий, некрасивый, с распоротыми швами, с истертыми подошвами. Ступня ноги казалась длинной и широкой, словно распухшей и уставшей от ходьбы.
– Бедная женщина… – задумчиво повторил кучер. – Работала, работала, и вот конец.
– Это прачка Луиза Бошю, господин! – просунула к нему свой острый нос, покрытый рыжими веснушками, торговка зонтиками госпожа Кутан. – Нет, эта не работала. Только под старость ей пришлось… Она была из этого квартала… ходила…
– Ну, тоже нелегкая жизнь, – сказал кучер. – Вот я недавно отвозил одну в депо, хорошенькую, англичанку. А еще раньше мне пришлось везти в участок другую, японку или китаянку, не знаю. Во время выставки. Красивую… Лепечет что-то, плачет… Я ей давал сто су и звал в отель – не хотела. Пришлось ее там сдать дежурному сержанту.
– Чего хорошего! – сказала девушка в капоте и в туфлях на босую ногу: она шла с рынка, где купила кусочек мяса и редисок. – Иной раз и сама бы выбросилась из окна, да у меня ребенок.
– Что тут случилось? – сказала девушка в лиловой кофточке, обшитой белыми воланами. Она была взволнована, с раскрытыми и побледневшими от ужаса глазами.
– Разбилась женщина…
– А-а…
Девушка, казалось, побледнела еще больше и нервно сжала губы. Ее взгляд неожиданно встретился со взглядом блондина в широком бархатном костюме, смотревшего с участием вокруг себя.
– Какая это женщина? – спросил блондин.
– Это прачка Луиза Бошю, – предупредительно ответила мадам Кутан. – Но она раньше не работала. Она была в квартале… по пивным.
«Должно быть, из художников», – мелькнуло в голове у девушки в лиловой кофте.
«Еще ни разу не видал ее в квартале… Кто это может быть?» – подумал блондин.
Их взгляды снова встретились, и в грустном выражении глаз скользнули радость и надежды молодости.
Труп лежал под холстиной, неподвижный и мрачный, равнодушный и к осуждению, и к участию. Солнце светило ярко, играя искрами в витринах лавок и в стеклах фонарей. Из-за угла послышались тяжелые шаги приближавшихся городовых сержантов.
Кучку людей охватило волнение. История одной человеческой жизни окончилась на их глазах.
Блондин и девушка переглянулись снова. Они были бледны, и в их глазах читался ужас и перед шумным и изменчивым, как море, волнующимся возле них Парижем, и перед их судьбой. Они взглянули на убогий труп, и по телу их медленно пробежала холодная дрожь. И у него промелькнул страх за свой талант, охраняемый им с фанатической страстью от грубого насилия жизни. А у нее – страх за свою неопытную молодость и за свои несознанные еще силы.
Кучка людей расходилась.
Труп отправили на носилках в морг.
Скрипач
Из окна старой башни видно только широкое море, голубое, кристальное. И белый парус вдали сверкает – один белый парус.
Старик с бронзовым, строгим лицом смотрит на море и смотрит на парус: он отвернул свои взгляды от города с вереницей дворцов.
– Люди… – И он сжимает бронзовой рукою свой смычок и с силою проводит им по струнам скрипки. Скрипка дрожит и плачет глубокими, страдающими звуками. – Люди… Я все им отдал. Я принес им, как дар, мой талант. И они слушали, и они плакали, и они простирали ко мне свои руки – и они тоже брали свой смычок и играли им, этим смычком, на моем сердце, как на скрипке… Безумец Паганини, ты – не артист. Они – артисты. О, что это была за игра! Мои жилы тянулись, визжали, стонали, мои кости хрустели, и мое сердце разрывалось, разрывалось… Они все взяли у меня и не оставили мне ни одной мечты и ни одной надежды. Они украли у меня даже мой смех и стянули мне губы гримасой презрения. И они говорят мне теперь: иди сюда, безумный Паганини, и забавляй нас…
Голубое, кристальное море волнуется и улыбается в объятии солнца, под дождем поцелуев золотистых, сверкающих искр.
И старик с бронзовым лицом проводит с силою смычком по своей скрипке. В величественной буре криков и взрывов смеха, срывающихся с пробужденных струн, слышно, как сердце бьется, как оно умирает и как оно не хочет умирать…
И потом тихо-тихо плачет последняя прощальная мелодия. Сердце прощается с миром и с жизнью.
И старик, наклоняя печальным движением голову, говорит: «И если сердце мое мертвое вам нужно – я вам отдам его».
Ночь
Лампа спокойно освещала комнату. Ночь глядела в окно.
На постели лежал человек. Все тело его вздрагивало, и ему казалось, что каждый мускул у него разорван и болит. Ему казалось, что его связали, а ему нужно было убежать. Лицо его краснело от усилий, которые он делал, чтобы подняться с постели, и глаза его стали злыми. Что-то стучалось в его дверь, что-то должно было прийти. Он знал, что это будет страшно, и он не мог уйти. И на глаза его навертывались слезы, такие чистые, холодные, и они медленно катились по его бледному лицу. Все усилия были напрасны. Он запрокинул голову, закрыл глаза, и его грудь, казалось, не дышала. Что-то бесформенное появилось у порога его двери.
– Что это там?
– Это мы, люди.
– Ну, зачем вы, зачем вы? – заволновался человек и задрожал. – Зачем?
– Мы пришли, чтобы раскрыть твою душу, чтобы рассмотреть все, что в ней есть позорного, все, что в ней есть преступного. И за все это ждет наказание.
Человек облегченно вздохнул.
– Только за этим? Ну, все взято, осмеяно, растоптано тысячью ног! Больше нечего делать.
И он закрыл глаза.
И у порога его двери появилась новая фигура – определенная, спокойная и светлая. Легкие складки воздушных одежд обвивали красивое стройное тело. И на бледном лице, безмолвном и ясном, блестели глаза. Эти глаза глядели внутрь и ничего не видели вокруг себя.
– Что это там?
– Это я, Одиночество.
– Ты пришло, чтоб остаться со мной на всю жизнь!
– Да, мы будем жить вместе, мы будем совершенствоваться вместе. Будем взбираться на холодные высоты, где погибает все ничтожное, где может жить только великое, только свободное. Будем глядеть глазами внутрь себя, подниматься все выше и выше…
– А что будет потом?
– А потом смерть.
– И только.
И человек закрыл глаза.
Лампа медленно гасла, и окно побелело. Близилось утро, бледное, ничего не обещающее и неясное.
Минуты
Минуты все бегут и все торопятся – такие маленькие, подвижные.
И люди думают, что эти маленькие быстрые минуты – не что иное, как промежуток времени, в который стрелка пробегает от одной черточки к другой.
Это не так. Минуты – это маленькие существа, невидимые, стройные, которые все шепчут, шепчут, – и горе тем, кто не умеет понимать эти почти беззвучные слова.
И, может быть, минуты напоминают своим видом прозрачных бледных бабочек и, может быть, – веселых мух.
Дело не в форме, дело в смысле. Вот бедный перевод того, что говорят они:
Первая минута: «Не забывай же творить мысли! Каждая новая мысль, которую произведет твой мозг, – твоя собственность и твоя радость. Не правда ли, ведь это хорошо, когда твой мозг исполнен радости?»
Вторая минута: «Каждая новая мысль порождает другие проворные мысли. Они сцепляются и обнимаются, как голубые бабочки при утреннем сиянии, как туманы над морем в предутренний час, и поднимаются в мозгу твоем, и возвышают разум твой. Ведь это хорошо, не правда ли, когда высок твой разум?»
Третья минута: «Когда соединяются смущенные, взволнованные вереницы высоких мыслей человеческих, тогда могуче льется жизнь. И создаются тогда гордые науки, великие учения философии и дивные, сверкающие красотой своей искусства. Каждая мысль родит другую мысль, как каждая минута бежит вслед за другой минутой».
Четвертая минута: «Не забывай же творить чувства! Каждое новое чувство – как бы оно ни было мало, нежно и застенчиво, как бы оно ни походило на только что проснувшегося к жизни, разбившего свою скорлупку птенчика, – объяснит тебе что-нибудь в жизни. А разве это не приятно, когда ты будешь объяснять себе своими чувствами ту жизнь, которой ты живешь?»
Пятая минута: «Когда ты будешь объяснять себе своими чувствами, то робкими, то смелыми, ту жизнь, которой ты живешь, то эта жизнь получит для тебя глубокий, важный смысл, великое значение, и ты полюбишь ее телом и душой. Ты будешь понимать и каждую счастливую улыбку, с которой проснешься утром, и все разнообразное в своем ничтожестве, в своем величии дело жизни. Скажи, ведь нужно любить жизнь, раз ты рожден для жизни?»
Минуты все бегут и все торопятся. И маленькая стрелка весело перебегает от одной черточки к другой.
Беппо
Беппо лежит на берегу под солнцем. Горячие лучи скользят и прыгают по его смуглому коричневому телу, словно стараясь сделать Беппо негритенком.
А какое же дело до этого Беппо? Лишь бы было тепло… Он жмурит свои черные глаза и шевелит губами.
На светло-голубом прозрачном фоне моря выделяется резким живым силуэтом обнаженное темное тело отца Беппо, Джиованни Паччини. Он собирает под камнями на дне морском морские фрукты.
Беппо знает, что старый Джиованни подойдет к нему скоро, и даст ему пинка, и скажет:
– О, Беппо, ленивый мальчишка…
Беппо с презрением вытягивает губы и свистит. «Велика важность…» Он тоже занят делом: он думает. И взгляд его теряется с любовью в безбрежной дали.
«И велико, должно быть, море, – думает Беппо. – Есть ли ему конец? Доменико, матрос, говорил, что конец моря есть, что море упирается в гигантскую и почерневшую от времени скалу, а за скалою – пустота, ничего нет… И только ветер плачет на пустоте, потому что он хочет прорваться сквозь скалы и разметать, разбить все корабли на море… Но Доменико лжет: он лгун».
И Беппо задумчивым жестом взбивает вьющиеся волосы над низким лбом. «Я должен сам увидеть конец моря», – решает он.
Дзинь, дзинь, дзинь… – звенят невдалеке играющие колокольчики, подвешенные к упряжи осла, которого мать Беппо, черноволосая упрямая Кристина, погоняет на рынок с тележкой лимонов и фиг.
– Я должен сам увидеть конец моря, – повторяет задумчиво Беппо с величественным и широким жестом рук. – А ведь какие чудеса рассказывал мне дядя Карло о пиратах… Вот была жизнь! – Беппо щурит глаза, зубы его блестят под толстыми губами. – Разыгралась великая буря, и небо стало черным, и море стало черным, и ничего не было видно. И тогда полетели по морю, по холодному черному морю, отважные и грозные пиратские суда…
Дзинь, дзинь, дзинь… – долетают уже издали колокольчики.
– И пираты и режут, и рубят, и жгут, и забирают золото, и забирают женщин. А буря свищет, рвет паруса с судов и топит, забавляется. Она недобрая, жестокая, эта черная буря. Она любит смеяться над горем… Вот зачем только женщины нужны пиратам? – Взгляд Беппо выражает удивление. – Зачем они?
– Беппо, отверни нос от солнца… лентяй! – кричит старый Джиованни; его фартук, подвязанный к поясу, переполнен, а длинные, худые руки все тянутся и тянутся, все ищут, ищут…
– Я хочу быть пиратом! – И Беппо воинственно приподнимает голову. – Пиратом… Меня будут бояться… Эта старая ведьма Марианна уже не притронется к моим ушам…
Беппо смеется, и вдруг лицо его как будто омрачается, и он печально жмурит брови. – А дядя Карло мне рассказывал, как пираты убили собачку. Собачку, белую… с живыми человечьими глазами… И она плакала, плакала белая собачка… Нет, нет! Я не могу убить собачку… – И лицо Беппо омрачается: его планы о будущем рушатся, и его яркая судьба бледнеет.
Глаза его полузакрыты под длинными ресницами, и лоб нахмурен. Беппо думает, думает…
– Художником… – бормочет он. – Я буду рисовать картины. Я много видел их, художников, с широкими зонтами. Они садятся и рисуют. Всё рисуют: и улицы, и море, и людей. Пойду-ка я учиться рисовать у старого Сантини… – И прозрачные тонкие ноздри Беппо дрожат. – И будут все кричать: «Беппо Паччини… Беппо Паччини»…
– О, Беппо… ленивый мальчишка… – Старый Джиованни дал ему пинка. – Иди домой обедать. Нужно же чем-нибудь набить живот.
Глаза Беппо широко раскрыты. Они видят уже, как Сантини, Марианна, и отец, и все оборванные, грязные мальчишки из квартала Санта-Лючиа стоят возле него с открытыми от удивления ртами.
Он поднимает голову, и из его смеющегося рта вылетает торжественный крик: «Да здравствует Беппо-художник!»
В лесу
О’Донован подходит близко к дубу, срывая с него ветку.
– Среди людей зеленый цвет считается радостным цветом надежды… И я говорю вам, друзья, надежда не должна покинуть нас, если мы не уйдем из строя.
В его голосе резко звучит холодная уверенность и сила; он низко сдвинул на лоб свою шляпу, чтобы скрыть от друзей измученный блеск своих глаз.
– Наша месть, наша жажда свободы должны быть поставлены нами выше всех человеческих чувств. Это древний закон, звучащий так грустно на длинном протяжении веков – око за око… Мир живет и живет, уничтожаются и возрождаются великие народы, и вместе с миром живет этот закон – гордый закон гордых людей! Не устрашимся этим, раз примирения не может быть. На событие шестого мая в Феникс-парке из Лондона ответили судами без присяжных. В добрый час! Борьба организуется жестокая: когда победа будет за одною из сторон, то другая, разбитая, будет лежать беспомощно, без голоса, как побежденный гладиатор. Мы поднимемся снова над Англией, как грозовая туча, хранящая в себе губительные молнии возмущенного чувства и мести. Будем надеяться: победа будет наша – за нас Ирландия!
– Без святого Патрика! – насмешливо и грубо бормочет высокий рабочий. – Ирландия за нас, но без Патрика!
– Я не согласен с вами, О’Донован! – Задумчивые, серо-голубые глаза упрямо смотрят из-под сдвинутых бровей. – Строго легальная, спокойная борьба, когда мозг холоден, когда он ясно и расчетливо выбирает пути, по которым должна идти партия, которая в конце концов всегда восторжествует после упорного труда, – гораздо выше и честней, чем это страшное и возмутительное corps à corps, которое вы предлагаете…
Ряды сомкнувшихся людей в тревоге переглядываются и шевелятся.
– Гомрулер… Гомрулер…
Листья старых ирландских дубов шелестят тоже со скрытой угрозой, и они шепчут в шуме листьев:
– Нет! Нет! Бороться! Бороться или умирать…
Лицо О’Донована блекнет, и резкая глубокая морщина прорезывается между бровей.
– Иной борьбы не может быть! Парламентская борьба ни к чему не приведет. Аграрная лига, поддерживаемая и подкрепляемая пассивным молчаливым сопротивлением всего народа, – это абсурд. Это значит – играть свою игру в пользу врагов. Нет! Ведь мы не шахматные игроки, мы не атлеты в цирке – и мы должны идти наверняка к победе. За нашими спинами стоит Ирландия, протягивая к нам свои измученные руки, стремящаяся, жаждущая своего освобождения, родная Ирландия! Долой же бесполезную политику гомруля! Вперед!
– Вперед! Вперед! – с одушевлением кричит толпа, обрывая зеленые ветки.
– А если я им говорю, как шахматный игрок? – бормочет с горечью О’Донован. Он вытирает капли пота с крутого лба и медленно протягивает руки.
– Вокруг этого леса и дальше, до границ моря и земли, лежит наша родная земля. Она во власти англичан. Наш бедный «картофельный» народ страдает под игом английских лендлордов… А, черт возьми! Но наши крепкие ирландские желудки прекрасно могут переваривать и всякую другую пищу, питательней картофеля! Друзья мои, последние усилия, и наши окровавленные руки принесут сюда, в нашу родную Ирландию, – спокойствие, и благосостояние, и свободу! Долой же Англию! Мы забросаем англичан таким картофелем, что они нам уступят поле битвы без боя…
В стремительном движении толпа приподнимает руки, украшенные зеленью ветвей.
– Долой картофель!
– Я хочу… – Голубые большие глаза смотрят с грустью и твердо.
Разъяренные, резкие крики толпы отвечают ему и словно вдавливают ему в рот не прозвучавшие еще слова:
– К Парнелю! К Парнелю! Убирайтесь к Парнелю!
Деларош
Письменный стол простого дерева завален ворохом газет.
Приближаются выборы, и имя Делароша будет снова с проклятием и ненавистью волочиться в грязи.
Деларош выпрямляет согнутую спину и поводит плечами.
Опять поднимутся все грязные истории о его личной жизни, зашипят всюду сплетни о безнравственности Делароша, и о его продажности, и о его несуществующем богатстве.
– Деларош? Знаете эту ужасную историю с женщиной? Он обманул ее. Она ужасно умерла.
Деларош нервно закидывает голову, его взгляд вспыхивает вдруг недобрым огоньком. Он захотел быть выбранным во что бы то ни стало назло всем этим крикунам.
Это длилось секунду, и спокойствие снова сошло в его душу. Быть выбранным или не быть выбранным… Ведь важно только иметь возможность приводить в жизнь тем или иным путем свои идеи.
Он начинает перебирать газеты.
Газеты националистов… Он откладывает их в сторону. Там слишком много грязи; иногда кажется, что руки пачкаются от прикосновения к газете. Перед его глазами мелькнула короткая статья, подписанная именем Рошфора; он отбрасывает газету, и рука его вздрагивает. Может быть, «этого» он не хотел иметь в числе врагов, среди всей этой клики.
Его взгляд останавливается на маленькой газетке под названием «Дядя Легранж». Он пробегает первую статью.
«… Провал Делароша на выборах будет для него счастьем. Он избавится этим от необходимости чесать языком в палате перед собранием буржуа. Он займется серьезным делом народных масс».
Деларош улыбается. Он знает, кто написал эту статью. Это Бюфон, редактор «Дяди Легранжа». Он его видел на одном из собраний. Бюфон стоял там в стороне, неловкий и смущенный, в своем длинном пальто, глядя вокруг себя своими карими глазами, красивыми и нежными, как глаза женщины. Он говорил кому-то из товарищей своим тихим, тихим, почти доходящим до шепота голосом: «Я не люблю ораторов. Это какие-то кривляющиеся изломанные арлекины, которые играют своим даром перед толпою, как актеры, чтобы заслужить ее рукоплескания. Я не люблю их еще потому, что они приближают так близко отдаленное, что они лгут».
Деларош снова улыбается: ему припомнились и слова Ницше – «Les poetes mentent trop».
Он встает с кресла и тихими шагами ходит по кабинету.
Оратор соприкасается так близко с массой, – думает он, – так близко от себя он видит серьезные глаза, смотрящие на него с верой, он почти слышит, как бьется множество сердец. И он волнуется, красивыми и вдохновенными словами он приближает отдаленное, он называет завтрашним будущий век. Но лжет ли он? Лгал ли он сам?
И Деларош прислушивается к биению своего сердца.
Нет, он не лгал. Ведь он в минуты вдохновения сам верил в то, что говорил. И не так важно, завтра или позже великие идеи войдут в жизнь. Важно то, чтобы эти идеи все приближались.
Он снова начинает перебирать газеты. А! Вот…
Перед ним статья, написанная резко, сжато, холодно. Он пишет так, как говорит, – глава одной из групп громадной партии и самой узкой группы.
Доктринер, не видящий ничего в мире, кроме своей доктрины. Это его усмешка. И Деларошу кажется, что он сам видит, как узкая рука с длинными пальцами пишет эту статью.
«…Деларош? Но ведь известно, что Деларош пришел к идеям демократии недавно, – что он пришел к ним, удалившись из самого сердца либерального лагеря. И декадантская, неясная окраска этого лагеря осталась крепко-накрепко приклеенной к его коже. Деларош… Перед ним преклоняются все за его громкий голос, которым он взывает к справедливости. Но Деларош все же – не человек партии. Он отдельно стоит…»
Деларош поднял голову.
– Все то же и то же. К соглашению мы не придем. Сворачиваю ли я в сторону, чтобы помочь возвысить униженное, попранное человеческое достоинство «одного из людей», – они меня упрекают за это. Стою ли я на стороне соединения политической программы с экономической – они меня упрекают за это. А между тем мой взгляд всегда приподнят и всегда видит тот идеал…
Его небольшие глаза под припухшими красноватыми веками вспыхивают неровным стальным блеском. Он забывает про статью.
– И этот идеал так необъятен, так велик!
– Ну, что же? – говорит он спокойно своим любимым сильным жестом. – Будем бороться!
И Деларош подходит медленно к окну и долго смотрит в сторону Латинского квартала. Ему кажется, что оттуда широкой и светлой волной льется что-то могучее, новое – новая жизнь, будущее страны.
И там дальше, дальше – на высотах Монмартра, начинает упрямо светиться какой-то новый, свободный и не покоряющийся силе ветра огонек.
А еще дальше, на окраинах Парижа, медленно думает, и развивается, и созревает население фобургов.
На высоте
Тихо-тихо взбирается он по дороге – все выше и выше.
Никого нет на этой дороге, покрытой белыми, играющими пятнами серебряного солнечного света.
Он – один. И он спокойно выпрямляет свой худощавый, слегка сутуловатый стан и смотрит вверх своими близорукими глазами.
Спокойствие сверкающего утра и одиночество так полно, так гармонически сливаются с ним – одиноким всегда и везде.
– И не нужно, не нужно людей, – говорит он. На него прямо смотрит солнце – одинокое солнце, блистающее в голубом огне. И солнце говорит ему:
«Уходи, уходи от людей! Ты их не любишь… И я не люблю тоже облака и тучи, которые скользят по небу и затемняют царственный мой образ.
Поднимайся все выше и выше, к спокойным высотам, – туда, где нет людей, нет человечества, где ты будешь один.
На этой высоте твой ум будет блистать такой кристальной чистотою, как алмаз, – к нему не будет долетать ни пыль, ни смрад, ни копоть от жизни городов.
Ты не создан быть «братом» и участвовать в братстве людей. Ты создан, чтоб быть одиноким, великим и подниматься выше, выше от человечества и ближе к солнцу.
Тебя не могут упрекать. С высоты вниз в долины слетит могучий отголосок твоего смеха – такого чистого, как детская улыбка утра при его пробуждении.
И отголоски твоего кристального смеха сметут пыль и разгонят смрад и копоть больших городов. В очищенном и освеженном воздухе у людей будет лучше зрение, и они разглядят из долины твои высоты и тебя.
И пойдут одинокие люди взбираться по следам твоим. Они будут взбираться твоими рабами – на высоте же будут равными тебе.
И они тоже будут посылать в долины кристальный смех. Ты видишь, упрекать тебя нельзя; поднимайся же выше и выше».
И он взошел на высоту.
До него донеслись тогда крики людей – крики людского страдания и боли.
Он наклонил свой царственный высокий лоб, и его сердце тоже вздрогнуло от боли.
Он сказал солнцу:
«Нет, я – не солнце. И у меня в груди бьется живое человеческое сердце, родившееся на родной земле».
Наклоняя свой лоб над долинами, он сказал:
«Поднимайтесь! Идите, идите… Я помогу вам взбираться на скалы, оберегу вас от хищных зверей, от миазмов болот, – от вашей слабости оберегу вас тоже.
Тут воздух холоден, суров, но я буду дышать с такой страстной, горячей любовью – и на высотах потеплеет».
Среди болот
Я искал свое счастье повсюду, и я нашел его на дне серебряного озера.
Но как его достать?
Оно лежало там, покрытое густыми и растрепанными водорослями, среди которых спали рыбы, белыми раковинами и желтыми песками.
А воды озера были всегда печальны, неподвижны… Когда случайно лунный луч со звоном падал на поверхность озера, рассекая его золотистою раной, – оно как будто вздрагивало, пробужденное от сна, и потом снова затихало.
И я ходил, не зная отдыха, взволнованный, встревоженный и потрясенный… Я ходил вокруг тихого озера широкими и сильными шагами и громко, жалобно кричал:
– Зачем ты спряталось так далеко, мое счастье… мое светлое, чудное счастье… Как бы я крепко обнимал тебя, как бы я нежно целовал тебя, если бы ты пришло ко мне! Я был бы твоим преданным рабом, и был бы твоим кротким господином, если бы ты пришло ко мне… Ты, должно быть, так дивно красиво! Ведь правда? У тебя золотые прекрасные руки с раскрытыми и щедрыми ладонями… У тебя золотистые кудри, беспомощно разбросанные по плечам и ждущие короны… И твое милое лицо так нежно, такая светлая улыбка дрожит всегда на твоих розовых губах… У тебя хрупкое живое тело, которое я все покрыл бы поцелуями, если бы ты пришло ко мне!
Так я кричал, расхаживая возле озера широкими шагами и нахлобучивая смелым жестом свою истрепанную шляпу на распавшиеся кудри…
И когда мне казалось, что счастье мое может прийти ко мне на зов мой, я от радости широко раскрывал свои объятия.
И я ходил тогда возле серебряного озера, подпрыгивая, словно школьник, подбрасывая свою шляпу, и с звонкой радостью кричал:
– Ко мне! Ко мне!
Зловещее, угрюмое болото, раскинувшееся вокруг меня, с насмешкой повторяло этот крик:
– Ко мне! Ко мне!
Проклятые болота… Я их глубоко ненавидел. Всегда такие мутные, всегда такие грязные, – они лежали в сыром воздухе, как сытая, довольная, упившаяся грязью свинья.
Я не любил эти болота. Но когда взгляд мой отрывался хоть на мгновение от серебряного озера с его воздушными голубоватыми струями, то он встречал всегда эти ужасные и безобразные пространства, покрытые бесстыдной грязью.
Проклятые болота… На них росли цветы, лиловые печальные цветы, волнуемые легким ветром.
И цветам было скучно. Когда я приближался к ним, они печально улыбались мне своими светлыми глазами и ласково шептали мне безумные слова об одном, лишь одном поцелуе…
Как я брезгливо поводил тогда плечами, моими стройными широкими плечами юности… И уходил от них. Цветы с болота…
И снова я мечтал о моем, притаившемся так далеко, милом счастье с кудрями. И, как влюбленный юноша, я повторял:
– Мое… мое… мое…
Солнце светило и уходило. И много-много раз Аврора с розовыми крыльями и с жгучей улыбкой отдергивала и задергивала полог у постели солнца.
И шаги мои делались медленней. И мои кудри уже не так обильно вились под моей старой шляпой. И даже иногда боялся я, что у меня не будет сил обнять так крепко мое счастье, как обещал ему…
Мне было холодно. Я стал чертовски зябким с недавних пор. Бывало, кровь клокочет и кипит… А теперь под плащом моим холодно.
И плащ мой как-то постарел, осунулся. Я много уже раз чинил его, сидя на сыром камне.
Когда я прикасался рукой ко лбу, то под моими пальцами сердито бороздились морщины кожи.
Было невесело вокруг. И я с презрением глядел на тусклые болота с качавшимися кое-где лиловыми цветами и говорил:
– Вам хорошо лежать и киснуть. У вас нет счастья. А у меня ведь есть оно… Оно лежит на дне серебряного озера. И я его люблю, люблю…
По болотам шагали вблизи меня длинноногие цапли. Они глядели на меня и говорили мне:
– Оно тебя не любит, твое счастье. Полюби нас или зеленых, квакающих по ночам лягушек.
Я им не отвечал. Я низко надвигал на лоб мою изношенную шляпу, я опускал глаза и с сжатыми печальными губами ходил возле серебряного озера.
Была ночь… Наклонилось темневшее небо над заснувшей землей… И облака скользили медленно, торжественно, словно покрытые попонами и медленно идущие спокойными шагами лошади в похоронной процессии…
«Хоронят там кого-нибудь?» – подумал я.
И когда я подумал о смерти, то мне сделалось страшно.
Мое озеро было холодным и темным. И вдруг я явственно увидел, как стали зажигаться на дне его веселые и яркие огни.
Мое счастье устроило праздник… Мое счастье готово прийти.
Как горели огни в темном озере! Как хорош был ночной пир огней!..
Я не знал, сколько богатств хранит у себя счастье. Я не знал, что у него так много рубинов, напоенных кровью, и вздрагивающих от радости топазов…
Огни горели медленно, торжественно…
И прошла ночь. И наступило утро.
Утро было печальное…
Когда же я, измученный нетерпеливым ожиданием, полузамерзший, подошел к воде, чтобы наконец достать его, обнять его, мое капризное и не дававшееся мне так долго счастье, то я увидел в озере лицо свое…
– Не придет… – закричал я, дрожа весь от гнева, – не придет мое счастье!
Я был стариком. И в озере я увидел седые кудри, пергаментное желтое лицо, застывшие глаза.
Жизнь прошла незаметно – в одном ожидании.
Я сел тогда на сырой камень. На этом камне много раз чинил я плащ мой. И закрыл глаза.
– Пусть теперь придет смерть.
Но это слово «смерть» терзало мою душу.
Я сидел там. В моем мозгу тяжелыми седыми гнездами свивалась паутина…
Но когда засмеялись болота и цапли, то я приподнял голову и произнес:
– Молчите вы… Ведь вы не знаете, какое страшное страдание – ждать свое счастье, ждать всю жизнь и умереть, не видевши его.
С презрением накинул я печальный траурный покров на небо и на землю, чтобы ничего не видеть и не знать.
И я сидел…
Проклятое болото, не ждавшее никогда счастья!
И я не плакал…
Лиен
Длинные пальцы американца-тапера, скользя и торопясь, наигрывают грустный вальс. По зале кружатся с медленной грацией пары. Тапер склоняет близко к клавишам свое чахоточное жалкое лицо и играет, играет, словно стараясь передать в разбитых звуках разбитую жизнь.
Гросс Перл, в тяжелом новом платье из толстого, негнущегося шелка, стоит возле окна, любуясь ярко освещенным портом. В ее глазах мелькают злые огоньки, и она шепчет, улыбаясь:
– Там – итальянская эскадра. И скоро ждут в Тулоне прибытия нескольких нормандских броненосцев. Недурно! А?
Она прищуривает узкие глаза, и крупные фальшивые брильянты сверкают на ее руках.
Она оглядывает залу. Все, все у нее есть… Золотые карнизы блестят, столы из мрамора, большие зеркала, мебель обита красным бархатом, семь девушек… Одна красивее другой…
А когда-то, давно, она бродила по ночам по узким темным улицам около порта, бездомная, измученная и избитая…
Улыбка хищного довольства мелькает на ее губах. И ее взгляд с восторгом устремляется на странную красивую головку, украшенную золотыми шпильками. Это – Лиен, китаянка, подарок старого богатого приятеля Гросс Перла, привезенная им из Гонконга – вместе с японской вазой и с обезьянкой из Бомбея.
Изящная фигурка Лиен, закутанная в затканный серебряными мотыльками газ, красиво и причудливо раскинулась в углу дивана. Возле нее огромный кактус с уродливыми лапами. Собеседник ее молодой худощавый брюнет с нервным, нежным лицом.
– А тебе лучше жить в Европе, чем у тебя на родине, в Китае, Лиен?
– Нет, я ошиблась в европейцах.
– Что?
– Ошиблась в европейцах…
У этой Лиен умное спокойное лицо и хитрая ирония во взгляде ее глаз, затуманенных ласковой негой.
– Но ведь у вас в Китае люди злы, а участь женщин так ужасна…
– Да, люди злы, – спокойно отвечает Лиен. – Да… У нас злые реки, злой ветер в море и злые, жестокие нравы. У нас любят жестокость. В Гонконге я служила в чайном домике. И все жестокости переносила я спокойно: так нужно. Моя гонконгская хозяйка, старуха, щипала меня всю до черных синяков своими острыми ногтями. Она была права: я очень хрупкая, я часто уставала, изнемогала от этих ужасающих ночей. Один раз пьяный человек хотел мне вырезать ножом на коже тела несколько бранных слов… Она была права, хозяйка: есть много-много девушек в Китае, которых родители хотят продать. А у нее – коммерческое дело. И если я была такою слабою, то ведь нечего было жалеть меня. На мое место нашлась бы целая толпа желающих. Я сама была злой: у мужчин, опьяневших, я крала деньги, кусала их, била; у одного откусила кусочек уха.
Лиен лениво наклоняет голову к плечу мужчины и продолжает сонным голосом:
– Приходит раз ко мне француз – тот самый, что привез меня в Тулон. Он говорил о европейцах, о доброте их и о том, что европейцам будто бы запрещено религией обижать слабых. Я с ним поехала в Европу.
Она закидывает голову, смеясь своим красивым ртом, напоминающим цветок краснеющего мака.
– Пей, больше пей! – шепчет она. – Вино окрашивает жизнь в такой красивый золотистый цвет… И золотой туман закроет от скорбных весь ужас жизни. Пей, больше пей! Я расскажу тебе печальными словами о том, как золотое солнце – соединение всех добрых гениев – погибло от злобы черного чудовища-дракона…
– Но все же лучше жить в Европе?
Лиен смеется.
– Мне кажется, что золотое солнце было одно – в Европе и в Китае. Теперь же его нет – ни там, ни тут.
– О, Лиен… – И он сжимает ее руки. – Не золотой, а розовой краской вино окрашивает жизнь. Видишь, Лиен, я верю, что скоро люди не будут обижать слабых, что люди будут братьями. Немножко только нужно подождать, еще немножко. Ведь ждут же люди целые века. И люди будут братьями, и будут справедливыми, и ни одной загубленной, задушенной, разбитой жизни не будет больше на земле… Я в это верю, Лиен. Я сам готов взойти на колокольню, на самую высокую, крутую колокольню и говорить…
Лиен задумчиво глядит.
– Ты говоришь мне о том времени, когда сверкающее солнце разорвет дракона и засияет снова в небе… Это не так-то скоро. Ну, может быть, вам лучше знать…
Она задумывается, сильней сжимая руки.
– А если я поверю? А если это все обман?
Им кажется обоим, что легкий золотой туман дрожит и разливается вокруг – подобный солнечному свету.
На Левкадской скале
«Тише, Сафо… Тише, Сафо… Не плачь… не плачь…»
С веселым смехом перекликающихся маленьких божков голубые блестящие волны в серебристой одежке подбегают к подножью скалы, на которой застыла Сафо.
Ее глаза, зеленоватые, как цвета морской волны во время бури, печально смотрят вдаль, и золото волос упало ей на плечи. Белая ткань ее одежды истрепалась, порвалась в камышах, тростниках, в лесных зарослях, по которым она пробегала в смятении.
Ее руки упали, и жемчужные слезы струятся из глаз и падают на грудь.
– Смотри, как нам свободно жить, как хорошо! Мы равнодушны ко всему – скользим, скользим… Смотри, как хорошо нам жить! И мы несем с веселым равнодушием усталый бледный труп, жемчужину с венца царей, измятый бурею цветок… Мы – волны.
Нам так свободно жить… Не плачь, Сафо! Твое горе пройдет. Посмотри, ты разбила звенящую лиру. Так возьми же другую и сложи сладкозвучную песню о твоем бедном сердце, о твоем старом горе.
– Я знаю, – говорит Сафо, – что я избранница между людьми, что сладки мои песни… но я страдаю, и я разбила лиру, чтобы без нее упиться горем.
– Страдать, страдать… Это, должно быть, скучно, – лепечут волны. – Спроси у Пана: он всегда весел. Если его обманет нимфа, то он играет на свирели. И леса затихают тогда, и облака слетают ниже, и волны не играют на свободе. Всё его слушает. Он плачет… А потом он бросает свирель и бежит за другою веселою нимфой и скрывается с ней в чаще леса. И тогда облака засмеются, и краснеют, и вьются, улетают в далекую высь. Лес шумит, веселится и бросает ветвями на луга задремавшую тень. А волны…
Мы, волны, летим на простор, сжимаем друг друга, бросаем друг друга… Нам весело жить! Сафо, не плачь, не плачь…
«О, милые проказницы, играющие волны моря!.. Вы смеетесь над этой тоской – над моею тоской! Я не волна. И это человеческое сердце так чутко, так отзывчиво, и так больно, так больно страдает. Я люблю, я ревную… Я ревную! С зелеными глазами, ревность обвила меня всю своим нежным объятием. Я ревную!.. Сжальтесь, милые волны, и возьмите меня в свой холодной простор! Свет не мил мне – не мило мне небо и земля… Золотистые волны волос моих разлетятся по морю, как травы, как морские зеленые приворотные травы. Я сожму вас в объятиях, прихотливые волны, – я сожму, зацелую. Прогоню я далеко зеленую ревность – ревность с злыми глазами. Мое сердце живое я оставлю в подарок земле, и, с звездою морскою в груди вместо сердца, я сольюсь навеки с вами, волны морские. Пана будем мы слушать и веселою толпою, вместе с ветром залетным, будем бегать по морю. Но для этого, волны, нужно сердце мне вырвать, мое сердце живое. А с живым моим сердцем я живу и страдаю, я томлюсь и желаю… Ревную…»
Художник
– В салоне отказали, отказывают даже во всех картинных магазинах…
И везде тот же самый припев: это прекрасно, но это только для любителя, картины не подходят нам.
Гастон Реми стоит перед своей картиной.
– А между тем… Как же они не понимают и не чувствуют всей чарующей прелести этого колорита, изящества рисунка, этой идеи, этой жизни… – Его худые кулаки сжимаются, на бледном и измученном лице проступают пунцовые пятна.
– Протагор… Это он сам – на этой картине. Он оделся суровыми стройными складками белой одежды, спадающей свободно с его широких плеч. Это его лицо – широкое и бледное, простонародное лицо – носильщика, так тонко и так мягко оживленное силой ума. Полуоткрытый рот как будто хочет произнести спокойно великие слова, пока молчащие в его мозгу. Его глаза полузакрыты тяжелыми, нависшими ресницами, и в них глядит его могучий ум. Под этими ресницами, во взгляде полусомкнутых, туманных глаз как будто бродят и рождаются его мятежные идеи, так резко шедшие наперекор всему. Таким его увидел, мне кажется, Сократ, когда пришел к нему, чтобы посмотреть его.
И снова медленные нервные шаги нарушают покой ателье.
– Вот труп убитой женщины. Они мне говорят, что этот труп я принес с бойни. А между тем это только реально. И ярко-красная, горячая, струящаяся кровь, и неровный изгиб раны в горле… Это только реально.
Он задел на ходу рукавом своей старой испачканной блузы ящик с красками.
– Где же Жюльета? – Он оглядел свое пустынное ателье; Жюльеты не было. – Куда же она ушла?
Он подумал минуту.
– Вероятно, ушла прогуляться.
Ни тени ревности не промелькнуло в его душе. Он никогда не ревновал ее – даже тогда, когда он был в нее влюблен. Теперь же былая любовь его к ней становилась все глуше, стихала. Он привык ее видеть в своем ателье так бесшумно скользившую, убиравшую краски и мывшую кисти, тонкую, гибкую, с глубокими глазами. Она позировала для него.
И когда, по ночам, он лихорадочно работал, то приближаясь, то отходя от полотна, при неровном таинственном блеске свечей, – она лежала на постели с открытыми глазами долго-долго, следя за каждым его жестом, потом же засыпала тяжелым и крепким сном, как будто умирала.
Думала ли она о чем-нибудь? Страдала ли она? Какое было дело до нее ему, всецело погруженному в мир своих образов. И эти образы владели им с трагической, безумной силой. Ему казалось иногда, что эти образы растягиваются и тянутся за ним бескровными и умоляющими вереницами. Тогда он должен наклоняться, ловить их, все эти расплывшиеся и безжизненные образы, и поднимать их и давать им жизнь.
Жюльета входит, нагруженная покупками; она не забыла букета фиалок. Она бледней обыкновенного, ее глубокие глаза потухли и мертвы.
– Где ты была? – говорит ей небрежно Гастон, подкрашивая почти выцветший старый пейзаж, изображающий берега Марны.
– Ходила за покупками.
Гастон задумывается на несколько минут.
– Где же ты взяла деньги? Ведь у нас нет ни су.
– Я в кредит взяла в лавке.
– Ты говоришь неправду: в кредит нам не дают давно.
– Я не хотела говорить тебе об этом – я взяла два-три франка у тетки.
– Твоя тетка не даст нам и су.
Жюльета хмурит брови и наклоняет голову.
– Это нехорошо, то, что ты сделала, – и резкая конвульсия проходит по его лицу. – Послушай… Уходи, не приходи ко мне. И тебе будет лучше.
Лицо Жюльеты медленно сжимается от боли.
– Гастон, – говорит она тихо, – Гастон…
Он отвернулся от нее и думает, расхаживая медленными нервными шагами по ателье.
– Клао, влюбленная в солнце… Какой красивою должна быть эта странная гречанка! Она должна стоять на выступе скалы с неровными, изборожденными краями. Море подкатывается серебряными и лазурными узорами к подножью скалы и к розоватым ногам Клао. Руки ее беспомощно упали вниз: все силы ее духа уходят из нее, тело ее бессильно. Рот слегка удлинен – это жалоба тела. А глаза ушли вверх, поднялись и как будто исчезли в ласкающих ее ресницы солнечных лучах. Вверх, вверх, иди, Клао! Целуй твое солнце, возьми его во что бы то ни стало, – иначе твое желание сожжет тебя…
Жюльета понимает, что он забыл про все, и тихо говорит ему:
– Гастон, ты ничего не ел с утра… Я приготовила для тебя ужин.
– А? – говорит Гастон… – И ее волосы должны быть длинными, тяжелыми и золотисто-красноватыми. И воздух должен был горячим, прозрачным, золотистым и неподвижным, как неподвижен бывает воздух в жаркий полдень…
Жюльета поднимает голову.
– Гастон, иди поужинать, – говорит она уже решительно.
Гастон тихо проводит рукой по лбу. Он съедает кусок ветчины с корнишонами, выпивает пол-литра вина.
Стемнело в ателье. И он сдвигает занавески окон и зажигает свечи. Работа будет на всю ночь.
Жюльета убирает на столе. Ее тело тоскливо сжимается от одиночества, от холода в душе и от чувства бессильной, безответной любви.
Ателье кажется громадным, и темные, коварные чудовища таятся по его углам.
Делать ей нечего. Она подходит медленно к постели, распускает тяжелые волны своих пышных волос. Ей остается только лечь и долго-долго глядеть открытыми глазами перед собой… Потом заснуть тяжелым крепким сном, без грез.
Две из многих
– Шесть часов. Они придут поздно?
– Да, поздно. Мы будем ужинать вдвоем.
Винченца придвигает маленький стол к постели возле окна.
На постели лежит Марианна. Она освобождает руки из-под одеяла, рассматривая розовые ногти.
– Что у нас к ужину?
Винченца покрывает столик белой салфеткой и ставит два прибора.
– Бульон, мясо по-бургондски, спаржа с соусом, потом будем пить кофе.
– С коньяком?
– Да.
Марианна медленно подкалывает шпильками свои длинные волосы.
– Знаешь, Винченца, я теперь думаю: если бы мы могли жить долго-долго, вдвоем, в этом отеле, в этой уютной комнате с плетеной мебелью, и чтобы жизнь не приходила к нам и не стучалась в дверь.
Винченца улыбается:
– Когда же нужно было уходить отсюда, то наш хозяин подал бы нам длинный-длинный счет. А кто бы стал платить? Не я, понятно.
Марианна смеется:
– И не я тоже. – Она с комфортом вытягивает ноги на постели и начинает есть. – Все это пустяки, мечты… Я ко всему привыкла. Мне все равно. – В ее словах звучит какой-то грустный вызов. – Мне все равно. А все же, знаешь ли…
Винченца смотрит на нее.
– Ты из какого города?
– Я из Бретани, – говорит Марианна, задумавшись, – из Сен-Мало. У меня там отец, брат женатый. Рабочие оба. Работают, работают, как вьючные животные. И здоровы, красивы… Труд их красит, должно быть. Я переписываюсь с ними иногда. Они не знают ничего. Они убеждены, что и я тоже… работаю. – Она смеется принужденным коротким смехом. – Ты из какого города?
– Из Флоренции.
– А у тебя есть кто-нибудь?
Винченца хмурит брови.
– Никого нет.
Ее тонкие ноздри слегка расширяются, как будто под влиянием сдержанного гнева.
– Никого, – повторяет она.
Марианна с наслаждением обсасывает спаржу.
– Без отца и без матери?
Винченца пьет коньяк.
– А! – говорит она с упрямым жестом. – Все это ведь ушло и умерло, наше прошлое. И об этом нам нужно забыть.
Перед окнами проходит кучка пьяных матросов с двумя женщинами с набеленными лицами, в огненных париках и в фантастических костюмах из голубого яркого атласа.
– Бей их в морду! Чего там! – кричит один из матросов. Его пьяное и красное лицо не выражает ничего, кроме бесстыдства, опьянения и зверства. – Бей их в морду! Сотри с них муку́!
Матросы забавляются и дергают женщин за их парики.
Раздается удар. Лицо одной из женщин все в крови. Она шатается и падает с коротким стоном.
Винченца в страхе вскакивает с кресла и сдвигает занавески окна.
– Марианна… – шепчет она с ужасом.
И обе женщины, не кончивши своего ужина, глядят друг на друга остановившимся от страха взглядом, побледневшие, как полотно.
Их ожидает то же самое. За этим их и привезли сюда, в этот приморский веселый город южной Франции.
Марианна приходит в себя первая и вызывающе приподнимает голову.
– Это бывает, – говорит она. – Мне все равно. Со мной тоже бывало…
Она как будто что-то вспоминает и вызывает в своей памяти какую-то ужасную картину прошлого. Грудь ее начинает дышать глубоко, и, уронивши на подушку голову, она начинает вдруг плакать отчаянным и судорожным плачем, сжимая пальцами подушку.
– Животные… – бормочет она, всхлипывая и вытирая кулаками слезы.
– И низкие животные! Свой облик человеческий они забывают, когда приходят. Душу свою за порогом всегда оставляют. Как будто куклы перед ними деревянные, с фарфоровыми и раскрашенными лицами. Разбил – заплатил… Сердца как будто у нас нет. А за разбитое чем заплатишь? Есть оно у нас, сердце, – есть, есть… Вот! Вот! Я его чувствую под пальцами. Бьется оно… Есть! Есть!
Тело ее сжимается в конвульсиях страдания.
Потом она стихает и тупо смотрит перед собой распухшими и покрасневшими глазами. Лицо ее бледно. Распущенные волосы дрожат на колыхающейся взволнованной груди.
Она откидывает голову и проводит рукой, мокрой от слез, по лбу.
– Животные! – отрывисто и громко говорит она.
Винченца, бледная, не отрывает своего неподвижного, мрачного взгляда от тарелки со спаржей.
– Мне страшно… Мне страшно… – шепчет она. Она не плачет, но ее взгляд, ее лицо словно окаменели. – Мне страшно. Ты все это знаешь. А я не жила такой жизнью, я ничего не знаю. Мне страшно, я боюсь.
Марианна вытирает лицо платком и обсыпает его пудрой. Она как будто успокоилась, и только губы вздрагивают.
– Пустяки! – говорит она грубо. – Чего бояться! Иди, раз пошла. Или умирай… Умирай! Не умрешь: жить хочешь, шкура твоя тебе нужна – надрывайся тогда над работой или иди в «веселые» дома, к нам… Мы тебя встретим, моя милая, с шиком встретим… Всю душу вымотаем у тебя, мозг выбьем, сердце выколотим, грязью всю обольем, места живого не оставим на твоем теле… Живи, наслаждайся жизнью! Береги свою шкуру и набивай утробу сладкой пищей! А за это уж, милая, ломайся, как паяц на проволоке, будь веселой и смейся!.. Смейся! Смейся!
Винченца сжалась в своем кресле. Ей кажется, что это уже все случилось: что у нее нет мозга, нет сердца…
Марианна наливает коньяк в свой стаканчик и в стаканчик Винченцы. Глаза ее смотрят спокойно и грустно.
– Ну, будет! Не порть себе кровь, – говорит она ласково, и в ее голосе проскальзывают теплые и мягкие, как бархат, ноты живого человеческого чувства. – Не перестроишь мир… Пьяной почаще будь. А то одна у нас так сдуру все читала.
– И что же?
– Сошла с ума.
Они вздрагивают.
Стаканы опорожняются и наполняются. Лица женщин становятся красными и бессмысленными.
Из улиц, прилегающих к порту, к ним доносятся крики безумного, не знающего удержу, печального разгула.
Эдикт
– Эдикт… Эдикт! – В затуманившемся и уже начинающем подергиваться светло-серою дымкой вечернего сумрака воздухе, словно суровые удары молота, разносятся крики глашатаев.
– Эдикт! Эдикт!
И эти крики все сближаются и собираются около дворца цезаря.
Прохожие с тревогою и любопытством оглядываются, прислушиваются и останавливаются. Мало-помалу возле дворца теснится и волнуется толпа, окружая глашатаев. И все подходят, и все подходят. Еще! Еще!
Главный глашатай приготовляется читать. Его суровое и смуглое лицо спокойно.
Сверху толпа представляется пестрым собранием голов – черноволосых, золотистых, рыжеватых, – разноцветным пятном.
Вверху, между колонн, слегка приподнимается пурпуровая занавесь, и бледное неподвижное лицо Цезаря смотрит оттуда холодным взглядом черных глаз.
Толпа нетерпеливо ждет, и глашатай читает.
– Цезарь любит свой Рим. Он осыпает его милостями. И теперь раскрывает он для народа возле дворца свой сад. Дверь из белого мрамора будет раскрыта. При входе стройные ряды зеленых пиний, словно почтительные часовые, будут приветствовать входящих, как владык, повелителей сада. Вы там увидите высокую блестящую решетку и несколько дверей. Каждая дверь откроет вход в одну из аллей сада – из кипарисов, миртовых деревьев и ароматных роз. В конце каждой аллеи вошедшего ждет дар великого Цезаря. Какой дар? Это будет зависеть от выбора аллеи и от счастья… В одном месте находятся девушки – красивейшие девушки со всего света, невинные, но обученные всем чарам страсти. В другом месте набросаны груды жемчуга, золота, драгоценных камней. Наполняйте карманы! В третьем месте – декреты с назначением и дарственные записи, которыми вручаются богатые имения. В четвертом – львы и тигры, которые безжалостно и грозно растерзают. А в пятом – ликторы, с могучими руками, приготовляют свои прутья… Все зависит от выбора двери, все зависит от счастья… Идите! Идите! Дверь из белого мрамора будет раскрыта…
Цезарь смотрит. Лицо его бесстрастно. И только пальцы сильней и сильней сжимают край приподнятого пурпура. Его никто не видит.
Оборванные пролетарии, стоящие в непринужденных грубых позах, как стая фавнов, почесывают головы. Что им терять? Они пойдут… Может быть, деньги? Богатое имение? Может быть, тигр? Что им терять?
Богатые и знатные сердито возмущаются и потрясают кулаками. Насмешка Цезаря! Быть высеченными, как неразумные мальчишки…
Насмешка Цезаря!
Они с презрением идут своей дорогой. Но их шаги так медленны, так осторожны… Они колеблются. А может быть, не прутья? Не смерть? Может быть, ждет почетная, обильная доходами и наслаждениями должность? Имения? Громадные богатые имения…
Среди же молодых людей, промотавших свои состояния, погруженных в болото долговых обязательств, колебания нет.
– Цезарь, наверное, знает толк в женщинах, – смеются они весело. – Он не даст нам каких-нибудь дур! Он даст нам царственных красавиц… Обученных! – И они разражаются смехом.
– Друзья мои! – кричит какой-то юноша с изящным женственным лицом. – Идем на смерть!..
Он произносит резкую циническую фразу. В ответ ему звучат рукоплескания.
– И заплатим долги! – продолжает все тот же развеселившийся оратор.
– Положим знатные заплатки на нашу развалившуюся глупую фортуну. Идем играть в кости!
Вдали слышно, как дверь, массивная и величавая дверь из белого мрамора, растворяется с визгом.
В ответ каким-то стоном вырывается из сада рычанье льва.
Цезарь смотрит вниз.
Идут? И эти… И эти тоже… И эти… эти…
Вот эти не пойдут! Знаменитый поэт, про которого все говорят, что по ночам он улетает разделять пиршества и наслаждения богов на царственный Олимп… Этот философ, презирающий и землю, и богов… Идут тоже.
Цезарь резким движением отдергивает руку: с легким жалобным шорохом падает пурпур.
В безлунную ночь
Это было в окрестностях Гавра.
Я заблудился. Ночь была темная, безлунная. И мне казалось, что она сдвинулась вокруг меня магическим кольцом и притаилась. Она была таинственной, холодной, – эта ночь.
Я шел вдоль берега. Скользили под ногами камешки с сухим, коротким стуком.
Море было так близко. Оно глухо дышало своим грозным холодным дыханьем, как будто приближаясь, как будто отдаляясь в темноте, и вспенивалось белой пеной. Эта пена мелькала вокруг, как поднимающиеся из моря привидения – бессильные, готовые исчезнуть.
Я шел, растерянный, испуганный, не знающий, чему мне доверять, куда идти.
И иногда казалось мне, что темные ресницы ночи приподнимаются и взгляд ее на меня смотрит – немой, загадочный и не желающий мне ни добра, ни зла.
Под этим взглядом ночи я шел. Я шел, растерянный, испуганный, согнувшийся…
Холодный ветерок скользил по моему лицу, и целовал его, и шевелил концы моих волос с печальной лаской.
Я был так одинок. И я хотел огня, и света, и людей…
И я увидел, что вблизи меня горит какой-то огонек, которого я раньше не видал. Огонек был печальным и тусклым желтоватым пятном. Как будто свет от сальной свечки, скользящий через узкое окно.
Да… это не обман был, и я наткнулся на ограду, полуразрушенную временем или же морем. Наткнулся на ограду из необтесанных камней.
Мои руки ударились с силой о влажное дерево низкой калитки. Где-то глухо завыла собака.
– Отворите! Спасите!
Я начал кричать, надрываясь, хрипя, приглядываясь к окружающему мраку. Собака стала выть еще тоскливее.
– Спасите!..
Что-то стукнуло возле меня, и через щель раскрывшейся калитки мелькнул передо мной веселый огонек решетчатого фонаря. При свете фонаря я разглядел лицо старухи в белом чепчике, с большими черными глазами. Ее рука, державшая фонарь, слегка тряслась. Я разглядел морщины ее шеи около сдавленного подбородка. Во рту ее был виден один лишь зуб – такой желтый, как тусклый янтарь.
– Спасите… позвольте к вам войти, согреться до утра.
– Войдите…
Старуха растворила свою калитку, впустила меня в темный двор, задвинула засов и закричала на собаку:
– Гектор… Молчи! Молчи!
Гектор лаял, стихая, с каким-то жалобным, унылым визгом.
Я был обрадован: передо мной – жилье, я буду спать под кровлей. Немая, неразгаданная ночь осталась позади сторожить теперь бушующее, темное, с белеющей пеной, море.
Старуха молча растворила дверь и стала тихо подниматься по узкой лестнице, стараясь освещать мне фонарем своим дорогу. Ступеньки были старыми, истертыми ногами, из бурой черепицы. Старуха шла и колыхала своей юбкой из черной саржи, заштопанной, поношенной…
В галерее со сводами стекла узких окон были разбиты кое-где, и щели их заткнуты тряпками. Над головой спускалась паутина, седая и мохнатая, как ветхие лохмотья. Запах сырости, гнили…
Мы вошли в коридор.
Одна дверь была крепко закрыта и заперта тремя замками. Эти замки висели неподвижно, как стиснутые, угрожающие кулаки.
– Я затоплю камин, – сказала мне старуха. – Я приготовлю вам яичницу с поджаренною ветчиной и дам вина.
Она отрывисто откашлялась.
– Здесь жил нотариус в отставке, и от него осталось несколько бутылок хорошего вина. Ведь я не пью вина и не хожу в церковь.
– Почему?
Она устало передернула плечами.
– Я не хочу. Я ни во что не верю. Я сторожу здесь этот дом… – она пугливо оглянулась, – и его прошлое.
Я вздрогнул. И мне почудилось, что влажное, тяжелое крыло летучей мыши коснулось моего лица.
– Сюда никто не ходит, – сказала мне старуха. – Но если вы уже пришли – войдите.
Она раскрыла одну дверь.
– Это – столовая моего барина. Теперь его нет в доме. Ушел, исчез… мне кажется, он вылетел отсюда черным вороном с распластанными крыльями и с хриплым стоном. Мне кажется, что я когда-то слышала и теперь помню этот стон.
Она опять устало передернула плечами, и мы вошли в столовую.
Это была большая комната с коричневыми голыми стенами. Потертый пол из бурой черепицы был возле очага обложен кирпичом. Над очагом висело чье-то белое лицо из гипса с брезгливым выражением тонких губ. Среди столовой стояли стол и кожаные кресла, а на столе – подсвечники из темной бронзы.
– Это подсвечники моего барина. Он зажигал всегда по вечерам несколько свеч и долго-долго сидел в старинном кресле возле очага. Мне так хотелось знать, о чем он думает. Он сидел в своем кресле, задумавшись, нахохлившись, словно недобрая ночная птица. Но он всегда молчал. И я молчала. Мы жили молча. По вечерам, когда шумело море, он часто вздрагивал и говорил: «Как бы не забрались к нам воры … как бы они не обокрали нас»… Я думала, что он богат.
Я снял свой плащ и сел возле стола. Старуха зажигала свечи.
– Мне кажется теперь, что барин тут, – сказала она тихо. – Но вы так молоды, вы так красивы; мне кажется, что я угадываю все, о чем вы думаете. Нет у вас тайн. Все ваши мысли чисты и спокойны.
Печальный зуб торчал из ее рта, подобный тусклому кусочку янтаря.
– Вы молоды. Я не видала молодых давно. А я сама, мне кажется, всегда была старухой. Не помню времени, когда моя иссохшая, морщинистая грудь была красивою и молодой и когда жили в моем сердце все чувства юности. А теперь мое сердце – стариковское, темное сердце.
Старуха скрылась. Она явилась скоро снова со связками сухого можжевельника и начала, согнувшись, зажигать его.
В очаге загорелся огонь, полетели блестящие искры, по потолку забегали дрожащие уродливые тени. В столовой стало весело, тепло.
Старуха снова скрылась. Потом она пришла и принесла с собою сковородку и разные припасы. Она поставила передо мной бутылку темного вина и маленький стакан.
– Мой барин пил из этого стакана. Я приготовлю вам яичницу. Потом я постелю для вас постель. Сама я буду рядом, в маленьком чулане. Направо – спальня барина, которую я заперла тремя замками. Никто не ходит в этом дом. Я тут живу одна. Но если вы пришли, то будьте гостем. Вы молоды, и мысли ваши чисты.
Я все молчал, молчал… мои губы как будто склеились и не хотели говорить.
Яичница шипела около меня, и я стал с жадностью съедать большие жирные куски, с трудом нанизывая ломтики темно-коричневого, твердого как камень хлеба. Вино было холодное, густое.
Старуха посмотрела на меня и тихо вышла.
Море глухо шумело под окнами, и мне невольно стало чудиться, что лезут воры.
Я был так утомлен, но, когда я улегся на широком диване, кисти которого спадали вниз, касаясь пола, и закрылся плащом, – сон ушел от меня.
«Предательский сон! – подумал я. – Зачем ты убежал от моих глаз, покинув меня тут, беспомощного, одинокого, в этом ужасном доме, ночью…»
Очаг потух. Свечи горели желтоватыми, дрожащими, испуганными огоньками.
Меня не радовала кровля, меня не радовало тихое жилье, меня не радовала теплота. Какая-то тоска сдавила мою грудь. В моей груди тревожно билось сердце. Было тихо вокруг.
Какой-то шорох за стеной справа…
Как будто шорох туфель… «Должно быть, это старые фланелевые туфли с узорами из бисера…» – подумал я.
Шорох усиливался, приближался…
Ко мне неслышно, незаметно подкрадывался ужас, танцуя и кривляясь на своих тоненьких уродливых ногах. Лицо мое стало бледнеть, глаза мои остановились. И мне казалось, что у меня были живыми только уши. Все чувства умерли, и только уши слышали.
Тихий шорох все рос за стеной. Казалось, кто-то подошел к стене и медленно начал отодвигать и вдвигать ящики комода. Тук! Тук! Шш…
Безжалостно, однообразно стучали ящики комода, вдвигаясь, выдвигаясь. Тук! Тук! Тук!
Я холодел. Сознание уходило от меня, отодвигаясь вместе с жизнью, и со стенами, и с огоньками догорающих, оплывших свечек, – в бездну…
Старуха… Она стояла на пороге, в одной рубашке, с желтыми костлявыми плечами. Она тряслась.
Мне стало легче. Я сел на диван.
– Он… он… – шептала мне старуха. – Мой барин… каждую ночь! Каждую ночь! Мой грех велик, но я страдаю больше, чем того стоит этот грех.
Ее зуб задрожал между синих трясущихся губ. А глаза ее были как черные ямы.
– Он требует, он хочет, чтоб я пошла в полицию…
– В полицию?
– В полицию… ведь я его убила. Я думала, у него денег много. Я хотела быть тоже богатой…
Она приблизилась ко мне, желтея в полумраке своими страшными плечами. Ее рубашка колыхалась, обтягивая ее длинное, худое тело.
«У нее тела нет, – подумал я, – у нее одни кости».
Дыхание захватило у меня. Я стиснул кулаки, готовясь растерзать, если она ко мне приблизится. Она все приближалась. Я готов был от страха убить ее тут же.
А за стеною монотонно и настойчиво стучали ящики комода. Тук! Тук!
– Слышишь? Убила его вечером. Он сидел тут. Я бросилась к нему, скрутила крепкою веревкой его руки. У него маленькие были руки, как у ребенка. И слабые, как у ребенка. Он стал кричать, раскрыв широко рот. А я душила его проволокой. И я втыкала ему гвозди всюду – в виски и в грудь… Тупые, ржавые, погнувшиеся гвозди… когда он умер, то я стащила его в спальню за ноги и заперла. Он гнил… по дому разносился тяжелый запах. А денег не было.
Она приблизилась ко мне, и черные глаза ее глядели на меня.
– Ты из полиции?
Ее худые руки внезапно вытянулись и схватили мое горло.
– Ты из полиции? Я… Я сама туда пойду. А может быть, и не пойду. Мой грех… и я сама им мучаюсь. И никто больше, только я… Ты из полиции?
– Нет! Нет!
Я с отвращением схватил ее худые плечи и отбросил ее в сторону. И без плаща, без фонаря я побежал по коридору, по лестнице, перескочил через ограду.
Меня опять схватила и обняла своим объятием безлунная, немая ночь. И я был рад ей. Я крепко прижимал ее к моей груди и я кричал… кричал, себя не помня, громко:
– От людей, от людей, уходи от людей…
Море, бушуя, посылало мне ряды своих бессильных, исчезающих, холодных привидений.
И я бежал, бежал…
Два гнома
Мои руки лениво лежали на веслах, и лодка медленно, задумчиво плыла среди сверкающей воды…
Была такая ночь, когда все мертвые похороненные выходят снова в жизнь и населяют землю, ревниво пряча под одеждами скелеты.
В такую ночь я плыл по Рейну, лениво положивши руки на сложенные весла и отдаваясь всей душой ритмическому плеску волн, сиянию луны и собственным мечтам.
Мои мечты были невеселы, печальны, как бледный луч луны, когда он медленно скользит и умирает на черепичной блестящей крыше…
Перед прогулкой приходил ко мне портной и требовал уплаты долга.
И мне мерещились, словно в серебряном тумане, ряды таких же визитеров, таких же скучных и ненужных.
В кармане моего жилета с злорадством прыгала моя истрепанная записная книжка и тихо мне подсказывала цифры: портному – 250, сапожнику – 17, кондитеру – 79…
– Не стоит жить… – меланхолически шептали мои губы, а взгляд мой потонул, как расшалившаяся чайка, в глубокой синеве небес.
– Не стоит жить…
Ночь была дивная. Серебряные тени мягко дрожали над землей и над водой…
Луна подмигивала мне, как будто говоря: «Какой ты маленький, какой ты глупенький… плывешь, как дурачок, на своей тоненькой скорлупке. А я вот захочу и покажу тебе такие ужасы, такие страшные и бледные от страха, внушаемого ими, привидения, что ты с ума сойдешь».
И я подмигивал ей тоже: «Врешь, не надуешь! Разве не знаешь, что ты имеешь дело с глубоким скептиком двадцатого столетия?»
Но в то же время я прекрасно чувствовал, что маленький злодейский страх коварно прицепился ко мне за пуговицу моего жилета своими цепкими крючками. Я постарался отвернуть взгляд свой от луны и посмотрел на берег.
На берегу стояла женщина, высокая и стройная, в глубоком трауре, с пером на шляпе.
Это красивое перо капризно и настойчиво выглядывало из-под траурного крепа.
Я заработал веслами, и на поверхности воды забегали волнистые полоски серебра. Я был тогда так молод… Мои волосы цвета пшеницы завивались крутыми и твердыми кольцами над лбом без морщин.
И я понял тогда – почему я поехал кататься по Рейну… Мое сердце, тревожное сердце, раскачиваясь, как бумажная марионетка, хотело – требовало для себя любви, чарующей и опьяняющей любви, которая звенит всеми мелодиями рая – при блеске звезд…
А женщина стояла, важная, задумчивая и высокая, маня меня изящной гибкостью своего стана.
Когда я к ней приблизился короткими и осторожными шажками, держа в руке свою широкополую студенческую шляпу, она спокойно подняла свою вуаль – и я отпрянул в ужасе.
Это был желтый, тщательно наряженный скелет… но перед дамами я никогда не кажусь трусом. Я равнодушно надел шляпу и равнодушно у нее спросил:
– Голубушка, давно ты умерла?
Она со скрипом засмеялась, как будто у нее вдруг лопнула какая-то струна в груди.
– Давно…
Она кокетливо склонила ко мне голову.
– Не хочешь ли со мной покататься?
Я всегда рыцарь с дамами.
– Пожалуйста…
Я был разочарован, и вся поэзия ночи поблекла, потускнела и ушла. Луна казалась мне вареною горошиной, довольно крупной…
Из-под серебряной волны реки на меня глупо посмотрела рыба и снова спряталась, вильнув хвостом.
Моя спутница села, жеманно расправив свой трен на корме. А я сел на носу.
«Поэзии нет ни в сердце, ни в природе… поэзия – ложь!» – подумал я.
У моей спутницы опять как будто лопнула струна в груди.
– Послушай! – сказала она мне. – Хоть мы не созданы, чтобы любить друг друга… но все же мы можем быть друзьями.
Я посмотрел на нее тусклым взглядом, каким на меня недавно рыба; так смотрят на свою почтенную и уважаемую бабушку.
– Откуда ты?
– Я из Силезии.
– Ты была замужем?
– В дни моей юности я встретила одного стройного и молодого итальянца, с красивым прямым носом, который шел с шарманкой по улице. Я посмотрела на него, и я в него влюбилась. Когда ко мне являлись свахи, то я кричала:
– Не хочу… я хочу замуж только за этого синьора с прямым носом… – но оказалось, что у этого синьора была жена и шестеро детей. Так и не вышла замуж.
Луна расширилась; она как будто выросла в далеком темном небе, напоминая спелую большую репу.
– Я расскажу теперь тебе, – сказала моя спутница, – о двух подземных гномах. Моя могила, в которой я теперь живу, находится в Силезии, на горном кладбище. От природы я очень болтлива… и вот, когда я выспросила все секреты у всех моих соседей и соседок, мне стало очень скучно под землей. Скучать пришлось недолго: когда сгнил мой сосновый гроб, то под ним оказалась трещина, ведущая в подземное жилище гномов. Живут там два забавных гнома. Один большой-большой… Его я никогда не видела. Когда он повернется там – дрожит земля. А голос у него глухой и грубый. Другой же гном величиной с воробья. Я его часто вижу: он поминутно бегает сквозь трещину. Он такой маленький, трясущийся всегда от страха… у него черный колпачок, величиной с орех, и круглая седая, всегда причесанная борода, как хоботок шмеля. Его обязанность состоит в том, что он, двоясь, троясь и разделяясь на бесконечное количество таких же гномов, присутствует при родах женщин. И когда женщина родит, то гном заботливо осматривает новорожденного ребенка. Если ему покажется, что этот маленький ребенок не будет выделяться ничем особенным среди других людей, – он оставляет его жить. А если же ребенок должен быть чем-нибудь большим, тогда малютка-гном втыкает ему булавочку в висок. Ребенок умирает, а маленький, согнувшийся, трясущийся от страха гном бежит, бежит… когда же случается ошибка, когда рождается и вырастает великий человек, тогда большой сердитый гном жестоко бьет малютку-гнома. Он встряхивает его так, как если бы тот был мешочком, наполненным игральными костями… Я вздрагиваю тогда вся от сострадания и забываю отгонять червей, которые меня грызут.
Я хотел что-то у нее спросить, но моя спутница уже исчезла.
Я посмотрел вокруг себя.
Светало. И бледным золотом мягко согрелся край тревожно дремлющего по утрам востока.
Я понял, что все мертвецы должны были теперь опять исчезнуть, чтобы догнивать под сводами земли.
Я снова вспомнил о портном и заплетающейся, пьяной походкой пошел по берегу проснувшегося Рейна, который сделался спокойным, мутным, скучным – как сама жизнь.
И мне казалось, что я вижу глухую неустанную работу гнома – жизнь обесцветить и ослабить все сильное…
На золотом песке
Золотой неподвижный песок… Безграничная даль…
С далекого и побледневшего от света неба солнце льет жгучий дождь своих светлых лучей.
Лучи впиваются в песок, словно острые длинные и прозрачные когти, – все глубже и глубже. Они пытаются сжечь неподвижную, разгоряченную земную грудь и уничтожить землю.
– Сжигай! Сжигай! – беззвучно шепчут светлые лучи, и золотистые поблекшие песчинки со стоном корчатся, дрожат и вздыхают, предчувствуя гибель.
– Сжигай! Сжигай! – шепчут лучи, и когти их впиваются все глубже. – Все живое погибло. Растения умерли вместе с душистыми цветами, которые мы целовали с такой негой и страстью в июльские полдни. Животных нет. И нет людей, которым мы вдыхали в сердца своим царственным светом великие грезы, потрясавшие мир своей силой. Умирай же, земля, жалкий труп, переживший великую жизнь.
Земля не плачет: она померкла и затихла в предсмертном сне.
Под утесом, на ярком горячем песке беспомощно и утомленно шевелится какое-то живое, темное пятно. Разметались иссохшие руки, грудь поднимается с трудом, дыхание вылетает с резким свистом изо рта, пересохшего, полумертвого, синеющего на лице. И воспаленные глаза с недоумением смотрят своим почти безумным взглядом из-под темных, упавших ресниц.
Человек вспоминает: «А! Все ведь умерло – растения, животные и люди. И только я живу на этом золотом песке, который жжет мои бока, сжигает мою кожу, сухую и потрескавшуюся и натянувшуюся на костях. Облаков нет на небе, горит солнце безжалостным светом, сжигающим меня и проникающим мне внутрь. И я – один».
С усилием он поднимает грудь. С его иссохших губ срывается, как жалкий стон: «Один!»
Он опускает голову на расколовшийся неровными кусками камень, закрывает глаза. Он погружается в мир грез, и оживляющий и освежающий, – раскинувши иссохшие, беспомощные руки.
И ему кажется, что воздух стал свежей, что расцвели цветы, заливая весь мир опьяняющей лаской своих ароматов, и потянулись вереницами животные и люди, зазвучали слова, выделяясь, сливаясь со звоном гордой отваги. Замелькали кругом силуэты воздушных дворцов…
«Жизнь прошла, жизнь вернулась…» Человек улыбается сладкой улыбкой, и ему дела нет до раскаленного песка и до сжигающих его лучей. «Вернулась жизнь».
– Нет, безумный! – скользят и играют лучи над покровом тяжелых песков. – Ведь это лишь мечты твои, – жизнь умерла. Зачем ты мучаешься этой мукой? Вот мы убьем тебя, страдания тогда кончатся.
– О, нет, нет! – говорит человек. – Не убивайте! Глядите! Глядите! Пусть умерла вся жизнь, но пока жив мой мозг – он населяет землю снова борьбою, страданьем и счастьем… Жизнь возвратилась, говорю я вам. И вы не слышите ее дыхания? Шума ее борьбы? Стонов тех, кто в борьбе побежден, гремящих громом криков победителей?.. Глядите, каким потоком льется кровь; должно быть, жилы лопнули в борьбе, и льется кровь, как из разбитого сосуда.
«Пусть умерла жизнь… Мозг мой может ее воскресить и населить весь мир страданием. В действительности жизнь и жизнь в мечтах – она ведь одинаково жестока. Она рвется всегда и повсюду к победе, шагая спокойно через страшные бездны людского страданья… К победе!
И пусть жизнь умерла, – ведь мой мозг воскресил ее снова и населил мир растениями, дворцами и вереницами животных и людей. Он украсил ее еще тем, что живет только в грезах, – поэзией. Оставьте же меня мечтать и любить жизнь. Не убивайте же меня. И один в целом мире я создам себе жизнь, пока не высохнет и не умрет мой мозг и сердце навсегда не перестанет биться».
Без дороги
Однообразным, ровным светом горела лампа. На коврике, возле порога, свернувшись и настороживши уши, лежала маленькая черная собака.
В окно глядела ночь, морозная и снежная, и слабо выделялась темная неровная ограда палисадника.
Небольшой человек, с подозрительным и жестким взглядом и с бледными губами лежал на узкой, белевшей в углу постели, положив обе руки под голову. Ему казалось, что жужжит какой-то маленький жучок, печальный, затерявшийся, возле его лица.
Жужжит, жужжит… Словно он хочет улететь, не может и опять падает…
И человек, с досадливой гримасой на лице, отвернул голову.
Стена… простая, белая, с кривыми, желтыми узорами.
За всеми четырьмя стенами его комнаты таилась жизнь. И, может быть, кипела жизнь. Какая только? Он никогда не понимал той жизни, которою живут все люди за стенами его комнаты.
Может быть, весело им. Может быть, каждым фибром они живут и прославляют жизнь…
Взгляд его потускнел, углубился. Лоб сморщился. Может быть, он один без дороги…
Как ядом, была отравлена вся жизнь его неверием.
Люди работают, люди живут, люди стучатся во все двери жизни с надеждою, что эти двери отопрутся им. А он глядит, глядит… И эта жизнь, эта борьба, казалось ему, выставляли цинично и со смехом свою позорную подкладку эгоистичных интересов. И в звуках каждого раздавшегося слова – как бы оно ни согревало, как бы оно красиво ни было, – он различал звеневшую и торжествующую ложь.
Она противна, ложь… И она ползала всегда по его сердцу, как длинный извивающийся червь.
Он сбрасывал ее, отвертывался вновь от жизни, рассматривая пристально и с болью простую белую стену с кривыми желтыми узорами.
Жучок жужжит, жужжит под подбородком… И выплывали в его памяти картины прошлого. И каждая картина осквернена была все той же ложью.
С брезгливостью отвертывался он от прошлого. А в настоящем – белая угрюмая стена перед глазами. И в будущем – тоже.
За окном снег белел. И с вкрадчивой поэзией луна плыла среди холодных, темных облаков, и ее свет блестел, как свет зажженного вверху большого электрического фонаря.
А когда снег уйдет – зазеленеют бледные деревья за темною неровною оградой палисадника. Потом они начнут желтеть, и облетят поблекшие лохмотья – листья. Потом вновь снег…
Но в его темной хмурой комнате ни разу, никогда не заблестят горячие и чистые лучи солнца-любви.
Такого солнца нет!
Темно было в душе!.. С мучительною болью восстановлял он жизнь, какой она была, какою она есть… И отвращение, словно червяк у корешков молоденького деревца, подтачивало всякую надежду.
С умывальника капля за каплею падала на пол мыльная вода… Тук… тук, тук, тук!
– Мои дни, мои ночи стучат… – И ему трудно было свою отяжелевшую измученную голову поднять с подушек. И перед ним с своею злой улыбкой стояла бледная подруга – ночь без сна.
Ночь без сна… Она злобно смеялась. Как будто ей хотелось схватить его, увлечь его на середину комнаты, заставить танцевать до обморока… Лицо его наморщилось, и он убавил свет горящей лампы.
Стало темней… Собака завозилась и навострила уши.
И за окном послышались чьи-то почти бесшумные шаги.
Человек поднял голову. Может быть, друг идет, неведомый могучий друг…
И позовет его, покажет ему светлую дорогу в жизни, которой можно идти прямо, не замечая и не зная, не понимая лжи…
И ему чудятся слова: «Сюда! Сюда! Прислушайся к моему голосу – в нем нет обмана».
С мяуканьем скользнула под окном большая кошка и осторожно спрыгнула с сугроба на тропинку.
Нет друга. Не может быть такого друга, как нет дороги в жизни безо лжи.
Часы скользили с томительною вялостью, и медленно, и тихо подводили к нему единственного друга – смерть.
– Друг ли ты? Друг ли ты? – задыхаясь, кричал человек.
Ночь белая, морозная и снежная…
Одиночество
Было так жутко, жутко…
Я оглядывал комнату, причем старался придать взгляду выражение равнодушия: ничего не боюсь!
И опять, и опять чувство страха, такое жалкое и сморщенное, гадкое ползло мне в душу. Как будто маленькая и согнувшаяся старушонка подходила ко мне близко-близко и, наклонясь ко мне старым и морщинистым лицом, смотрела на меня своими бледными слезящимися глазками. От тихого прикосновения руки ее мурашки бегали по телу.
– Ну, отойди ты, старая… – шептал я с хитрым и притворным гневом, стараясь побороть в себе этот противный страх.
И чего я боялся? Двери? Печки? Окна? А, может быть, боялся я одежд моих, которые были развешаны на гвоздиках, темнея пыльными, неряшливыми пятнами на желтом фоне истрепавшихся обоев.
Нет, не этого… Нет! Я боялся чего-то другого, что проникло ко мне и сторожило мою душу, и пожирало все, что было в ней хорошего.
За окнами тихо шуршала листва моих любимых тополей – друзей моих: «Благополучно все! Опасности нет никакой! Не бойся!»
Опасность была близко. Она грозила мне костлявыми и длинными руками, которые, подкрадываясь, собирались меня душить.
И я встал, чтобы одеться.
– Все это потому, что я один. Я пойду к людям, к людям…
Я расскажу им про все то, что меня мучает, тревожит, что кажется мне грозным и неотвратимым в одиночестве. Когда же буду не один, когда нас будет много, то все это уйдет, исчезнет при звуках нашего веселого и радостного смеха, при звуках наших слов.
И я был так обрадован, я схватил мою шляпу, взял спички. Дверь запрет пусть хозяйка – глухая женщина, которая ведь все равно не может слышать, если бы я стал ей говорить.
На крыльце я споткнулся: дурная примета!
Небо было настроено плохо, не хотело смотреть на людей: занавесилось тучами.
А когда светлое ликующее небо не хочет смотреть вниз, на землю, – дурная примета!
– Ишь ведь, нервное небо! – бормотал я с досадой. – Люди – ленивые. Не зажигают фонарей. И разбивай себе тут лоб!
На углу улицы, печально прислонившись к дому, стоял карманник – одинокий и задумчивый. Я был так добр и дал ему монету.
«Ведь я и сам карманник, – подумал я с усмешкой, от которой мое сердце забилось с болью. – Я иду воровать у людей только мелкие-мелкие чувства: не дадут они крупных».
И тут же выпрямился: «Нет! Должны дать лучшее, что у них есть, – ведь я несу им лучшее, что у меня есть».
Целый вечер провел я с людьми: они были умны, остроумны, изящны, добры.
«Ведь это – цветы всего того, что я могу найти на земном шаре», – подумал я. И тут же, среди блеска зажженных ламп, среди веселых лиц и среди звона слов участья, мной овладел опять безумный прежний страх, но этот страх стал мне понятен.
Я понял, что душа всегда, везде останется далекою и чуждой всем другим душам человеческим, так как удел души – не понимать другую душу и оставаться одинокой.
На своем месте
Я сидел в своем кресле и курил длинную трубку. Служанка принесла мне кофе, неторопливым жестом – спешить ведь было ни к чему – поправила на столе скатерть и ушла.
Я ни о чем не думал. И мне казалось, что мой мыслительный аппарат действует прекрасно. Не думать – ведь это лучшее, что может делать мозг.
– И есть же ведь такие беспокойные неопытные люди, – сказал я сам себе, – которые ворочают своими возбужденными, расстроенными, глупыми мозгами и причиняют неприятности другим, себе… Самое главное – это спокойно выяснить себе, как нужно жить, и осторожно сесть на облюбованное место и – сидеть. В этом – истинное назначение человека.
Сказавши это, я почувствовал усталость, неудовольствие на самого себя, дал обещание себе не говорить. И я застыл.
И тихое, глухое к шуму жизни усыпление обвеяло своими крыльями мое лицо.
И тогда он вошел ко мне. На нем было пенсне и маленькая шляпа. И у него были изогнутые, тонкие усы. Быстрым движением он поставил палку в угол и, подойдя, ко мне, спросил:
– Так вы жить не хотите?
Я удивился.
– Но… я живу. Я трачу столько-то, сижу на своем месте и даже, знаете…
– Я понимаю: маленькие уклонения в сторону, вполне законные…
– Ну, да! Чего же вы еще хотите?
– Жить нужно, действовать, бороться за себя, и за других, и за то высшее, что служит путеводною звездой и идеалом жизни.
– Самое высшее – сидеть на своем месте, – сказал я важно.
Но под его изогнутыми тонкими усами я не заметил даже тени почтения к моим словам.
Он рассмеялся со злобой.
– Так думают и поступают только трусливые и изленившиеся люди.
Я промолчал.
Он наклонился ко мне близко.
– Послушайте! Ведь были же вы молоды, и говорили в вас другие чувства, которые светились, переливались своим светом в вашем сердце, как маленькие солнца…
Да, это было у меня, – я вспомнил, и я почувствовал такие неприятные терзающие колики в боку.
– Но это было глупостью, – сказал я резко, – шарлатанством.
– Нет! Нет! Ведь это было голосом самой природы, которая всечасно живет, и развивается, и борется. Природа лишена того великого и всеобъемлющего разума, который свойствен человеку. И человек должен иметь перед собой такие идеалы, которых нет в природе, громадные и светлые, как звезды, и должен к ним идти, хотя бы они были такими же далекими, как звезды.
Он наклонился еще ближе и сказал насмешливо, меняя тон:
– Да, кстати: вам могут быть большие неприятности от вашей неподвижной сидячей жизни. Спросите у врача.
Когда он вышел, я его выругал. Сказал: дурак!
Потом подумал о последствиях моей сидячей жизни. Потом подумал о потухших и отошедших далеко куда-то прекрасных идеалах юности.
– Гм! Это хорошо… Да, это хорошо… Да, это хорошо…
Давно уже позабытое волнение охватывало мою душу. И что-то стало щекотать меня, как маленьким гусиным перышком, в носу…
Я стал искать свой носовой платок.
– Да, это решено, – сказал я громко. – Цивилизация! Прогресс! Культура! Я – ваш. Я буду вам служить. Иду!
И я стал шарить под столом ногами, разыскивая туфли.
Но встать не мог: я прирос к креслу.
Ночью
Луна блестит и расширяется. Она как будто хочет раскрыться широко и поглотить всю землю. Ведь, может быть, земля ей надоела: бесчисленные вереницы лет луна смотрит на землю и видит там одно и то же.
И, может быть, она не расширяется: она зевает.
Скучно, скучно на свете! И видит эта бледная голубоватая луна влюбленные, мечтательные пары, которые клянутся в верности только затем, чтобы изменить. И видит она грешных, измученных грехом своим людей, которые клянутся – когда богами, когда разумом – исправиться и все же не делаются лучше. Видит она борьбу художников с природой, старанья их понять ее и объяснить ее, а все же они не могут искренно сказать, что им известно хотя бы что-нибудь в природе. Наука временами говорит: буду все знать. А временами сомневается, бледнеет перед этими неосторожными словами и говорит, потупив голову, стараясь не терять перед непосвященными величественного своего вида: «Для знанья предел есть».
Толпы нищих, голодных, больных, безработных… В давнишние, давно исчезнувшие времена они мечтали найти пищу и человеческую жизнь – за гробом. Теперь они мечтают о супе и о человеческих условиях для жизни – на земле. Луна смеется бледным смехом, и она чувствует, что солнце, невидимое для нее, смеется тоже. Это смех двух лукаво прищуривших взгляд свой, прекрасно знающих цену всему и издевающихся над всем авгуров. И долетают тоже часто к темнеющему ночному небу слова, надменно говорящие о царственной свободе. Свобода… только нет свободных. Спит земля, колыхая своей величественной грудью, которая уже так стара, стара, – и молода, словно в шестнадцать лет.
– Пусть ложь, пусть ложь, – бормочет сонная земля, потягиваясь в дремлющем эфире.
– Может быть, все, все – ложь, весь мир – обман! Мне помнится, об этом говорили что-то индусские теологи… А все же я живу, произвожу, творю, – и все же буду жить, производить, творить… И населяющие тело мое люди тоже живут, страдают, наслаждаются, надеются и борются за лучшее. Это я им даю все могучие силы, чтобы бороться и верить. В вере – жизнь.
В мансарде
– Можно войти к тебе, Люси?
Мать отрывает на мгновение от колыбели мертвого ребенка свой затуманившийся тусклый взгляд.
– Нет. Я прощаюсь с моей девочкой.
– Но мы могли бы помочь тебе одеть ее.
– Благодарю вас. Я сама ее одену. Для меня это будет большим удовольствием. Кроме того, наряд моей малютки так несложен и прост. Ведь ее мать такая бедная, она не может подарить ей на прощание ни одного цветка, ни одной белой шелковой ленты…
– Не возмущайся так против судьбы, не убивай… Ну, вот и мы бедны, – не могут же все люди быть богатыми.
– Да, да, я знаю! – И в голосе Люси звучат сухие, острые, как иглы, ноты злобы.
– Я знаю, что у богатых дети бывают часто изуродованы золотухой, так как им слишком много дают сладкого. А у меня не было мяса для моей девочки, чтобы подкреплять ее, когда она была больная. Теперь же уходите, мои милые, я хочу быть одна, совершенно одна с моей девочкой.
Люси прислушиваеется к тяжелому, спускающемуся по лестнице стуку грубых сабо и снова наклоняется к ребенку.
– Ты думала, Жантон, что ты одна уйдешь из этой комнаты, а твоя мать останется тут мучиться? Как бы не так! Мы уйдем вместе, милая Жантон. Ты знаешь: у меня есть немного денег, чтобы купить тебе гроб. Для моего же гроба денег нет. Пусть тот, кто хочет купить его мне, – покупает! А теперь поцелуй, крепко, крепко… Вот так, Жантон.
Она отвертывается от колыбельки и с тупым равнодушием смотрит на дверь.
– Я не уйду отсюда – меня отсюда унесут.
Куда идти? Вернуться снова к своему жалкому, еле оплачиваемому ремеслу поденщицы? Переносить опять нужду и голод, пренебрежение? Унижаться? Я все это переносила, когда была жива Жантон. За свой собственный счет – не хочу. Как у меня убого тут, темно. А сколько золота, сверкающего золота льет жизнерадостное солнце с неба… Все для богатых! Все, все для них! Только для них одних – богатство, и вся чарующая прелесть жизни, вся красота природы и любви, и много, так необъятно много счастья… Мне стоит только посмотреть в окно, и я увижу весь этот шумный и пожирающий без сострадания и наслаждающийся муравейник жизни… О, проклятый, проклятый Париж!
Люси подходит к шкафу и вытаскивает из-под кучи заплатанных бедных одежд большой кухонный нож.
– А ведь мне будет больно, очень больно, очень больно, – бормочет она медленно, с конвульсией страдания на своем пожелтевшем, состарившемся преждевременно лице.
– Мне будет очень больно! – Она задумывается и вспоминает фразу, прочитанную ею где-то в газете: «Жаровня с углями, веревка – все это жалкие орудия смерти бедняков…»
Ее губы скривились.
– И забыли про кухонный нож! Ведь это тоже жалкое орудие смерти!
Она приходит в бешенство и потрясает своим ножом с отломанной наполовину рукояткой.
– О, это ничего, что будет больно! – кричит она в каком-то упоении и топает ногами. – Пусть будет больно! Ведь это богачи боятся умирать… Пусть они смотрят, как умирают бедняки!
Она быстро подходит к окну.
– О, парижский народ не труслив, красавчики мои, – он вовсе не труслив.
И она смотрит вниз на расстилающуюся перед ее глазами чарующую панораму города, потонувшего в светлом играющем блеске золотых ярких искр. Ей кажется, что город загорается и одевается уже широкими и пожирающими крыльями огня.
– Вот! Вот! – бормочет она радостно.
Его ответ
Это случилось со мной во время одной из крупных стачек в «Черном городе», в Шарлеруа.
Газета, в которой я работал, послала меня на разведки. Нельзя сказать, чтобы газета сочувствовала стачке, но это было нужно.
Мне не хотелось уезжать: в один из этих последних вечеров я завязал роман с очаровательной Люси из Folies Parisiennes.
Но ехать было нужно. И, поправляя нервным жестом бутоньерку в петлице моего коричневого смокинга, я стоял хмуро и брезгливо возле дверей кафе, в котором собралось много людей в рабочих блузах.
Это был митинг стачечников.
Около столика на возвышении явился человек. Какой-то иностранец… Я разглядел его опущенные белокурые усы и твердый взгляд его немного близоруких, слегка насмешливых и очень умных глаз.
Люди в блузах столпились. Я чувствовал их мерное дыхание и запах пота от их коричневых затылков. Меня кто-то толкнул локтем. В стороне вялый апатичный джентльмен пил можжевеловую водку. Мне бросилось в глаза молитвенное выражение восторга, застывшее на молодом задумчивом лице рабочего, стоявшего возле меня.
Оратор говорил и говорил, а я его не слушал и не слушал. Слова его звучали резкими ударами, словно он взял тяжелый молоток и ударял им по столу.
«Знакомые банальные слова… Демократическая глупая шумиха слов…» – подумал я. И мне делалось холодно, жутко, противно в этой чуждой толпе, которую тут собрало и вдохновляло далекое и чуждое мне миросозерцание.
– Добывать уголь из-под земли и бунтовать из-за прибавки двух-трех франков… Люси, наверное, мне изменяет…
– Нас упрекают в том, что мы во время стачек ведем себя бессмысленным и диким образом, что нет у нас чувства меры и дисциплины, что не годимся для серьезной борьбы за наши кровные права. Покажем же обратное! Пусть в эти дни ни один легкомысленный и необдуманный поступок не нарушает нашего спокойствия. Мы боремся за то, на что имеем право, что заработано и нами, и нашими отцами, и нашими усилиями, и усилиями их – мертвецов, схороненных в земле…
Мне стало совсем скучно, я вышел из кафе и сел возле одного столика, около двери.
Мне было холодно, и я приподнял воротник. Брр!.. Неприветливый туманный воздух Бельгии!
Рядом со мной сидел старик, на костылях, в лохмотьях, – должно быть, нищий. Он сидел тихо, с закрытыми глазами. И его бледное, худое седобородое лицо не говорило мне о том, прислушивается ли он к словам, звучавшим из кафе.
Мне делалось все очевиднее, что в эти самые мгновения Люси мне изменяет. Ведь Париж-то такой легкомысленный, а Люси – парижанка! И чувство ревности мне заползло под шляпу, проникло в голову и стало жечь в груди.
Я обозлился.
В это время рабочие стали шуметь, потом затихли. Должно быть, там были окончены все разговоры по поводу добропорядочного поведения.
Стали петь.
– Ишь, с каким жаром! – сказал я резко, обращаясь к старику. – А вам вот есть никто не даст?
Старик немного вздрогнул и очнулся.
Он посмотрел на кончик моего – клянусь вам! – очень правильного носа и на носки моих изящных лакированных ботинок. Он посмотрел, но не ответил ничего.
Он поднялся с своего места и, подойдя к дверям кафе, принял участие в общем хоре своим надтреснутым дрожащим голосом.
Я видел ясно, как потухшие глаза его зажглись во время пения каким-то странным и ликующим огнем.
Чему он радовался, этот нищий? И чем повеяло в его измученное сердце от этой звучной и величественной песни?
В накуренном и душном воздухе кафе, казалось мне, что-то таинственное, сильное жило и трепетало – это жила и трепетала энергия суровых и не боявшихся борьбы сердец.
И стало мне совсем не по себе. И я почувствовал безумное желание уйти отсюда и убежать в привычную мне атмосферу красивого обмана, и мелкой злобной лжи, и многого другого, о чем не стоит говорить.
На Сене
– Жан, не смотри на город! Он тебе разве нужен?
Дезирэ сердится и близко прижимается к краю баржи, спокойно заснувшей возле берега тихой, потемневшей и засверкавшей отражениями от фонарей реки.
– Нет, не смотри на город! Когда ты смотришь на него этим пристальным взглядом, мне становится страшно. Мне кажется тогда, что город приближается к нам, разлучает нас… – Она сжимает его руки, большие, загоревшие и жилистые руки чернорабочего. – Жан, не смотри!
Жан улыбается.
– А если б я туда ушел, в этот громадный город? Оставил бы тебя?
– Нет! – Дезирэ извивается всем своим гибким телом, и ее длинная, густая, темная коса спадает пышною змеей на ее бедра. – Не шути же так, Жан! Не будь злым! Ты очень любишь мучить твою маленькую Дезирэ! Что же может быть лучше в целом мире, что может быть лучше нашей Сены? Ты сам это знаешь. И она нас так любит! Когда спускается над нею ночь, она ласкает нас своими волнами – блестящими, скользящими и отливающими черным бархатом… Милая Сена! Она нас очень любит, она всегда старается скрыть от людей и заглушить все наши поцелуи своей музыкой волн. По ночам в ней луна отражается и бросает на темную воду много-много алмазов – голубоватых, ярких и обладающих какою-то магической и непонятной силой. Это она нас хочет обольстить богатством, красотой, нас хочет удержать! И с нашей стороны было бы так нехорошо, так дурно изменить реке. Да, милый Жан? Ведь это было бы нехорошо?
Дезирэ наклоняется низко к реке и полощет в заснувшей и теплой воде свои голые руки.
Жан опускает смущенным движением черноволосую, коротко остриженную голову с широким и упрямым лбом. Его губы слегка шевелятся, словно он хочет что-то рассказать этой девушке, от которой несутся к нему все острые, чарующие ароматы и реки, и лесов, и любви.
– А в лесу-то нам как хорошо! – говорит Дезирэ. Ее голос поет и с вкрадчивой мелодией поднимается к сердцу его и к губам, словно желая на всю жизнь, всецело, навсегда взять его в свою власть. – Ты помнишь ведь, какие свадебные песни пели нам майские жуки? С какою радостью светили светляки недалеко от нас, под свежими взволнованными травами и нежными кустами… Так хорошо жить и любить в лесу! Люди злы, а деревья ведь все понимают: они глубоко понимают тех, кто живет с ними вместе, такою же жизнью, без навязанных силою правил морали… Да, Жан? Ты помнишь, как ты сжимал так крепко, почти до боли, мои плечи под старыми смеющимися буками в Медоне… И под твоими поцелуями у меня голова так кружилась, и волосы мои становились такими тяжелыми и тянули меня вниз, к земле… И голова моя капризно, как будто против воли, склонялась к мягкому и улыбавшемуся дерну… Ты помнишь, Жан?
И Дезирэ, приподнимая голову, с доверием прижимается к нему своими свежими губами.
Жан наконец решается и мягко отстраняется от ласки Дезирэ.
– Послушай, Дезирэ… Мне дают должность, хорошую должность, рассыльного… В Лувре… А потом сделают приказчиком. Носить буду цилиндр.
Дезирэ поднимается быстрым движением, как разъяренное животное.
– Ты хочешь изменить реке? О негодяй! Я задушу тебя своими же руками… – Она молчит, потом волнуется и говорит с презрением: – Раз ты можешь реке изменить – иди в город! Он соблазнил тебя цилиндром… О, как ты будешь в нем смешон, мой милый Жан! Ни у одной из девушек ты не найдешь там поцелуев, таких же свежих, как мои, – ведь тут и я тебя целую, и река, и деревья… О, Жан! Так много пыли там по улицам, ты ее должен будешь вдыхать, и твое сердце тоже запылится и скоро станет старым и поблекшим. Слышишь? Мой голос тут звучит так сильно и свободно, как голос повелительницы, – над рекой. Там ты охрипнешь, ты будешь говорить приниженным и жалким голосом рабов… Когда же ты отдашь все свои силы, то этот Лувр ведь выбросит тебя на мостовую, как износившуюся тряпку. А река никогда не бросает людей! Но ты свободен делать все, что хочешь.
Жан смотрит на нее украдкой, он не может уже поглядеть ей в глаза.
Изменить Дезирэ и реке? Гм! Все это так близко срослось с его кожей… Но все же Лувр…
Он тихо говорит:
– И ты со мной уйдешь.
Но она вздрагивает, словно под ударом.
– Уж я-то никогда не изменю реке, не изменю нашему лесу… Любви ты изменяешь. Ну, что ж!
И она, наклоняясь, поднимает упавший, недоконченный ею венок из красных цветов.
– Какие красные цветы, как капля крови! Они без запаха, но так красивы… Я не сержусь на тебя, Жан. Природа научила меня понимать и уважать ее законы. А у нее один закон – свобода. Когда лесное дерево хочет расти уродливо и криво – оно растет. Если ж я буду слишком страдать…
Она плачет и тихим движением бросает в воду свой венок.
– Тогда ты… – Жан встревожен.
А она улыбается мягко, сквозь слезы:
– Я буду жить! Я постараюсь успокоиться, лесными травами я постараюсь излечиться от этой любви.
Жан с недоверием смотрит на нее. В нем начинает загораться, как вспыхивающие жгучие уголья, что-то мучительное и неведомое до сих пор – ревность.
– Ты полюбишь другого?
Дезирэ выпрямляется над заснувшей рекой, – как будто отдаваясь ей всецело во власть ее любви и чар, сливаясь с темными блестящими волнами всем своим стройным телом. Она с презрением и состраданием глядит на Жана.
– Не знаю… Если сердце полюбит…
Служанка
Жанна сидит на табурете около двери.
– Нет, нет, не отворю вам двери, барин. Не стучите! Идите!
– Отвори, Жанна! На минуту! Что ты такое думаешь? Я ничего… Мне только нужно…
– Уходите же, барин! – прикрикивает Жанна, вставая с табурета.
– Не кричи… – За дверью слышится озлобленный и пьяный шепот. – Не кричи! Не беспокойся, я уйду. Тоже ведь… падаль!
Жанна молчит. Она прислушивается, как удаляются нетвердые тяжелые шаги. Она слышит, как хлопает дверь.
