Куда кого посеяла жизнь. Том 14. Встречи
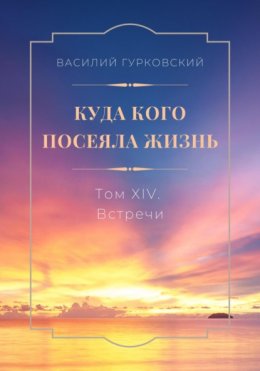
Встречи, как перекрестки судьбы
Встречи
Бесчисленное количество встреч между людьми, случается постоянно, ежесекундно, ежеминутно, ежечасно и ежедневно.
Встречи бывают разными, – оговоренные заранее, случайные, деловые, интимные, желательные и, наоборот, неприятные, но все равно – Встречи , и часто – неожиданные.
Встречи – родные братья-сестры с Расставаниями. Понятно, что не будь расставаний, то не было бы и встреч. В этом –вся прелесть этой связки.
В связи с большим количеством встреч на жизненном пути, люди не всегда (тем более не все)– их запоминают. Но почти у каждого человека, по жизни бывают такие встречи, которые запоминаются ему на всю жизнь.
Как правило, они связаны или с последовавшим после этого каким-то событием, или со знакомством с публичными, широко известными людьми.
Случались подобные встречи и у меня. Хочу поделиться информацией о них с читателями. Вовсе не для того, чтобы кого-то чем-то удивить, а возможно, помочь им что-то вспомнить из своего подобного «встречного» прошлого.
Встречи, о которых я хочу поведать, для кого-то может быть прошли бы незамеченными, но для меня они явились знаковыми и врезались в память навсегда. Выбрал я, конечно, не все ….А дальше- судите сами.
Началась эта « Встречная знаковая кампания» для меня, зимой 1960 года. Я тогда был курсантом специальной годичной военной школы в Бирюлево (ныне район Москвы).
К нам приехал бывший военный летчик, Девятаев, который раненым попал в плен к фашистам, находился в концлагере под чужим именем, а потом – совершил побег на немецком самолете, прихватив с собой еще 9 товарищей. А самолет тот оказался напичканный всевозможной секретной аппаратурой, в которой наши специалисты, в том числе конструктор С.П.Королев, нашли очень много интересного для своих разработок.
Девятаев об этом не знал, он, вместо благодарности, попал в разработку наших специальных органов, не поверивших в возможность его подвига. Дойдя в своем рассказе до этого места, этот мужественный человек, не мог сдержать слез.
Звание Героя Советского Союза, он получил только в 1957 году, именно по ходатайству, того же С.П.Королева.
Мы, молодые курсанты, слушали его, как завороженные. Подходили к нему, пожимали руки, расспрашивали отдельные детали. Он охотно отвечал. Это было не кино, не лекция о ком-то знаменитом- далеком, это была добрая жизненная встреча молодежи с настоящим русским человеком. Солдатом. От него просто веяло чем-то таким нашим, простым, надежным и понятным. С ним не хотелось расставаться.
Весь зал и он – были пару часов, как одно целое. Я уверен, чувство сопричастности к достойному, простому и в то же время –великому, проникло тогда в каждое наше молодое сердце. Такой для меня была эта первая знаковая встреча. Такое – не забывается.
Второй по счету, для себя, я считаю встречу несколько иного плана:
Тот же 1960 год. Было заранее известно, что в конце мая месяца, сборная СССР по футболу в рамках чемпионата Европы, будет играть со сборной Испании, в Москве, на стадионе, в Лужниках.
Наш командир взвода, москвич, спортсмен, капитан Лобанов, имел на стадионе в Лужниках знакомых людей и договорился, что наш учебный взвод, по выходным дням, будет помогать вести подготовку стадиона к предстоящему сезону. Больше двух месяцев, мы убирали снег, потом мусор с трибун, счищали краску с сидений, потом красили их снова, писали номера мест и т.п..
За работу – получили 50 бесплатных мест на матч – СССР-Испания. Он проводился в последнее воскресение мая .
Конечно, мы ждали этого события. Правда на взвод в 70 человек, дали 50 билетов, но не все были страстными болельщиками, так что нам и этого хватило.
Но, буквально за день до начала матча, было объявлено, что сборная Испании – не приедет, не пустил её к нам правящий тогда там диктатор – Франко. Вместо этого был назначен матч из первенства Союза –«Динамо» Москва- «Динамо» Киев. Погоревали советские болельщики и мы вместе с ними, но ничего на сделаешь- пришлось смотреть то, что пришлось. Сборной Испании тогда засчитали поражение (0:3), и, возможно, благодаря и этому случаю тоже, наша команда тогда стала чемпионом Европы….
Нам, конечно, достались не самые лучшие места, на «торцевой» трибуне, но может быть, это было и хорошо. Я сидел сзади ворот «Динамо» Москва. Считай рядом, – в воротах , уже тогда известный Лев Яшин….И вот момент-Встреча на всю жизнь (для меня). В ворота москвичей назначается одиннадцати метровый удар. К точке подошел нападающий киевлян –Валерий Лобановский.
Он тогда был высокий, худой, рыжий, с таким огромным, модным тогда «коком» на голове. Яшин оглянулся назад, в сторону ворот (в сторону нас, вставших с трибун), таким напряженным взглядом и приготовился к прыжку. Естественно, в своем традиционном темном свитере и фуражке.
Лобановский, то ли с опаской, то ли небрежно, покатил мяч внутренней стороной левой ноги в сторону ворот. Мяч прошел сантиметров семьдесят левее штанги.
Этот момент я видел позже и в киножурнале, но уже с другой позиции, и это видели многие люди, но, для меня на всю жизнь запомнилась эта встреча, теперь можно сказать – великих наших футболистов и рядом, на моих глазах.
Позже я не раз видел их игру и вместе, и раздельно, но такой Встречи –больше не было. И я благодарен судьбе за это.
А жизнь продолжалась.
В начале 1962 года, я был избран делегатом Окружной комсомольской конференции Киевского военного округа. Вот там действительно было очень много встреч с не то, что интересными, а действительно значимыми людьми!. Они сегодня –легенды, а в то время – мы могли с ними общаться, беседовать, фотографироваться.
В то время –там треть зала блистала наградами, а имена какие – А.И. Покрышкин, трижды герой Советского Союза, в то время- генерал-лейтенант, командующий Отдельной армией ПВО, дважды герой Советского Союза, генерал-полковник А.Ф. –Родимцев, герой Сталинграда, генерал-полковник, Герой Союза Кошевой, командующий в то время Киевским Округом и многие другие известные в стране люди.
Общаясь с ними в кулуарах конференции, мы часто забывали в какой обстановке находимся, кто мы, и кто они. Мы преклонялись даже не перед ними и их Звездами, а перед тем, что они прошли и что за ними стояло -перед их делами, положенными на алтарь Родины. Такое, и такие Встречи, -не забывается.
Придется сказать, что через много лет, для меня лично, на ту память вылили бочку дегтя, даже не дегтя, а чего-то более зловонного. Тогда, в первый день конференции -1962, в Киевской окружной газете «Ленинское знамя», во весь верх первой страницы, была помещена большая фотография делегатов конференции. Мы там стояли группой возле памятника В.И.Ленину, стоящего в сквере, на таком круглом постаменте с надписью на украинском языке- ЛЕНIН – в центре Киева.
После 2014 года, этот постамент часто показывали по телевизору, но уже без памятника, который какие-то (язык не поворачивается сказать –люди), свалили и зверски разбили. Вот такая тоже встреча. И без комментариев. Но я – помню; и не только я….
Поздней осенью 1983 года , в Москве играли футбольные сборные СССР и ФРГ. Играли в Лужниках, был легкий морозец, зрителей было немного. Я как раз был в Москве и решил тоже пойти на матч, честно говоря, надеялся встретить там Олега Блохина, лучшего, по моему мнению, футболиста времен СССР. У меня была его фотография, где он был снят с Суперкубком, который киевское «Динамо» выиграло в 1975 году.
Ту фотографию я носил в портфеле несколько лет, надеясь когда-нибудь все-таки, бывая в разных местах Союза, пересечься с Олегом. Один раз пробился к нему, в Одессе, так фото не было, с тех пор носил постоянно с собой. Отсидел на морозной скамейке матч с немцами, который, кстати, наша команда выиграла (1:0), и пораньше направился к раздевалкам.
К раздевалке ФРГ, вплотную подъехал автобус, вижу, выходят знаменитости- Беккенбауэр, Руменниге, и другие. Но мне они не нужны, я, метров в пятидесяти от нашей раздевалки, жду Блохина. Наконец, он быстро выскакивает в сером джинсовом костюме и мчится вдоль стены. Я его останавливаю (встреча –лицом к лицу) и прошу подписать его фото. Сзади него бежит толпа фанатов, видно прозевали его у выхода. Блохин бросает мне на ходу: «Слушай, друг, если я остановлюсь сейчас, они меня разорвут!» Он прыгает в стоявшую рядом с тротуаром машину, оранжевые «Жигули», тоже игрока сборной и «Спартака» -Гаврилова и, только успевает закрыться изнутри, как большая толпа молодых людей облепила машину.
Просили, потом требовали его выйти, начали машину раскачивать. На счастье, подъехал милицейский «УАЗ», сдал назад, вплотную к «Жигулям», и таким «тандемом», они прошли через толпу и покинули стадион. Встреча у меня состоялась, а автограф на фото, я тогда так и не получил….
В августе 1989 года, произошло широко разрекламированное событие и не только в спортивной жизни Советского Союза. Отмечали 60- летний Юбилей великого вратаря Л.И.Яшина. На стадионе «Динамо», в Москве, готовился грандиозный праздник. С 14 часов дня и до вечера, планировалась обширная программа.
Торжественная часть, потом футбольный матч ветеранов «Динамо» со сборной ветеранов мира, потом еще один матч, уже действующей команды «Динамо» со сборной из действующих ныне футболистов из разных стран. Намечался розыгрыш многих призов, в то числе легковых автомобилей, даже одной иностранной диковинки –японской «Мазды», обещали фейерверки, салюты и многое другое.
Разгар «перестройки». Событие (предстоящее) ярко разрекламировали загодя и как всегда, довели дело до абсурда. Входной билет по номиналу стоил 10 рублей. Перекупщики довели стоимость до 100 рублей, и то билетов было не достать. Мне помогли с билетом знакомые, через Генеральный штаб Министерства обороны.
Я, конечно, подгадал командировку в Москву, в Госкомитет по науке и технике, который финансировал наш Тираспольский НИИ овощеводства, с таким расчетом, чтобы закончить командировку, как раз в день того праздника. Август месяц, все было нормально и ничего не предвещало беды.
Но, еще с ночи, резко похолодало, и пошел не просто дождь или ливень, а что-то необъяснимое – как будто небо упало на голову. Темно, ветер, холодно и непрекращающийся ливень. Я решил до обеда закончить дела в ГКНТ и к 14 часам прибыть на стадион. Билет в кармане – ну, а дождь – может быть, перестанет до обеда. Но на улице творилось что-то страшное.
Купил в киоске какую-то клеенку, набросил на плечи, и поднимаюсь по улице Горького, в сторону ГКНТ, он находился рядом со зданием Моссовета. Иду напротив ветра и дождя, практически ничего не вижу. И вдруг –упираюсь лбом в грудь идущему навстречу человеку.
Если бы я шел сверху, то точно бы его сбил с ног, а так подхватил его под руку, смотрю : Никита Симонян! Наша советская футбольная звезда! «Простите.– говорю,– Никита Павлович!» А он: Откуда ты меня знаешь?!». «Да кто вас не знает!»-отвечаю я. Симонян хлопает меня рукой по клеенке и мы расходимся. Он уже тогда, наверное, направлялся через метро на стадион, я его позже там видел, на празднике.
Сколько раз я впоследствии вспоминал об этой Встрече! Надо же было мне из десяти миллионов москвичей, уткнуться в грудь именно Никите Симоняну!.
Кстати, он молодец! Столько лет прошло! А совсем недавно (июль 2018 год!), когда наш Президент В.В.Путин, во время проведения Чемпионата мира по футболу в Москве, приглашал к себе ряд выдающихся в прошлом футболистов мирового уровня, Никита Павлович тоже там присутствовал и сидел рядом с Президентом России.
Ну, а чтобы довести мысль до конца- добавлю-. В тот дождливый августовский день, Судьба жестоко наказала проходимцев и перекупщиков, вьющихся у стадиона. Они намеревались в день проведения мероприятия, реализовать билеты по баснословным ценам. Но не вышло. Народ не пошел на стадион по такой погоде.
Десятки распространителей, рассыпавшихся вдоль забора стадиона, пытались продать билеты хотя бы за полцены. Тщетно. На самом стадионе –кошмар: люди стоят по щиколотку в воде, сесть нельзя, кругом заливает, ветер, ничего не видно. У меня был билет в престижную зону, там стояли в основном- приглашенные. Кого там только не было! Чиновники, чемпионы всех уровней, видные артисты, ветераны, «своя» молодежь и прочая, и прочая…. Была бы погода –можно было целый альбом автографов набрать….
Да не до этого было….
Первая игра ветеранов – это был не футбол, а водное поло, мяч плыл по воде, ко второй игре дождь перестал, а грязь осталась. Какие там салюты-фейерверки! Только шипение и грязь. Стадион заполнен был где-то на треть, но и те все-таки ждали -Розыгрыши призов.
Вряд ли кто-то тогда что-то выиграл, правда, машину, «Мазду» подарили Льву Яшину. С открытым тентом его провезли вокруг стадиона по гаревой дорожке. Это была моя вторая, близкая по расстоянию, Встреча с этим Человеком.
В декабре 1999 года, я, в то время Депутат Верховного Совета Приднестровья, был по поручению Руководства, в Государственной Думе России. Присутствовал на заседании родственного мне комитета по вопросам агропромышленного комплекса, потом на заседании Думы. Когда пришло время обеда, один из работников Аппарата, который занимался со мной с утра, предложил не идти в думскую столовую, там сейчас будет много народу, а пойти перекусить рядом, в кафе.
Вышли из Георгиевского переулка, перешли на другую сторону улицы Горького. Там, вдоль тротуара, чередой выстроились небольшие кафе, типа-бистро. Сегодня их убрали, а в то время, они пользовались успехом. Несколько столиков. За одним из них, к нам лицом, сидят депутаты Госдумы, Владимир Жириновский и Александр Митрофанов.
Первый –сидел с краю, второй –у окна. Они, естественно, знали моего спутника и пригласили нас за свой столик, на два свободных места. Им уже принесли заказ, они кушали, на столе стоял наполовину пустой графинчик водки. Мы тоже сделали заказ.
Жириновский узнал, что я депутат из Приднестровья, выдал дежурную фразу, что это наши братья, потом разлил остатки водки из графинчика в четыре рюмки. Мы тоже заказали графинчик водки, получили закуску и начали обедать. Попутно –беседовать. Жириновского я несколько раз видел у нас в Тирасполе, во время праздников. Присутствовал он и на заседании нашего Верховного Совета.
В этот раз мы встретились, как говорится, за одним столом. Так как они пришли раньше, то и закончили обед быстрее нас. Перед уходом, Жириновский рассказал (выходит -мне, все остальные сидящие за столом это знали), как летом того же года, Государственная дума, пыталась объявить импичмент Ельцину.
Импичмент не прошел, по той простой причине, что в то время там правил бал альянс «Наш дом – Россия». Они имели абсолютное большинство в Парламенте и им не были нужны голоса поддержки от той же фракции ЛДПР. Без них хватало, но фракция либеральных демократов все же голосовала – против.
Уходя, Жириновский сказал – наша фракция, знала, что импичмент не пройдет, голосовала против и получила «достойное» одобрение такой позиции, а эти «умники –коммунисты», он кивнул в сторону моего сопровождающего, тоже знали, что импичмент не пройдет, но голосовали «За». И кто здесь –выиграл?. Я в их разговор не вмешивался. Но такая Встреча у меня – была.
Когда начинаешь ворошить память, оказывается, что и у обычного человека, которым я себя считаю, тоже бывают ожидаемые, а чаще –неожиданные, встречи и общения с необычными (публично известными) людьми.
Так у меня было и с композитором В.Я Шаинским (вместе были членами жюри на конкурсе детской песни), телеведущей Ангелиной Вовк, народными артистами Людмилой Хитяевой, Еленой Драпеко, космонавтом, Героем Советского Союза , Александром Волковым, основателем космической династии Волковых, народным писателем, Героем Социалистического труда, Ю.В. Бондаревым, которого считаю своим Учителем, и другими известными в стране людьми. Это радует.
Но была у меня, в жизни, по моему мнению, всем Встречам –ВСТРЕЧА. Может быть, для кого-то ничего необычного в ней не было, но для меня она была –Знаковой. В 2007 году, партия «Справедливая Россия», проводила кампанию по объединению под свои знамена, нескольких небольших политических партий, типа- «Родина, Жизнь, Пенсионеров» и др..
Новой, объединенной партии, нужен был Гимн. Объявили конкурс. Я тоже принял в этом участие, написал песню «Справедливость России» и передал в Москву. Когда представители руководства партии, были по предвыборным делам у нас, в Тирасполе, я показал (спел) им эту песню. Она им очень понравилась, и позже меня пригласили на объединительный съезд новой партии, в Москву.
И вот там и состоялась та «Встреча –Встреч». Такое вообще редко бывает: – на сцене –я, один, неизвестный пенсионер-любитель из периферии, автор-исполнитель новой песни, а в зале –кого там только не было! Выдающиеся певцы, музыканты, артисты, спортсмены, чемпионы мира и Олимпийских игр, писатели, чиновники высоких уровней, партийные функционеры, и все они смотрели на одного меня, не понимая, откуда я взялся.
Прямо напротив меня, в двух метрах, на первом ряду, сидел Валерий Золотухин, левее его Евгений Сидихин, правее Евгений Плющенко, а вокруг- что ни лицо- то Имя!
Трудной была для меня эта Встреча. Глаза разбегаются от множества знакомых лиц, но я же не для этого на сцену вышел! Необычность ситуации была ещё и в том, что раньше –они всегда были на сцене или на экране и я на них смотрел, а тут- поменялись местами….
Собрался я и спел свою песню. И, знаете, эти все великие и известные – долго мне аплодировали. Уже не помню, как я ушел со сцены, тогда.
Но, в перерыве, ко мне подходили люди и благодарили. Один пожилой ветеран сказал, что очень емкий и понятный припев: «В Справедливости- Сила, Наш партийный девиз: Современной России- Справедливую Жизнь!».
Стоявшая рядом с ним женщина, добавила: здорово у вас там про равенство: «Не бороться за равенство всех, а бороться за равенство равных!». Мне, конечно, было приятно, но песню мою тогда не приняли за гимн, по причине коньюктурной возни внутри партии. Ну, а в моей памяти, все это осталось, как Большая Встреча.
Из многих своих встреч по жизни, чтобы не утомлять читателя, я выбрал лишь несколько Знаковых. Уверен, – впереди – у всех нас еще будут похожие встречи!
Шесть бычков – и такая встреча!
Понятно, что встречи случаются разные – случайные, запланированные, радостные и грустные, желательные и неприятные. И все же – с высоты возраста, могу признаться, что листая иногда альбом моих жизненных встреч, невольно останавливаю внимание на тех из них, которые своим появлением, так или иначе, связаны с элементами неожиданности.
Как выяснилось позже, по прошествии лет, даже десятилетий, фактор неожиданности, в большинстве случаев, остается необъяснимым, не разгаданным; и сам факт таких встреч, часто возрастает по значимости, до уровня последующих за ними действий.
В порядке иллюстрации, приведу пример из жизни.
Прошу читателя не заострять внимание на давность этой встречи. Я не перефразирую кого-то и не повторяю чьи-то мысли. Просто пишу от первого лица, потому, что все это было со мной.
Состоялась эта, знаковая для меня Встреча, ровно 45 лет назад, в 1980 году. Мне тогда довелось возглавлять финансово-экономическую службу аграрного (моего родного) Слободзейского района, равного которому по экономической мощи в Советском Союзе в то время – не было.
Район тогда успешно заканчивал очередную пятилетку, был постоянно «прописан» на Главной (Всесоюзной) Доске Почета, при ВДНХ СССР. Многие труженики сельского хозяйства в тот год, были отмечены правительственными наградами, ценными подарками и другими видами поощрений.
Редкий случай для финансиста – я тоже был награжден медалью «За трудовую доблесть», и, кроме того –бесплатной путевкой в один из местных (молдавских) санаториев, под названием -«Виктория».
Мне в то время было только сорок лет, ни в каких санаториях и домах отдыха, я до того года не был, не до отдыха было, но, раз уж наградили путевкой- решил не отказываться. И – Поехал….Да что там ехать?– сел в Бендерах на автобус и через три часа – был на месте, в поселке Сергеевка, Белгород- Днестровского района Одесской области.
Я до того даже не предполагал, что рядом с нами, есть такие замечательные места, где можно действительно расслабиться и отдохнуть от всего…всего…всего….
К тому времени, меня уже трудно было чем-то удивить, в плане места, то есть – территории. Так сложилось, что по жизни, я уже побывал к тому времени во всех областях Украины, во всех регионах Казахстана, Средней Азии, вплоть до Туркмении, бывал во многих областях России, от Смоленщины – до Байкала, многое видел, и – красивое и не очень, поэтому, когда прибыл в Сергеевку, то, вначале, даже пожалел, что согласился принять подаренную мне путевку….
Вышел из автобуса, осмотрелся. Вокруг- ровное открытое пространство. С северной стороны – ровная голая степь, с южной, во всю длину поселка–тоже «ровная»-вода, позже выяснилось, что это лиман, а несколько дальше виднелось море.
Небольшой, Невзрачный, Неблагоустроенный поселок, с редкой зеленью, подчеркивающей недостаток поливной воды, встретил нас буднично. На конечной остановке, сошло всего трое или четверо пассажиров, остальные вышли раньше, в Белгороде-Днестровском.
Узнали у диспетчера, где находятся наши санатории и пошли их искать.
Санаторий «Виктория», куда направлялся я, был относительно новым, построенным в 1974 году и, ко времени моего приезда, он уже вошел в ритм санаторной жизни, то есть освоил все проектные направления своей деятельности, параллельно шлифуя неизбежные при этом недоработки и сопутствующие недостатки, совершенствуясь и развиваясь.
Уже тогда он считался престижным в системе курорта Сергеевка.
Само появление этого поселка, как курорта, было не совсем обычным. Когда образовалась Молдавская Автономная ССР, а – затем и Молдавская ССР, встал вопрос о необходимости профилактики и лечения в новой Республике, детских заболеваний, в первую очередь, дыхательных путей. Для таких детей необходимы были – море и морской воздух.
Молдавия не имела выхода к морю, поэтому Советское правительство приняло решение о передаче в пользование Молдавской ССР, земельного участка, в приморской зоне, на территории Одесской области Украины, для размещения на нем, лечебно-оздоровительных учреждений, предназначенных для лечения и отдыха, как детей, так и нуждающихся в улучшении здоровья, жителей Молдавии.
Были проведены необходимые изыскательные работы, оценены возможности, как морского побережья в этом районе, так и особенности, расположенного между будущей санаторной зоной и морем, лимана (Шаболатского), обладающего большими запасами лечебной грязи и целебной воды.
В результате, на самом высоком уровне, было принято решение об организации на этом месте, под эгидой Молдавии, но, естественно, за счет союзного бюджета, лечебно-оздоровительного комплекса. Довольно быстро было обустроено несколько лечебно-оздоровительных учреждений (санаториев, домов отдыха и т.п.). Расширялся и развивался сам курортный поселок, где жили в основном люди, работающие в санаториях (врачи, медсестры, обслуживающий персонал).
Нынешних разновидностей рекламы в те времена еще не было, но объективная информация о достоинствах Сергеевки, как курорта, постепенно, от человека -к человеку, просачивалась по территории, в первую очередь Молдавии, а – затем уже – растекалась и на соседние регионы.
Для санаторного курорта, это место действительно было выбрано удачно. С любой точки зрения. Это не шумная и небезопасная Одесса, а тихое спокойное место, всего в 18 километрах от Белгорода-Днестровского, по ровной приличной дороге, между виноградников, без всяких там склонов, ущелий, рек, гор и других возможных препятствий.
Интересно и само местоположение курорта. За многие века, море, собственными силами, намыло песчаную перемычку, шириной метров в сто(а местами и больше) и длиной почти в двадцать километров, отделив ею (перемычкой) от моря, довольно большой своеобразный «лиман», который образовался между этой перемычкой и, более высоким в том месте – северным берегом. Этот лиман, который называют Шаболатским, шириной более километра и длиной 17 километров – и есть «жемчужина» этого курорта.
Да, здесь рядом – чистое море, длиннющая песчаная коса –пляж, но…море есть и в других местах, а такого лимана еще поискать надо….
Главное, накопленное веками богатство лимана – донная лечебная грязь, покрывающая толстым слоем его дно. Санатории, расположенные по берегу лимана, качают эту грязь прямо от места её залегания, очищают, прогревают и используют для оздоровления и профилактики. Основное направление почти всех санаториев в Сергеевке –грязелечение.
Мне тогда повезло. Первый раз в жизни попал в санаторий и сразу познакомился с таким серьезным видом оздоровления, как Грязелечение. Настоящее. Позже, в разные годы и в разных местах, мне приходилось не раз видеть, как проходило там подобное лечение, но такого, как в Сергеевке –больше видеть не пришлось.
Есть два основных направления такого вида лечения: Грязелечение и Грязное лечение:
Первое направление, Грязелечение, как в той же Сергеевке: – ты, абсолютно раздетый, ложишься на покрытую плотной простыней кушетку, тебя санитар, из гофрированного шланга большого диаметра, буквально «обваливает» всего (кроме лица), несколькими ведрами черной, с антрацитовым блеском, приятно-теплой грязи, укутывает сверху тканью и оставляет отдыхать положенное по назначению врача, время. В приятном блаженстве расслабляешься, а – потом смываешь грязь в душе.
При этом, черная грязевая масса, принимается твоим организмом и сознанием, именно, как что-то приятное и полезное. Само понятие «грязь» здесь не ассоциируется с чем-то «грязным». Это на самом деле ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ.
Второе направление , мне и такое приходилось видеть и даже проходить –это там, где нет «своей» грязи, где она привозная, как правило многолетней давности. Это «лечение» обычно активно рекламируют, отпускают по записи, не бесплатно, а потом вручают ту «грязь» больным, в коробочках от леденцовых конфет, для нанесения на больное место. В тех «грязях», кроме прожаренного песка, ничего полезного уже давно не присутствует. А люди верят и толпятся в очередях за этим «грязным лечением».
Я сделал эту вставку вовсе не для рекламы полезности места, куда я тогда попал. Это как бы -Фон. Суть данного материала сосем в другом.
Чтобы закончить вступление к рассказу, добавлю, что в этом благословленном месте, каким и тогда, и сегодня является курорт Сергеевка, где есть очень многое- море, пляжи, лечебная грязь, лечебная вода (РАПА) и ценная минеральная вода, не хватает (и тогда и сегодня) Главного – Природного Тепла. Даже не столь важна проблема пресной воды, её можно было бы взять из Днестровского лимана. А вот Тепло, природное, вернее -его недостаточность –снимает минимум половину всех прелестей этого места.
Признаюсь читателю, что для меня, как после выяснилось, посещение этого курорта, осталось в памяти совсем по другому поводу.
Да, я проходил все назначенные врачами процедуры, включая грязелечение и ванны из лиманной рапы, но, после моей беспокойной работы, в санаторной тиши мне было довольно скучно.
Во- первых санаторий «Виктория (Победа)», был в то время в Сергеевке, как бы базовым для лечения и отдыха ветеранов Великой отечественной войны, соответствующим был и контингент отдыхающих. Он (санаторий) был в то время на особом счету и только в нем, в период обеда, можно было при желании, получить стакан белого или красного вина, естественно бесплатно. В других санаториях тогда такого не было. Наш все считали –«ветеранским». То есть- особым.
Привыкший все оценивать и анализировать, могу с уверенностью сказать, что, наверное, только в нашей «сверх гуманной» стране, в таких, специализированных (любых, но льготных) специальных, тем более лечебных заведениях, образованных неважно для каких специфических групп, будь то ветераны войны или труда, воины-афганцы, ликвидаторы последствий различных бедствий и т.п., минимум треть, а то и половина , пользующихся предоставленными какими-то льготами, никакого отношения к тому или иному конкретному направлению не имели, но –зато имели удостоверения или свидетельства о своей причастности ….
Так было и в санатории, куда я приехал. Но меня это мало интересовало. Санаторий недалеко от берега лимана. Море –через лиман, где-то более километра. Летом- говорят, что отдыхающих возят через лиман на катерах . Я приехал в мае, вода в море, как в холодильнике, купаются единицы закаленных любителей плавания, в основном –из других санаториев.
Государство позаботилось о курортной зоне и, напротив Сергеевки, был построен не широкий, но прочный железобетонный мост, связавший санаторную зону с пляжем. Мост использовался и для передвижения к морю, и для прогулок отдыхающих. По нему могли проезжать и легковые машины, но в те времена, машин я там не видел. Мост был приподнят над поверхностью воды настолько, чтобы под ним свободно проходили пассажирские катера. Приятное место, но меня привлекло на мосту другое: -несколько человек прямо с моста –ловили рыбу. Ловились в основном бычки разных размеров, другой рыбы я на лимане не видел.
У меня были заготовленные из дому различные рыболовные снасти. Я очень любил в детстве ловить рыбу на удочку, нравился сам процесс. Потом -был перерыв в несколько десятков лет, не было возможности рыбачить на удочку. Много лет жил в Казахстане, там «рыбачили» иногда сетями или бреднем, а здесь –пожалуйста –лиман, мост, масса времени…. Решил заняться рыбной ловлей, чисто в порядке отдыха.
На второй день пребывания, после процедур и обеда, собрал свои снасти, насобирал по дну лимана кулек ракушек и отправился на середину моста, как на самое глубокое место. Вообще-то глубина лимана в среднем немного больше метра, а посредине- около двух.
Бычок лучше всего «идет» на мякоть морской ракушки. Я понял, что никаких удилищ здесь не надо. Одел леску петлей на руку, не стал удить через перила, неудобно, поэтому –пропустил удочку в одно из сливных отверстий для воды, которые шли по обеим сторонам моста, вымерял длину лески, с таким расчетом, чтобы грузило легло на дно, при натянутой леске, затем- наколол на крючок наживку и опустил удочку на дно. Буквально через несколько секунд, леска затрепетала в руке, и я вытащил первого бычка, среднего размера. Чтобы ускорить процесс, приладил проволочную распорку и добавил еще один крючок. Закинул удочку снова –опять через несколько секунд вытащил уже два бычка, на обоих крючках. Понравилось….
Такой рыбалки я еще не видел. Вода в лимане чистая, дно под мостом –тоже чистое, песчаное. С моста смотришь- все видно, как на экране: -только на дно ляжет грузило и планка с крючками, тут же к ним устремляется стайка бычков и буквально выхватывают наживку друг у друга….Очень наглядно и очень интересно наблюдать за всем этим, тем более –беспрерывно вытаскивать пойманных рыбешек. Бычки – рыба хищная, азартная и безоглядная. Для неё главное- успеть выхватить лакомство….
И, наконец, мы подходим к сути нашего материала…
Где-то на третий день, после обеда, я, как уже опытный «рыбак», занял свое постоянное место и приготовился к «охоте». За предыдущих пару дней, на балконе комнаты, где я жил, сам (не сезон), на взятой с дому медной проволоке, уже вялились около сотни очищенных подсоленных бычков.
Прохожих по мосту , после обеда, было мало, большинство отдыхающих разошлись по своим палатам, поэтому я не был объектом внимания, когда чуть ли не каждый проходящий мимо тебя любопытный, обязательно остановится возле тебя, наблюдая за твоими действиями и, в лучшем случае, просто будет стоять и смотреть, а в худшем- начнет давать тебе советы или что-то комментировать .
Когда ты находишься в полусогнутом состоянии и в определенном нервном напряжении, это, естественно, как-то напрягает. Я старался не обращать внимания на такие случайности, насколько это было возможно.
В тот день случилось необычное, причем на моих глазах, да еще, как оказалось- и при свидетелях! В течении минуты –на два моих крючка поймались два бычка, тут же их схватили еще два бычка побольше, а когда я уже приготовился их выдергивать, подскочили две довольно больших (для бычков) черных рыбешки и заглотали наполовину и эту пару своих собратьев! Шесть бычков за один заброс! Такого у меня еще никогда не было!
«Так можно всю рыбу из лимана выловить!»– раздался чей-то голос сзади меня. Я поднял голову и оглянулся- надо мной стоял, как мне показалось, очень высокий, немолодой уже человек и добродушно улыбался. Я, находясь в таком возбужденном состоянии, хотел что-то резко ответить, но – осекся. Во-первых –это было не в моих правилах, а во вторых – я видел, что человек гораздо старше меня и улыбка у него добрая….Такой была у нас первая встреча.
Из вежливости, я повернулся к нему лицом, выпрямился и продолжал свою «работу», раз за разом, вытаскивая из сливного отверстия пойманных рыбешек. Подошедший мужчина просто стоял рядом и, с интересом наблюдал за моими действиями. Молча. Ничего необычного в этом не было. На всем протяжении моста, именно в то время, ни любителей прогулок, ни рыбаков- не наблюдалось, поэтому я и привлек внимание этого незнакомца.
Откуда же мне было знать, что с этого дня, мы с ним станем добрыми товарищами на полтора десятка будущих лет!
Ну, а в тот день, он, вдоволь налюбовавшись прелестями такой простой, открытой и результативной рыбалки, попросил меня дать и ему попробовать поудить таким образом.
Я отдал ему свою «удочку», оставил большой полиэтиленовый пакет для рыбы, а сам занялся изготовлением новой удочки, для него. Пока он успел поймать с десяток бычков – удочка была готова, я её тут же «опробовал» и прямо с двумя первыми пойманными бычками- передал ему.
Мужчина занял соседнее с моим сливное отверстие и ,через него, стал удить самостоятельно, причем было видно, что ему это нравится.
Перед этим –мы сделали паузу и познакомились, чтобы было удобно обращаться друг к другу. Я назвал себя, сказал, что я из Слободзеи, он назвался –Николаем Гавриловичем, из Тирасполя. Ну, а так как город Тирасполь, находится внутри нашего, Слободзейского района, то выходит, что мы с ним –земляки. Это стало нашим первым соединительным звеном для будущих взаимоотношений.
Глядя на его явно «восточное» лицо, я вначале подумал, что он был моим земляком еще и по Казахстану, но, когда спросил его об этом –оказалось, что он родился и вырос в Якутии и по национальности –самый настоящий якут. Чистое ,белое, благоприятного вида лицо, белые (седые) волосы, и только восточный разрез глаз, выдавали в нем человека не русского. Во всем остальном- он выглядел интеллигентным, вежливым, разумным и порядочным человеком.
За мою жизнь, много прошло перед глазами людей разных возрастов и национальностей, разных уровней по положению и интеллекту, способностям и возможностям, но память выделяет Николая Гавриловича Золотарева (это о нем идет речь), в отдельную, высшую, в моем понимании, категорию человеческого достоинства.
В тот день, когда мы познакомились, у нас не было каких-то «выяснительных» разговоров. Мы просто были заняты рыбной ловлей, в нескольких метрах друг от друга, говорить было неудобно, да и все внимание было направлено на сам процесс ловли рыбы.
Когда несли сумки с пойманной рыбой в санаторий, перекинулись несколькими фразами, касающимися, в первую очередь наших планов на завтрашний день.
Попутно я узнал, что у него срок санаторной путевки, заканчивается через десять дней. Все эти десять дней, мы, после процедур и обеда – занимались рыбной ловлей, а после ужина – гуляли по мосту и беседовали на разные темы. У нас уже было, что рассказать друг другу.
Николай Гаврилович был на 13 лет старше моего отца, застал еще царское время, пережил Гражданскую войну, период становления Советской власти в Якутии, долгое время служил в пограничных войсках, после учебы в Москве, до Войны, несколько лет работал по направлению, в Молдавии, в новой на то время -Автономной Молдавской республике, на партийной -пропагандисткой работе, хорошо знал наши края и наших людей.
Он мне рассказывал о своей родине, Якутии, её природе, людях, несметных тамошних разнообразных богатствах, найденных и пока неоткрытых.
Я, в свою очередь, рассказывал ему, как 22-года поднимал целину в Казахстане. Ему это было интересно, так как он об этом только слышал, но никогда не видел. Можно сказать, что так мы с ним и подружились, насколько это было возможно, при такой разнице в возрасте. Так сложилось, что все свободное у нас обоих время, мы проводили вместе.
За мной оставался сбор ракушек со дна лимана, для наживки, а на рыбалку – мы ходили вместе, и удили, пока у моего напарника, не начинала побаливать спина из-за долгого нахождения в нагнутом положении. Хотя надо сказать, что по всем своим физическим данным, Николай Гаврилович, выглядел в то время, гораздо моложе своих семидесяти двух лет.
Веселый, с таким добрым, чуть насмешливым прищуром глаз, он находился в постоянном движении, с ним приятно было быть рядом, тем более беседовать, на любую тему. Он знал жизнь не по учебникам, он прошел и изучил её (жизнь) изнутри. Тем и был интересен для меня, как собеседник.
Незаметно пролетели десять дней, срок его путевки закончился, и я проводил Николая Гавриловича до автобуса. Передал ему все мои накопленные запасы уже провяленных бычков (для себя – я еще наловлю!). Перед его отъездом, мы обменялись адресами, номерами телефонов и договорились о встрече, по моему приезду из Сергеевки.
Так и получилось. Когда я приехал домой, в Слободзею, то позвонил ему первым. Мы договорились, что по возможности, будем встречаться, просто так, без каких либо специальных намерений и, через время, Николай Гаврилович посетил нашу семью. Был как раз выходной день, и мы почти весь день были вместе. Я его повозил по Слободзее, показал дом, где я родился, школу, в которой учился, а также – место моей работы. Все ему понравилось. А пока мы с ним ездили по моему родному селу, жена приготовила традиционный казахский бешбармак, который гостю тоже очень понравился. Потом я отвез его в Тирасполь. Жил он вместе с семьей дочери, в одном из новых в то время , девятиэтажных домов, по улице Карла Либкнехта, недалеко от военного госпиталя .С тех пор наши встречи –стали регулярными. Он приезжал к нам, я –посещал его в Тирасполе.
Только тогда, после его первого посещения нашей семьи, я узнал, что Николай Гаврилович Золотарев (он же- Николай Якутский)– писатель, член Союза писателей СССР с 1946 года и Народный писатель Якутии. Что он пишет на якутском языке и в его творческом опубликованном активе, уже многие десятки различных художественных книг (только для детей около 20-ти!).
Честно говоря, для меня это была неожиданная новость. Первой его книгой, подаренной им нашей семье, была повесть «Из тьмы», о жизни простых людей в якутской глубинке, накануне прихода туда советской власти. Это была одна из многих его книг, переведенных на русский язык.
Та книга мне понравилась. Простая, понятная. Было видно, что автор не с чужих слов её писал, а сам, наверное, пережил нечто подобное. Понравилась набором событий и действий. Понравилась правдивостью, повествовательностью, простой жизненной аналитикой.
Я тогда не знал, да и не мог знать и даже представлять себе масштаба наработанного автором материала. Интернета тогда не существовало, а из нескольких строк в Энциклопедии, многого не узнаешь.
Уже много позднее узнал, что у Николая Гавриловича довольно солидное творческое наследие – серьезные романы, повести, очерки, рассказы, книги для детей, статьи, выступления.
Многие его книги, кроме русского, переведены на языки других стран мира (немецкий, чешский, латышский, украинский и др.).
По материалам повести «Золотой ручей», в 1972 году, на киностудии «Таджикфильм», был снят художественный фильм «Тайна предков».
Писал он под псевдонимом «Николай Якутский». Когда я однажды спросил, как у него появился такой псевдоним, причем еще в то время, когда он (еще до Войны) работал у нас, в Тирасполе.
Он рассказал, что служил в пограничных войсках, был одно время помощником начальника погранзаставы, в районе Тирасполя, где в то время, по Днестру, шла граница с Румынией, а потом был направлен, как политработник, на пропагандистскую работу в партийный аппарат молодой тогда еще -Молдавской АССР, в качестве лектора-пропагандиста.
Тогда же начал писать заметки и статьи в местные (Тираспольские и Одесские)газеты, на разные темы. А так, как среди авторов были еще Золотаревы, то редакторы, чтобы не путаться, предложили ему взять для себя псевдоним. Он и «придумал» – «Николай Якутский». Так как во всем юго-западном регионе в то время, был в наличии один «пишущий» ЯКУТ. Под этим псевдонимом, он и прожил свою плодотворную творческую жизнь, а его творческое наследие, представляет собой большую, не только повествовательно-воспитательную , но и историческую ценность. Это действительно достоверное и художественно оформленное историческое исследование.
Кстати, он первым раскрыл тему якутских алмазов, в художественной литературе. Книги – «Искатели алмазов», «Алмазы и любовь», «Первая получка» и др. и посвящены, как поискам и открытиям месторождений якутских алмазов, так и трудным периодам освоения и становления инфраструктуры на этих приисках.
Так сложилось, что именно в долине реки Вилюй, недалеко (по сибирским меркам) от места рождения Николая Гавриловича и были обнаружены алмазные месторождения. Автор неоднократно бывал в тех местах, знакомился с ходом работ по добыче драгоценных камней и благоустройству работающих там людей, поэтому его книги по этому направлению, как и по теме золотодобычи в Якутии – это действительно фотографическое отражение реальной действительности.
Наше знакомство растянулось на целых пятнадцать лет. Николай Гаврилович, в летние периоды, часто ездил на свою родину , посещал не только родные места, но и практически все новые яркие появление чего-то необычного на якутской земле.
По приезду домой, в Тирасполь, всегда приглашал меня к себе , делился «якутскими» впечатлениями, показывал фотографии и, полученные в разных местах подарки от благодарных земляков-читателей и Почитателей. Алмазы ему, правда, не дарили, в основном –разные поделки местных умельцев, но помню, однажды он мне показывал брусок угля, вырезанного из цельного угольного пласта. Тщательно выбранного, отшлифованного и с дарственной надписью. Ослепительно черного, с блестящими гранями и удивительно красивого. Ему подарили тот брусок в городе Нерюнгри, на Юге Якутии, где тогда заработал известный на весь СОЮЗ, мощнейший угольный разрез и куда подвели специальную железнодорожную ветку от Байкало -Амурской магистрали (БАМа).
Его всегда достойно принимали в родной Якутии. Земляки гордились им. И, как писателем, и , как Человеком. И это было справедливо.
Николай Гаврилович Золотарев, долгие годы возглавлял Союз писателей Якутии, был главным редактором ведущих якутских журналов.
Ко всему сказанному, хочу добавить, что он, еще с молодости, полюбил край, где я родился и вырос, то есть -наше нижнее Приднестровье и это тоже очень было приятно, лично для меня.
И ушел Николай Якутский из жизни именно в нашем Тирасполе.
Вот такая была у меня Встреча. Как награда за пойманные мною за один заброс Шесть бычков!. Не было бы их, возможно и не случилась наша встреча на том мосту. Но Судьбе именно так захотелось показать нас друг другу и ей это удалось. А я ей за это буду всегда благодарен и горжусь, что не только был знаком с таким замечательным Мастером, а в какой-то мере –пошел по его следам и стал писать в том же реальном, повествовательно- воспитательном стиле, ничего не выдумывая, а только шлифуя отдельные шероховатости в событиях и действиях по своему усмотрению.
Николай Якутский пришел в художественную литературу в 30 лет, мне посчастливилось стать в строй писателей только в 60. Николай Гаврилович, к сожалению, не успел познакомиться с моим творчеством и как-то оценить его, но сегодня мне не было бы перед ним стыдно за все, мною наработанное и , наверное, он бы одобрил выбранное мною творческое направление, которое во многом похоже по стилю, на его собственное.
Ночная встреча
Хорошо, что человек не знает, где упадет, а то вынужден был бы всю жизнь таскать за собой мешок соломы, чтобы смягчить место падения. Хорошо, что мы живем не в ожидании неприятностей, а постоянно надеемся на что-то хорошее и что-то лучшее. Хорошо, что не знаем, что, когда и как будет. Как говорится, судьба играет человеком, а человек играет на трубе… Так устроена жизнь. А все-таки его величество Случай или судьба-удача, занимают в нашей жизни не последнее место. Оглядываясь назад, все больше в этом убеждаюсь и благодарю судьбу, что события, участником которых я был, завершились именно так, а не иначе.
Всякое было в жизни. С высоты лет часто по-иному оцениваешь прежние события, и каждый раз философски про себя отмечаешь: «Раз живу и помню, значит, то, что раньше было со мной и вокруг меня, было хорошим».
И, слава Богу, что так.
Перевернем еще одну страницу альбома ащелисайской жизни. Так себе, частный эпизод. Таких случаев может быть, сколько угодно и где угодно. Мир их не замечает, но мы ведь только мелкие пылинки в этом огромном мире, и то, что случилось конкретно со мной много лет назад, – со мной и останется. И что удивительно, этот довольно неприятный случай, я вспоминаю не с негодованием или обозленностью, а с какой-то высокой благодарностью Судьбе и Богу.
А дело было так.
Жил и работал я тогда в Ащелисае. До города Орска, что в Оренбургской области, то есть уже в России, от нашего поселка, было чуть больше сорока километров, поэтому основные экономические, как сегодня говорят, связи, мы поддерживали с этим городом
И у нас в поселке, да и в соседних селах в те времена, не было мельниц, а в Орске действовала довольно солидная, сохранившаяся еще с царских времен. Поэтому многие крестьяне из окрестных сел, мололи там зерно на муку. Мука в Орске получалась отменная, да и зерно мололось качественное, все пшеницы – твердых и сильных сортов степной целинной зоны, с клейковиной до 40% и более. Из такой муки замечательный хлеб получался! Приятный на вид, вкусный, и упругий, как высококачественная губка.
Каждую осень, после получения натуроплаты, сельчане везли зерно на мельницу, заготавливая муку на всю длительную, восьмимесячную буранную зиму. Везли по семейным потребностям, кто пять, кто десять, а то и более мешков. Обычно группировались на поездку по родне, по друзьям-знакомым. Реже, просто – кто попадал по списку. Колхоз или МТС выделяли машину, если была дорога, или трактор с санями, – и где-то месяц-полтора, продолжалась «помольная» эпопея.
Пятьдесят шестой год был неплохим по урожаю зерновых. Зерна было много, половина его, к сожалению, пропала, но люди заработали в тот год неплохо, – и деньгами, и натурой. Я отработал сезон на тракторе и комбайне, тоже прилично заработал и решил купить себе баян. Сделать это можно было только в Орске. Но необходимо было потратить несколько дней на поездку на тракторе. День туда, день назад, пару дней на мельнице, – чуть ли не неделя уйдет. А мы как раз ремонтировали комбайны в мастерской, там стоял такой соревновательный дух между молодежью и «стариками», что просто так на неделю бригада не отпустит.
Но случай подвернулся. Конечно, это даже был не случай, а мое направленное действие. Дело в том, что рядом с нами в общежитии, жил тракторист Борис Забавин, целинник из Нижегородской ныне области. Работал он на тяжелом тракторе С-80 и часто ездил с зерном на мельницу. Я по-соседски попросил его, если будет возможность, взять меня напарником на один рейс.
Борис сдержал обещание и как-то раз обратился к заведующему нашей мастерской, с просьбой дать меня в напарники на один рейс, так как его сменщик заболел. Из трактористов на ремонте комбайнов был один я, и заведующий согласился, с неохотой. Как после выяснилось, напарник Забавина вовсе не болел, просто, когда Борис попросил его «заболеть», тот сделал это с великим удовольствием. Кому охота без кабины трястись при двадцатиградусном морозе два дня, тем более, что он был непьющим, по причине какой-то язвы. Ездить в такие рейсы в роли водителя или тракториста, можно было только с железным здоровьем. Ащелисайские мужики-помольцы, отрываясь от дома в город, старались как-то разнообразить свою жизнь. Они продавали часть отрубей, зерноотходов, да и муки, вроде бы как на гостинцы домой, ну и, конечно же, все дни такой «командировки» беспрерывно «причащались», как правило, до упаду.
Конечно, каждый раз люди менялись, но пили всегда, С такой публикой тяжело иметь дело тем, кто их возил. Ведь они-то, повторяю, менялись, а «водилы» были одни и те же, потому нагрузки на их организмы очень возрастали. Многие из них, после нескольких рейсов, «сходили с дистанции», но только не Борис Забавин. Этот истинно русский волжский парень, такой небольшой, кряжистый, мог выпить сколько угодно и чего угодно, тем более надурняк, так как в таких рейсах, его всегда поили клиенты.
Норма выпить для него – когда больше – нет.
Он не боялся холода, и я не раз видел в окно, как он по утрам, с похмелья, бежал в трусах, в накинутом на голое тело полушубке, по снегу – за 50 метров, в общежитейский, простите, туалет… босиком. После него там оттаявший снег в форме ступней ног оставался. И ничего, никогда даже не кашлял. Так что Борис идеально подходил для таких командировок и всегда был «в спросе».
Вот к такому соседу я и попал в напарники, правда, на один рейс.
Мы приехали на городскую мельницу под вечер. Зимний день короткий. Технология передвижения довольно проста. Трактор, за ним – сани с горой мешков, за ними, – небольшая будка с печкой-буржуйкой, для пассажиров-помольцев.
Трактористы через час сменяются. Это не очень приятно, но по-другому нельзя. Трактор без кабины – груда холодного металла, ветер, мороз, поземка или буран. Час за рычагами в напряжении дорогу ищешь, час в будке греешься. Пассажиры там постоянно, печка вся красная, солярка в смеси с землей горит, жарко даже. А ты погреешься час, а потом час на морозе, и так всю дорогу «закаляешься», как та сталь: жара-мороз-жара. Конечно, в те годы мы не придавали этому значения, все последствия приходили позже…
В тот раз с нами поехал прораб МТС, надо было попутно на лесоторговой базе доски получить для ремонта кузовов автомашин и лопастей комбайновых жаток.
Приехав на мельницу, разгрузились, сдали зерно и разделились. «Помольцы» пошли на наш заезжий двор обмывать первый этап работы, муку им обещали только к вечеру завтрашнего дня. Борис пошел с ними, так как упускать такой момент после целодневной тряски поперек пашни на морозе, он просто не имел права. А я, отцепив возле мельницы будку, поехал с санями и с прорабом, на лесоторговую базу. Мельница находилась в старом городе, а база возле станции Орск, это в нескольких километрах от города в северо-восточном направлении. Пока приехали на базу, совсем стемнело, но там нас ждали. Договорились, что мы поставим трактор с санями под погрузку, утром доски погрузят, сделают из тех же досок обрешетку, а сверху мы потом уложим мешки с мукой.
Известно, что многие прорабы в нашей стране любили выпить. Наш не был исключением. Я сидел в сторожке с охранником базы, а прораб с руководством «обсуждал» деловые вопросы. Мне надо было добираться до заезжего дома, возле реки Урал. Это через весь старый город, до старого моста через Урал. На мои неоднократные напоминания о том, что надо идти, и прораб, и его собутыльники отвечали, что я еще молодой и везде успею, а трамвай со станции, в город ходит до часу ночи.
Прошло несколько часов. Из конторы вышел какой-то довольно крепкий на вид пожилой мужчина и позвал меня. Картина, которую я увидел, меня не очень обрадовала. В кромешном табачном дыму за столом, уставленным пустыми водочными бутылками и консервными банкам, спали – наш прораб и еще двое.
Мужик, что меня позвал, начал искать, что бы мне налить, но не нашел. «Слабаки, —он махнул рукой в сторону спящих, и добавил, – пошли со мной, я как раз иду в сторону вокзала, там сядешь на трамвай».
Вышли на улицу. Мороз сильнейший, луна полная, снег так и сверкает, и скрипит на всю улицу под ногами.
Дошли до перекрестка, прямо, метров триста – вокзал, направо – дорога в город и трамвайный путь. Мужчина показал в сторону вокзала и ушел влево, бросив что-то вроде «До завтра». Я пошел в указанном направлении.
Постоял на кольце, где трамвай разворачивается. Замерз после печки в сторожке. Какой-то железнодорожник проходил мимо, сказал, что последний трамвай ушел час назад.
Что делать? Идти на вокзал? Там холодно, а я и не ел еще с обеда. Нет, пойду все-таки на заезжий двор. Здесь километров шесть, по шпалам за пару часов дойду.
Одет я был в ватные брюки, валенки, а сверх модной в пятидесятые годы вельветовой курточки с молниями, на мне была так называемая «москвичка», полупальто на вате с отложным меховым воротником и боковыми карманами.
Конечно, идти по безлюдной степи после часа ночи не очень приятно, но надо. Не скажу, чтобы я сильно боялся чего-то или кого-то, но приятного было мало. Несмотря на рассказы об Орском жулье, а в этом напичканном всевозможными промышленными предприятиями городе ,пролетариев хватало, и ни с какими коллегами из других стран, они соединяться не собирались, я как-то не представлял себе такой угрозы, хотя мне только четыре месяца назад, исполнилось шестнадцать.
Конечно, было подспудно какое-то опасение. Ведь под ватными брюками, у меня были поддеты обычные, в кармане которых, лежали 2500 рублей на баян… Это как-то беспокоило, но не так, чтоб уж очень.
Иду я по шпалам, от снега глазам больно. Скрип снега под моими валенками, наверное, и в городе был слышен. Постепенно согрелся. Вот уже до крайних домов – с полкилометра, настроение поднялось. И вдруг… Кажется, прямо из-под земли метрах в пяти по ходу, вырос черный на белом, огромный, как мне показалось, мужчина. Я не успел сбавить ход, и через пару секунд мы стояли лицом к лицу. Был он головы на две выше меня, сутуловатый, с продолговатым лицом потенциального уголовника.
Я поневоле остановился. Он протянул ко мне руку, как бы так незаметно щупая и переминая пальцами полу моей «москвички», и выдохнул: «Закурить есть»? Я в то время курил, но за день закончил все свои папиросы и спички. «Нету, говоришь? – хриплым голосом повторил он, и добавил. – А ну, Шкет, обшмонай его». Я скосил глаза туда, куда высокий обращался. Там, в метре от меня, стояли еще двое, видно, под мостом прятались. Один примерно с меня ростом, второй повыше. Тот, которого назвали Шкетом, быстро пробежался по моим карманам – ничего. «Может, пришить его?» – спросил у высокого. «Не надо, – прохрипел тот, – ему еще коммунизм для нас с тобой надо построить». Потом еще раз внимательно посмотрел на меня и добавил: «Снимай свое барахло, а ты, Шкет, переодевайся». Мы со «Шкетом» обменялись верхней одеждой, я отдал ему свою «москвичку», а он мне тонкое демисезонное пальто. Пока мы переодевались, двое высоких, двинули в сторону вокзала, третий побежал их догонять, а я стоял на ватных ногах и не мог двинуться дальше. Все произошло в каких-то пять минут, но выходило из меня долго. Наверное, через час, я пришел на заезжий двор. Меня знобило, может, пальто было тонкое и холодное, может, и что-то другое холодило.
Когда удивленная хозяйка включила свет, я отошел немного и осмотрел, на что обменял свою испачканную в мазуте, тяжелую, как броня, «москвичку». Лихие ребята, видимо, приняли ее за кожаную. Она задубела на морозе, и блестела не хуже, чем новая кожа. Пальто было коричневое, потертое, но еще приличное для наших мест. Я его потом Забавину отдал в обмен на что-то. Но самое интересное, что в боковом кармане пальто лежали… сто рублей, еще тех, пятидесятых годов.
Конечно, тот «Шкет» явно расстроился, когда увидел, из какой «кожи» моя куртка, и что его сотня в пальто осталась, но не я же обмен придумал. Пусть простят и мне, и себе этот грех.
И действительно, может быть, и грех, но, повторяю, я вспоминаю тот случай с какой-то внутренней благодарностью и к судьбе, да и к тем людям, кто бы они ни были. Им ничего не стоило сделать мне что-то плохое, я уверен, что у них было и чем. Но они не сделали, так как совсем другой менталитет тогда был у всех наших, даже опустившихся по разным причинам людей. Видимо, еще и потому, что они все еще оставались людьми. Не теми, кто сегодня убивает детей, стариков и женщин, далее безо всяких причин.
Вот такой мелкий случай из нашей прежней, тоже – ащелисайской жизни. Можно сказать, судьба или не судьба.
А баян я тогда все-таки купил, и с тех пор не расстаюсь с ним.
По диалектике добро порождает зло. И все же, диалектике назло, надо делать добро – и людям, и всему живому. Может, и судьба тогда к нам будет более благосклонна.
Как жить без коммуны?
Быль, Которая будет представлена в этот раз, хотя и имеет определенный международный аспект, все же больше говорит, если не об идентичности, то во всяком случае "похожести" жизни в странах бывшего Восточного блока , в те ушедшие в невозвратность советские годы. Одно могу сказать определенно, бывая в советские времена в разных странах обоих политических лагерей – восточного и западного, я всегда чувствовал к себе, по меньшей мере, уважение и терпение. Я понимал, что это уважение базировалось на том, что за мной стояло великое государство, и с ним и его представителями нужно было считаться всем, даже тем, кто нас не очень, так скажем, любил. Мы чувствовали это вдали от Родины и с достоинством ходили по территориям зарубежных стран. Бывая за рубежом уже в последние годы, стал замечать, что нас еще просто терпят, за наши же деньги, и то – до случая. Можно привести десятки примеров. Потерять уважение легко, вернуть его в таком масштабе – ох, как трудно!
Шел бурный 1989 год. Начался разгул демократии, подготавливался парад суверенитетов. По телевизору чуть ли не сутками показывали ход сессии Верховного Совета СССР, разбавляя центральные передачи местными каналами на ту же тему. Отталкивая друг друга, на трибуны пробивались новые "политики", вперемешку со старыми борцами за чего-то, пылившимися до этого в периферийных закоулках. Подавляющая часть выступающих несла откровенную ересь, набирая очки и потешая обывателей, очумевших от перестроечных лозунгов.
Как парадокс, в то самое время, когда Москве сознательно объявили продовольственную блокаду, когда не допускали к потребителю, портили, сжигали, продукцию, чтобы показать всему Союзу, да и окружающему миру, что в стране начинается голод, что необходимы кардинальные меры (именно это позже и произошло, только в обратном, еще более губительном порядке), мы, как это ни покажется странным, занимались развитием сельхозпроизводства.
Если в бывшей Молдавской ССР с производством таких видов продукции, как овощи, фрукты, виноград, молоко, мясо, яйца, было более -менее нормально, то с производством картофеля, ситуация оставалась сложной. Причин было много. Ну, во-первых, внимание к отрасли. Картофель на союзный потребительский стол от Молдавии никто не требовал, его было достаточно в средней полосе, да и в северных районах тоже. Тем более, качественного, и во много раз дешевле. От нас требовали то, чего не было в других районах – овощи, фрукты, виноград. Не совсем удачной для выращивания картофеля была и климатическая зона, в основном сухая и жаркая, поэтому сорта наши быстро вырождались. Перед нашим научно-производственным объединением была поставлена задача – обеспечить качественным семенным материалом, минимум, Молдавию.
Разрешили обратиться в соседнюю Румынию, где, надо признать, в те времена картофелеводству уделялось довольно серьезное внимание. Не знаю, как сейчас, но в этой стране в то время работало специальное министерство картофелеводства, чего даже в Союзе не было. Мы нашли взаимные интересы с этим министерством. Нам нужны были элитные семена картофеля, а румыны нуждались в хлорофосе, препарате для борьбы с колорадским жуком В Союзе этот препарат был запрещен к использованию по ряду причин, а в Румынии он широко использовался. Мы начали собирать остатки хлорофоса по всему Союзу и отправлять в Румынию, взамен они слали семенной картофель по указанным адресам. Масштабы обмена были значительны. Как всегда появились сбои во взаимопоставках, и тогда вся система остановилась. Время поджимало.
Минсельхоз нашей республики дал поручение – срочно во всем разобраться и запустить процесс снова. Заняться этим поручили мне. Подготовившись, я взял с собой соответствующих специалистов по семенам и химикатам и выехал с ними в Бухарест.
Приехали. Разместили нас в одной из лучших гостиниц под названием «Амбасадор».
Министерство картофелеводства Румынии, со своей стороны, тоже выделило специальную группу для уточнения ситуации с взаимопоставками. Курировал работу группы сам министр, он же, кстати, в те времена —параллельно – секретарь Центрального комитета компартии Румынии по сельскому хозяйству.
По прошествии лет, могу сказать определенно: с каждой фирмой или государственной организацией в те годы, у нас всегда были особые ответственные отношения. У нас во всем первенствовала политика, ни у кого из нас не было даже в мыслях, что-либо нарушать. И дело даже не в том, что боялись последствий, хотя и это присутствовало, а просто, в первую очередь, из-за нашего советского менталитета. Все, что было по договорам, даже больше того, мы всегда выполняли. Так было, в пределах того, что мне было известно, почти по всем нашим зарубежным связям.
Румынская сторона и в те годы пыталась кое-что изменить в свою пользу, но в течение недели мы во всем разобрались, сделали соответствующие дополнения, акты сверок и запустили снова процесс обмена. Когда румыны поняли, что мы контролируем все действия и ничего своего не упустим, они согласились и даже нас зауважали. Министр-секретарь сам повозил нас по основным картофельным зонам, специалисты показали нам сортовую и объемную возможности, ознакомили с работой НИИ-картофелеводства в Брашове, разъяснил и продемонстрировал технологию возделывания, хранения и транспортировки картофеля.
В общем, все было так, как надо. Билеты на поезд – у нас на руках, и на одиннадцатый день пребывания мы должны были отбыть домой. Маршрут оказался для нас удобным, поезд София-Москва проходил и через Бухарест, и через наш Тирасполь. Но утром выездного дня, к нам в гостиницу пришел министр с довольно грустным видом и заявил, что сегодня мы не поедем, так как забастовали по какому-то поводу болгарские железнодорожники.
Что поделать – 89-й год! Начало пресловутого парада суверенитетов. И в Софии, и в Бухаресте, да и в Кишиневе ,уже шли волнения, разворачивались бесконечные митинги и просто сборища. Чужие деньги одновременно, как ржавчина и как дрожжи, начали разъедать и вспучивать общество стран Восточного блока. Все это хорошо смотрится по телевизору, пока не коснется тебя лично. Принимающая сторона в лице румынского министерства картофелеводства, вначале даже растерялась. Содержать нас в центре Бухареста, да еще непонятно, сколько времени, было им очень накладно. Отправлять по воздуху через Москву на Кишинев – тоже. Соответствующие органы не приветствовали никакие другие действия по нашей отправке, кроме как по железной дороге, – в надежде на то, что забастовки все равно, в конце концов, приостановятся.
Куратор-министр решил использовать самый легкий для бюджета министерства способ. Наших специалистов отвезли в Брашов и при-
строили на содержание в институте картофелеводства, а со мной он решил совершить турне по Румынии в порядке гостевого обзора. То есть, попросту говоря, пустить нас по гостям, где и накормят, и устроят, и что-то покажут вдобавок. Когда он мне этот вариант предложил, я, не раздумывая, согласился. Это лучше, чем без денег ходить по столице, да еще постоянно чувствуя, что висишь у кого-то на шее.
Да, никто из сторон, в принципе, не виноват, но платить-то им все равно надо. Тем более, что возможность вольного передвижения по незнакомым местам привлекала новизной и познавательностью. Выехали мы на министерской "Дачии", потом в Брашове пересели на наши "Жигули", как более надежную, по мнению министра, машину, и отправились в турне вдвоем. У меня на работе тоже была такая машина, так что за рулем ехали по очереди, то министр, то я. Причем, постепенно в водителя превратился я. Министр смирился с этим, хотя вначале не пускал меня за руль, возможно, боялся за мое незнание местности. А когда убедился, что машину и дорогу я чувствую лучше, передал мне все бразды правления, в этом плане.
За ним была стратегия – куда нам лучше поехать или где есть, что показать, ну и, конечно, где лучше примут. Он был на несколько лет старше меня, прекрасно говорил по-русски, так как закончил в СССР высшую партийную школу. Был крупным, веселым, очень любил наши анекдоты и песни, мог выпить и съесть, сколько угодно и чего угодно. Быстро соображал на румынском и на русском языке. Но ко всему прочему, был с людьми резок и бескомпромиссен. Для меня он был более, чем хорош, да и я его явно устраивал.
Узнав, что мне довелось работать в комсомоле, он вообще стал своим в доску, так как тоже начинал с комсомола. Как только мы выехали из Бухареста на Брашов (еще с водителем), он прямо сказал: "Будем с тобой ездить по стране, Василий, до тех пор, пока мне не позвонят, что пошли поезда, и прокомпостируют ваши билеты. Сколько бы это ни продолжалось, думаю, это не очень долго".
Первое время я называл его "товарищ секретарь". У румын, как и у нас, тогда не в ходу было обращение "домнул" (господин). Между собой, в быту, это обращение существовало, но все его называли "товарищ секретарь", и я, естественно, тоже. А потом он стал обижаться и просил называть его просто Мирчей. Меня он называл Василием, а когда представлял в местах наших появлений, то говорил так: "Ачеаста директорул дженерал аджункт дин "месесер", Василий, приетенул меу", что в переводе звучало примерно так: "Это заместитель генерального директора из МССР, Василий, мой товарищ". Ни он и никто другой никогда не называли нашу республику Молдовой или Молдавской ССР. Румыны всегда говорили: "ме-се-сер", видимо, это вызывало у них больше уважения и доверия. И, надо сказать, не зря. Уровень хозяйственного и социального развития советской Молдавии был тогда в разы выше румынского.
Особенно бедно у них тогда жили села. Народ, особенно в доверительных беседах за рюмкой, независимо от рангов, довольно холодно относился к власти. Практически везде не любили "сфынтул Николае", т.е. "святого Николая", руководившего в то время государством. К чему это привело, общеизвестно – в конце того же описываемого года, Чаушеску был расстрелян.
Но тема у нас – несколько иная. Девять дней мы с министром колесили по Румынии. Все это время наши бедные организмы испытывали более чем космические перегрузки, и только, видимо, тренированная комсомольская молодость и в какой-то мере осторожная партийная зрелость помогли нам это турне выдержать. Для меня это было целое независимое и неописуемое исследование, из которого я впоследствии не раз делал, да и сейчас делаю, определенные жизненные выводы.
Мы объехали десятки мест в закарпатской Румынии от Брашова – до северной границы с Венгрией и до западных границ с Югославией. Никогда не приветствовавший забастовки, я до сих пор благодарен тем болгарским железнодорожникам, которые своими действиями помогли мне узнать Румынию изнутри.
Из многих встреч и событий того периода я поведаю всего три характерно-показательных и, на мой взгляд, полезных сегодня, даже для нас, демократичных уже, перестраивающихся.
Одна из наших с министром гостевых встреч была в небольшом городке Меркуриа-Чук, в нескольких десятках километров к северу от Брашова. Это был один из первых наших заездов. Прикарпатье – довольно ровное место, и вокруг, как грибы после теплого дождя, – как-то разом появляются дома. Небольшой, аккуратненький такой городишко, тысяч 8-9 жителей, но сразу поражающий своей просто до неприличия удивительной чистотой. Какой-то неестественной, учитывая его местоположение, скудную землю и пустынные улицы. Примарь (мэр) города, молодой еще человек, хорошо знал моего спутника-министра еще с тех пор, когда тот, пройдя всю периферийную комсомольско-партийную лестницу, был первым секретарем (читай, первым лицом) Брашовского уездного комитета компартии. А Брашов – второй по величине город Румынии. Когда министр был секретарем, нынешний мэр работал в уКоме комсомола инструктором, потому и называл министра исключительно – «учителем». Примарь тоже прошел соответствующее обучение в нашей стране и, естественно, знал русский. На мой вопрос о том, как они добились такой чистоты в городе, или служба уборки какая-то специальная, или еще что-то есть особенное, примарь заявил, что в городе вообще нет службы уборки как таковой, зато есть своеобразная и высокоэффективная система слежения, предупреждения и профилактики.
Два раза в год, рассказал хозяин города, к нему приходит территориальный цыганский барон, самый главный городской цыганский авторитет. Из выделяемого бюджета на уборку города в 100 тысяч лей, он получает от примарии половину перед началом года, а вторую половину – перед началом второго полугодия. «И все, – закончил примарь, – я к уборке города больше не касаюсь».
На мои сомнения о том, что цыгане не столько убирающий, сколько мусорящий народ, примарь пояснил, что цыгане тоже не постоянно убирают, главное – они следят, т.е. оберегают порядок. Все улицы города "присматриваются", причем незаметно. Ну, к примеру, идет какой-то мужчина по улице и курит. Взял да и бросил окурок на тротуар. Тут же, откуда ни возьмись, к нему подлетает цыганенок, начинает вопить на всю улицу, через минуту к нему присоединяются еще несколько цыганят, вопли уже на квартал, и тут к малышам подтягиваются цыганки постарше. Все они окружают того бедолагу-курильщика, поносят разными обидными словами на всю улицу. Тот пытается как-то откупиться, чем вызывает еще больше возмущения и т.д.
Заканчивалось это обычно тем, что мужчина, бросивший окурок, возвращался и публично поднимал его, неся при этом и материальные потери, так как деньги у него все равно брали. Оплеванный, он спешил ретироваться куда-нибудь, лишь бы избавиться от общественных блюстителей порядка.
Или кто-то, к примеру, не побелил стволы деревьев на улице напротив своего дома. У всех побелены, а у него нет. К его дому подходила солидная группа цыган, выстраивалась амфитеатром и громко, нараспев, конечно, без ругательств и сильных оскорблений, начинала позорить того хозяина. В конце концов, он, сгорая от стыда, нанимал тех же цыган за трех -пятикратную плату – для побелки злосчастных деревьев. Главным во всем этом было то, что гарантировалась недопустимость повторного нарушения – жители чувствовали, что находятся под неусыпным надзором, но в хорошем смысле, сами понимали пользу для них же, поэтому не жаловались, более того, скрепя сердце, смеялись над теми, кто думал, что может перехитрить цыган.
Так что в этом городке больше следят за чистотой, чем убирают, а устоявшийся симбиоз цыган с властью, помог сделать городок удивительно чистым.
Еще одна полезная для меня встреча, на которую стоит обратить внимание далее сегодня, состоялась… в монастыре. Мы с министром продолжали турне. Выехали из Брашова рано утром, я за рулем, министр, как всегда, за штурмана. Путь в тот день лежал у нас на запад. И вдруг, проезжая город Сымбэта (суббота), министр хлопнул себя по лбу, а меня потом по плечу и почти прокричал: "Слушай, Василий, давай поворачивай назад, а на окраине города повернешь направо. Заедем к моему старому другу. И как я мог про него забыть!" Мы развернулись и через полчаса были в живописнейшем месте, у северного склона горы Молдовану (2550 м). Там расположен один из старинных ортодоксальных (православных) румынских монастырей, Брынковянский.
Главное монастырское здание много лет назад было разрушено мадьярами. В Румынии живет много мадьяр, и проблем их взаимоотношений с румынами, особенно в религиозном плане, хватает и сегодня. Румыны считают мадьяр-католиков практически всегда своими недругами, взаимная неприязнь существует , в какой-то мере, и по сей день.
Место для монастыря выбрано чудесное, у подножья горы, все изумрудно-зеленое – лес, луговая территория, колодец, точнее, святой источник с удивительной водой, ради которой сотни людей приходят к нему из разных ближних и дальних мест.
Встретил нас настоятель монастыря, они с министром лет десять назад олицетворяли власть в уезде Брашов. Министр, как уже было сказано, работал там первым секретарем уездного комитета партии, а нынешний монастырский глава – председателем уездного Совета народных депутатов. Им было, что вспомнить, и они вспоминали разное – и грустное, и веселое, веселое даже больше. Они навспоминали столько, что если бы записать все – на всю жизнь бы мне материала хватило. Вспоминали и совместных друзей, и врагов, а после обеда, плавно перешедшего в ужин, – даже совместных женщин.
Пусть это не будет смешным, но служитель культа тоже учился в СССР и тоже прекрасно общался по-русски. Чтобы закрыть вопрос языка, вынужден признать, что практически все начальники уездного уровня и выше, руководители различных НИИ, КБ и т.п., даже руководители отдельных хозяйств, как правило, обучались в нашей стране. И в партийных школах, и в других учебных заведениях. Мы в Советском Союзе учили многих людей из бывших соцстран, другое дело, чему научили, да и чему они сами научились.
Архимандрит рассказал, что монастырь удалось сохранить с величайшим трудом .Само здание полностью уничтожено, остались одна часовня, пару сараев. Постепенно начали возрождаться с самого необходимого, и вот теперь замахнулись на строительство нового монастырского здания, как он выразился, "чел май супер", просто не нашел в своем русском словарном запасе синонима. Мы ходили на стройку, где уже поднимали стены. Проект – грандиозный, современные материалы и технологии, дизайн, акустика и все сопутствующее.
Я уверен, что новый Брынковянский монастырь уже много лет работает, но тогда только начали поднимать стены. Когда, рассказывал дальше архимандрит, он почувствовал, что его скоро "уйдут" с поста председателя уездного Совета, не без помощи завистников и угодников, окружавших в то время верховную власть, которые по четным числам возносили Чаушеску, а по нечетным делали все, чтобы его опорочить, он начал думать, как жить дальше. Идти вверх – дорога заказана, идти вниз – гордость не позволяет, да и в честь чего. Выехать за рубеж – кому там нужен, ну, возможно, примут на уборку улиц или еще какую-то грязную и тяжелую работу. Одно время даже растерялся, пить начал. И тут подвернулся один старый знакомый монах. Он и посоветовал, несмотря на все грехи, очиститься от них, обратившись к Богу. Монах понимал, что истинное очищение вряд ли возможно, но если переломить себя и стать на путь иного понимания жизни, почувствовать нужность людям, тягу к добру и милосердию – может все получиться. Здесь все будет зависеть только от себя самого. А какое замечательное место пока свободно – сам Брынковянский монастырь. И хоть от него осталось только название, место это святое, а свято место пусто не бывает. Советую тебе взять под себя этот монастырь, уверен, что не пожалеешь. Начинать будешь не с нуля, там еще присутствует дух святой, и не только.
Архимандрит рассказал, как вложил все свои сбережения и сбережения всех родственников, в восстановление практически уничтоженного монастырского хозяйства. Собирал верных людей, в основном, молодежь, постепенно организовал коллектив – и верующих, и здравомыслящих, и верных ему и монастырю людей. Когда восстанавливали часовню, оказалось, что двое молодых монахов окончили художественную школу, и довольно неплохо рисуют. Они восстановили росписи стен, сделали интерьер и даже попробовали писать иконы, для себя, для нужд монастыря. Получилось.
Архимандрит вспомнил, что несколько лет назад у него был то ли сон, то ли видение ночью, и как будто кто-то ему подсказал, что есть у него (архимандрита) два главных источника будущего благополучия – вода из святого источника и иконы. Это его две золотые жилы. А что было делать? Прихода нет, никаких финансовых поступлений нет, одни расходы. Завели свое подсобное хозяйство, дабы прокормиться, а как развиваться? За счет чего?
Он решил попробовать продавать иконы. Иконы этого монастыря – особенные. Если русская иконопись базировалась на дереве, то брынковянская – на стекле. Икона пишется прямо на стекле, причем как бы наизнанку, с тем, чтобы с лицевой стороны изображение было четким и ясным, как бы выглядывало из стекла. Занятие это оказалось сверх трудным, дело доходило до того, что несколько иконописцев периодически попадали в психбольницы, но дело пошло. Первые десять икон, выставленные на каком-то конкурсе в Бухаресте, имели оглушительный успех и ушли с аукциона по невиданным для соцреализма ценам. Постепенно образовалась своя неповторимая школа, монастырские иконы, и как религиозные, и как художественные произведения, стали желанными на любом солидном аукционе или выставке.
"Сегодня, образно говоря, – смеялся архимандрит, – я везу на выставку чемодан икон, а возвращаюсь с чемоданом долларов. Вот так и пошло. Сегодня из 27 человек нашей монастырской семьи – 8 художников, да пара учеников. И они нас вполне устраивают. Мы не делаем церковный ширпотреб, мы производим иконы-картины".
В небольшой пристройке нам показали "святая святых" – коллекцию икон, где-то около сотни. В центре экспозиции – большая икона, где в лучах солнца – славы, на фоне удивительной природы возвышался тогдашний вождь румын, тот самый несчастный Николае Чаушеску. Выполненная в стиле иконы, картина действительно впечатляла. "Мы выполнили две таких работы, показали Чаушеску, естественно, как картины с подтекстом. Он одну выбрал себе, другая висит здесь. Потом он сам к нам приехал, все посмотрел, одобрил, дал соответствующие указания своим идеологам, и с тех пор я стал по-настоящему хозяином своего дела, – продолжал архимандрит, – теперь у меня, хотя и маленький, но свой вертолет. В Брашове стоит в постоянной готовности. Есть машина немецкая, я на ней добираюсь до Брашова, а там -на вертолете – до Бухареста. Дальше – куда надо. Когда Чаушеску посещал монастырь, я уже, как духовное лицо (он же меня прекрасно знал еще по уездному Совету), сказал ему то, что боялись говорить другие. Я сказал, что, на мой взгляд, власть, т.е. компартия, воюя с религией, с той, настоящей, веками устоявшейся, а не с отдельными сектами, совершает очень большую ошибку. Пока мы с партией воюем, третьи силы, причем, явно недружественные к обеим сторонам, используют ситуацию и потихоньку отнимают у нас паству, особенно молодых людей. Скоро это нам аукнется».
«И что вы думаете? Вождь со мной согласился. Может быть, за столом, в гостях, но согласился", – закончил архимандрит.
Много лет прошло с тех пор. Нет тех вождей, не знаю, живы ли участники этих моих встреч, но я и сегодня помню слова того "монаха поневоле" и готов подписаться под ними сейчас. Ради мощи государства, ради блага людей и мира, можно идти навстречу, чем-то поступаясь, любым силам, лишь бы цели у них были про государственные, и все они работали в одном направлении.
Если Брынковянский монастырь и сегодня здравствует и остается в нашей вере, – я ему и его посетителям-прихожанам желаю многие лета.
Но наше турне с министром продолжалось. Из всех десятков встреч на разных уровнях, хотел бы выделить еще один эпизод, суть которого, легла в название этой были.
Мы находились в северном уезде Сучава. Это – зона интенсивного картофелеводства,. Министру позвонили из Бухареста и сообщили, что поезда, наконец-то, пошли, и наши билеты прокомпостированы на софийский поезд завтра в ночь.
"Ну, слава Богу, – сказал мой сопровождающий, – рано утром двинем на Брашов, а там – в Бухарест, а то от всех этих "встреч" сердце начало покалывать".
Я деликатно промолчал, хотя не знал, кто из нас был больше рад этому известию.
Но авантюрный характер министра не дал нам спокойно, безо всяких "встреч", добраться в Бухарест. В районе Брашова, он вдруг заявил: "Съезжай с трассы, сейчас навестим мое родное село. Давно там уже не был, да и достали меня земляки до предела".
Заехали в село, небогатое, люди бедно одеты, на улицах – единичные прохожие. Министр вышел возле примарии, зашел туда без меня, через минуту вышел возбужденный и показал, куда ехать.
Какое-то деревянное хранилище на сваях, человек двадцать мужиков пересыпают картофель из мешков в отсеки-хранилища.
Мы подошли. Увидев именитого земляка, к нам потянулись мужики, стали полукругом метрах в пяти, поздоровались. Возраста разного, были и ровесники министра.
А он, без подготовки, сразу на них набросился: такие сякие (ну, какой там у румын мат, так – детский лепет), меня из-за вас не только Чаушеску, меня любой партработник в Бухаресте позорит, мол, как это так, в твоем родном селе нет коммуны? В одном селе на всю Румынию! Это не позор? Как вы вообще живете без коммуны? Вот ты, сосед мой, Ионел, как ты живешь без коммуны? Расскажи!
Сосед снял фуражку и начал медленно говорить, как будто специально для меня: "А вот ты объясни. Мы в мае собираем черешню, раннюю, потом вишню – везем в Брашов, продаем, пьем немного цуйки. Едем домой, спим с женой. Потом собираем абрикосы, персики, опять продаем, пьем и спим с женой. Потом…"
"Хватит!, – закричал министр, – потом скажешь, что копаете картошку!"
"Да, это у нас главное. Копаем картошку, везем в Брашов, продаем, пьем много цуйки, едем домой – и долго спим с женой, аж пока черешня снова поспеет," – закончил Ион.
Я еле сдержался, отвернулся и закашлялся, иначе бы обязательно рассмеялся.
"А пошли вы…, – по-русски выругался министр, – жалко, что я спешу, и гость у меня из месесер. Я еще приеду. Поехали, Василий".
Мы долго ехали молча. Где-то перед Брашовым, он спросил; "Ты все понял?" "Все," —честно ответил я. Мы приехали в Брашов, пересели в машину министра, уже с водителем забрали наших специалистов и отправились через хребет в Бухарест. Никто больше не проронил ни слова .
К поезду министр приехал, попрощаться. Поблагодарил за все – и за дело, и за песни под баян, и за веселые истории, которых у нас, россиян, конечно, больше, чем у румын. Я тоже поблагодарил его за все, а главное – за то, что по-новому узнал эту страну, где тоже живут такие же люди, которым не всегда везло на верховную власть, но они-то в этом не виноваты.
А без коммуны на селе жить можно, только КАК?
Хороша страна Болгария
Для кого-то этот материал покажется «преданьем старины глубокой», а для меня –это было, как будто вчера….
Ровно 40 лет назад, в начале лета 1982 года, меня пригласил первый секретарь Слободзейского райкома партии, Проценко В.А. и сообщил, что , согласно доведенного «свыше» распоряжения, в порядке международных культурных связей, и в целях обмена опытом, от нашего района будет направлена рабочая делегация в Болгарию, в количестве трех человек –Цыбульский Ф.С., в то время –начальник районного управления сельского хозяйства, курирующего совхозы района, одна передовая доярка из колхоза им. Мичурина, Анна Кожемяченко – и я, в то время –заместитель председателя райсовета колхозов по экономике. Возглавлять делегацию , бюро райкома партии решило поручить мне.
Естественно, предложение было приказом и обжалованию не подлежало. Да и что тут было обжаловать –работа есть работа, надо- так надо. Мы же не гулять туда поедем.
Я посчитал тогда, что поручив возглавить делегацию от такого района, как наш, да еще за рубеж, пусть даже и в Болгарию, меня, таким образом, проверяли на прочность. Всего несколько месяцев прошло, как я возглавил аграрную экономическую службу района и, поэтому выбор меня, наверняка, был не случайным.
Имея определенный опыт комсомольско-партийной работы, понимал, что все это не так просто, как кажется со стороны. Быть старшим в отправляемой за рубеж группе, значит нести ответственность не только за каждое сказанное слово, но и за каждое действие ВСЕХ её членов. А это уже чревато…
Я хорошо знал Федота Спиридоновича Цыбульского, почти ежедневно с ним общался по разным вопросам, а вот Анну из Ближнего Хутора, практически не знал. Видел несколько раз на различных мероприятиях, но не общался. Ну, придется познакомиться, нам две недели быть в одной команде. В этом плане –проблем не ожидалось.
Итак, -мы знали –кто едет, куда мы едем и когда едем. Естественно -готовились. И нам было что представить, кому угодно, в любой стране, большой или маленькой, передовой или отсталой. Наш район в то время, по праву лидировал среди других аграрных районов всего Советского Союза, по многим производственным показателям и экономической мощи. Можно сказать, что в плане «физической» части – наша группа была полностью готова….Но оставалась еще часть «Моральная». Стыдно было ехать в гости с пустыми руками….
Ну что мы могли тогда повезти в подарок?. Я долго об этом думал и никак не мог определиться окончательно. Потом решил поднять «планку» на высший уровень. Стоял у меня в кабинете белый гипсовый бюст В.И. Ленина. Я ему придал соответствующий моменту вид, в Тирасполе, в мастерской, сделали красивую металлическую табличку с надписью: «Братскому НПК им. Г.Димитрова, от Слободзейского района Молдавской ССР». Табличку прикрепили к бюсту. Получилось очень неплохо. С подарком определились. На большее –ни фантазии, ни возможностей, не хватило….
Через пару дней, меня вызвали в ЦК Компартии Молдавии, на инструктаж по поводу поездки за рубеж. В отдел организационно-партийной работы, где проводился инструктаж, я опоздал на полчаса. «Что, опять скажешь, что машина сломалась?!»-язвительно спросил заведующий отделом. Я ничего ему не ответил, просто подозвал к окну. Внизу, сзади здания ЦК, стояла моя машина с четырьмя спущенными колесами….
Просто не могу не вспомнить об этой дикой ситуации. На работе у меня была служебная машина , «ЖИГУЛИ», первой модели и первого выпуска. Её у кого-то реквизировали и «подарили» совету колхозов. Это была единственная служебная машина такой марки в районе. Было ей уже более 10 лет, часто ломалась. Ни одной, даже маленькой запасной части для такой марки машин, в Сельхозснабе не было. Чтобы заменить какую-нибудь сломавшуюся мелочь, надо было идти в частный автосервис, и покупать дополнительно еще десяток чего-то ненужного.
Особенно проблемными были автопокрышки. На этих Жигулях, все пять колес, были «лысыми» и тонкими, как газетная бумага. Не то, что гвоздь, а любой острый камешек, выводил колесо из строя. Ни один водитель не хотел на этой машине работать. Бывали дни, когда я по 5-6 раз перебортировал пробитые колеса, был даже «рекорд» в один день-11 раз!
Причем –я же камеры не клеил! А зажимал пробитые отверстия копейками. В багажнике машины имелось десятка три 3-х копеечных монет, они лучше всего подходили для таких целей. С помощью плоскогубцев – я их сгибал и ремонтировал камеры. Так получилось и в тот день, когда меня вызвали в ЦК. Пока доехал до Кишинева – трижды (в белом костюме!) перебортировал колеса. С высоты возраста, могу сказать, что такое могло быть только в нашей стране. Какой бы я там не был, хороший или плохой, но возглавлял экономическую службу района, который производил продукции на 150 миллионов настоящих советских рублей, получая при этом 50 миллионов рублей прибыли в год и…каждый день занимался пробитыми колесами.
И меня позорят за опоздание на такой важный инструктаж, за несознательность….
На семинаре мне напомнили все 10 заповедей из морального кодекса строителя коммунизма, добавили часть похожих заповедей из закона Божьего –типа- Не пей, Не убий, не прелюбодействуй и т.п. и добавили стандартное в данном случае предупреждение – не петь «Хороша страна Болгария, а Россия –лучше всех!», мол болгары этого не любят.
После того инструктажа, мне, честно говоря, расхотелось ехать за рубеж, но меня об этом никто не собирался спрашивать….
Наш город Тирасполь, очень удачно вписывался в нашу предстоящую поездку. Поезд Москва-София, проходил именно через Тирасполь. В Тирасполе –сели в вагон, в Софии -вышли. Красота! Тем более лето. В Софии пересели на Пловдивский поезд и после обеда -были на месте!.
Хорошо, что это была Болгария! Начали искать способы доставки нас в НПК им.Г.Димитрова. Вначале -ничего не получалось. Дело в том, что мы произносим аббревиатуру НПК –ЭН-ПЭ-КА, а болгары это же произносят – НЕ-ПЕ-КА. Пока мы эти нюансы выяснили –пару часов ушло. Но потом разобрались, созвонились и прибыли в офис комплекса.
В те времена, главной организационной (рабочей) структурой в Болгарии, были АПК (Агро-производственные Комплексы) и отдельно – Научно-Производственные Комплексы, в один из которых, мы и прибыли с визитом. НПК им. Димитрова в Пловдиве, был тогда одним из ведущих в стране, не зря его Генеральный директор, Герой Болгарии, был одновременно и заместителем министра сельского хозяйства.
В состав НПК, входили два научно-исследовательских института (Овощеводства и Садоводства) и ряд опытно-производственных хозяйств.
Когда нас привезли в офис НПК, Генеральный вышел нам навстречу и пригласил к себе в кабинет, спросил, как доехали и задал еще пару вопросов, применительно к текущему моменту.
Я доложил, кто мы, кого представляем и, какая перед нами была поставлена задача (дома). Естественно , представился сам и представил своих коллег по делегации.
Генеральный, кратко охарактеризовал предлагаемую ими программу нашего пребывания, сказал, что могут быть какие-то небольшие коррективы, по ходу визита, но о них мы будем извещены заранее.
Потом сказал, что ждет нас завтра на расширенной совместной встрече со специалистами НПК, а пока предложил поехать и устроиться в гостинице.
Поселили нас в приличной гостинице –«Ленинград». Выделили всем по отдельной комнате, но мы с Федей (Федотом Спиридоновичем, мы тогда называли друг друга по имени), попросили, чтобы нам выделили на двоих двухместный номер, зачем нам такой шик. Хозяева согласились. Так мы и жили весь период пребывания в Пловдиве, мы –вдвоем –Аня – в отдельной комнате.
На следующий день, в приемном зале, состоялась наша первая рабочая встреча с руководством НПК.
Директор выступил с информацией об НПК в целом, потом остановился на отдельных направлениях –научных, исследовательских и производственных, познакомив таким образом нас со структурой этой солидной организации, видами деятельности и достижениями НПК по ведущим направлениям.
В ответной информации, я рассказал о районе, который мы представляем, о системе межхозяйственной кооперации, освоенной в Молдавии, в том числе в нашем районе, по механизации, электрификации, химизации, мелиорации, орошению и других направлений, о новой системе внедрения межхозяйственных севооборотов и контактной работе с НИИ овощеводства и орошаемого земледелия, который расположен на территории района.
Директора и ведущих специалистов Комплекса заинтересовало внедрение межхозяйственных севооборотов и есть ли в этом рациональное зерно. Мы –разъяснили и привели конкретные примеры. Убедили.
При ответах на вопросы, в беседу вступил Цыбульский Ф.С.. Мы с ним, не сговариваясь, приняли на себя такое разделение труда:– у меня вопросы экономики, организации, управления и все, что с этим связано, у него –вопросы производства, технологических процессов, селекции, семеноводства и всего, что связано с этими направлениями. По прошествии времени, да и в то время, могу заверить читателя, что наш с ним «тандем», не подкачал ни разу, ни по какому направлению и даже –без направлений….
В нашей «тройке», как бы это странно не звучало, Аня играла- роль «коренного», опорного, если так можно выразиться. Она была флажком, символом нашей группы. Никто её о технологии доения коров не расспрашивал, плодоовощеводов это не интересовало. Для нас она была –просто замечательной, трудолюбивой и порядочной девушкой, «нашей Аней», для болгар –она была символом всего основного работающего класса нашего района, показателем того, что в Слободзее живут и работают не только экономисты и агрономы, как мы с Федей, а еще и те, кто своими руками производит все то, чем наш район гордится.
Представляя Аню в местах нашего появления, специалисты НПК не говорили, что она передовая доярка в нашем районе или что-нибудь подобное, а обязательно подчеркивали, что она -ОРДЕНОНОСЕЦ! Наверное, потому, что в Болгарии тоже было много достойных женщин, а вот орденоносцев – мало…..
Программа нашего посещения НПК, была очень насыщена, но разумно построена. Каждый день пребывания делился как бы на две части половину дня мы тратили на ознакомление с работой НПК, а вторую половину –на ознакомление с замечательным городом Пловдивом и его окрестностями. Такое удачное сочетание –не утомляло и не надоедало, наоборот- привлекало своим разнообразием.
Наиболее важные, по мнению хозяев, направления, к примеру оба НИИ –Овощеводства и Садоводства, представлял сам генеральный директор, кстати очень грамотный, порядочный и понимающий специалист и Человек. Сам ученый агроном, он нашел себе такого же понимающего собеседника, как наш Федот Спиридонович, и они активно и по-деловому обсуждали различные технологические и сопутствующие этому вопросы, отлично понимая друг друга.
При посещении НИИ овощеводства (он расположен на западной окраине Пловдива), меня больше всего заинтересовала не высокая культура земледелия, в нашем НИИ была не хуже, а привлекло внимание два момента- впервые увидел сладкий перец, не привычной для меня по крайней мере, формы – небольшой куст и плоды остроносые, большим букетом и носиками вверх, а не вниз, как обычно у сладкого перца с овальными плодами.
Но главное, что я увидел там- система капельного орошения. Я о ней слышал, читал. Но вживую не видел. Глядя на тонкие трубочки, по которым дозировано и по определенному времени, под корень растения поступает вода, я естественно, со стыдом и горечью вспомнил, как мы, у себя в районе, относимся к этому самому «орошению». Мы же «богатые», у нас воды –целый Днестр, лей хоть по колена, пока трактор с дождевалкой, не забуксует. Сколько раз приходилось принимать на себя негатив, вмешиваясь в ситуацию, когда идет проливной дождь, вода и так стоит по всему полю, а поливные агрегаты вовсю работают, потому что поливальщики не хотят терять зарплату….Бывали дни, когда масса воды в основном -просто перекачивалась, из Днестра- в Днестр….
Мы, конечно, не «хвалились» своими районными бедами, а только «достижениями». От нас, да и от тех же болгар в то время, требовали ПРОДУКЦИЮ, а во что она обходилась в экономическом плане – никого не интересовало. За снижение себестоимости и экономическую эффективность, орденов и машин не давали, только- за ВАЛ.
В НИИ садоводства (он –находится на восточной окраине города), нас чем-то особым не удивили, кроме разработанного у них набора приспособлений для уборки фруктов. Директором там был не садовод, а инженер-конструктор, под его руководством и была разработана новая система уборки.
Упрощенно это выглядело так- снизу, с опорой на ствол дерева, устанавливался большой , на всю площадь под деревом, конусообразный своеобразный «зонтик» из прочной ткани, острием вниз. Затем к дереву подъезжает небольшой трактор со специальным вибратором, работающим от вала отбора мощности трактора. Вибратор специальным устройством, захватывает дерево, включается вращение, вибратор буквально трясет дерево, несчастные плоды (по идее и заверению конструктора), падают в тот зонт-приемник, затем пересыпаются в транспортное средство.
Нам показывали сам процесс, на живом молодом дереве, но без плодов, было только начало лета и трясти было нечего.
Мы с Федей тогда выразили сомнение в применении такого устройства . Понятно, что стрясти плоды вполне возможно, тем более, с молодого дерева, но, что будет потом с САМИМ деревом?!. После такой тряски у него обязательно нарушится физическая связь с грунтом и на том его жизнь, может не с первого захода, обязательно станет проблемной. Автор изобретения, он же директор НИИ, уверял нас, что наши опасения напрасны. Не убедил. И вряд ли такое «новшество» где-то применялось позже в самой Болгарии….
Не буду в хронологическом порядке освещать все наши встречи и посещения отдельных направлений , научных и производственных участков НПК. Все, что было запрограммировано радушными хозяевами в этом направлении –было исполнено. Мы не просто созерцали нам представленное –мы работали, обсуждали, предлагали, рассказывали, как те или иные подобные действия осуществляются у нас, и по-хорошему высказывали свое мнение, чем больше располагали к себе тех специалистов, которые с нами занимались.
Они тоже не упали с неба и мы, понятное дело, были у них не первые гости, но по ходу наших встреч, они явно почувствовали, что мы не просто «гости», как раньше ерничали отдельные шутники – приехавшие «по обману опытом», а мы простые, понимающие люди, с которыми можно и приятно общаться.
Расскажу об отдельных моментах наших «непроизводственных» встреч. Болгария- красивая страна, с горами, покрытыми лесом, с сотнями разных речек, текущих с гор –к Дунаю, и к морю. Красив и приятен сам город Пловдив, в котором мы жили.
Он стоит, как бы на трех горах, разбросанных недалеко друг от друга. На одной из них, самой высокой, стоит памятник русским солдатам-освободителям, известный, как памятник солдату «Алеше». К памятнику есть дорога, и мы поднимались по ней. Я стоял у постамента, каменный сапог солдата, находился на уровне моей головы, протянул руку и погладил тот сапог на память…
От этого памятника, открывается прекрасный вид на весь Пловдив и его окрестности. И сам памятник виден за десятки километров. Знаковое такое, Святое место.
Посчастливилось нам побывать и в знаменитом Бачковском монастыре, что в 30 километрах от Пловдива. Удивительно красивое труднодоступное место, в котором разместился этот второй по величине, но, скорее всего –первый по значимости, монастырь, которому во время нашего посещения, было 899 лет!. Особенно запомнилось само место вообще, обилие замечательных фресок в византийском стиле, вкуснейшая родниковая вода, постоянно изливающаяся с обеих сторон при главном входе, и огромный зал музей – столовая, сохранившаяся с прежних времен, где стены и потолок украшены замечательными фресками, вдоль почти всего зала стоит длинный стол, а по обеим сторонам его такие же длинные скамейки. Здесь прежде справляли трапезу монастырские послушники.
Очень приятно поразил меня и старый Пловдив. Уютные удобные, в основном небольшие дома, оригинальные балконы с подпорками от стен, нехитрая полезная домашняя утварь прежних времен, как-то по- домашнему, по-дружески , притягивает взор и навевает какие-то приятные воспоминания из нашего детства.
Приятный город Пловдив, второй по величине в Болгарии, есть там, что посмотреть и запомнить.
Посчастливилось нам побывать и в центральном ресторане города – «ТРИ МОНЦИУМ» (Три горы). Самое замечательное в этом заведении –огромный, в половину футбольного поля, внутренний двор – зал, с большим количеством столиков и под открытым небом. Были мы в нем во время обеда, днем. Хозяева рассказывали, что этот зал очень красив в ночное время. Пришлось поверить им на слово….
Интересный момент был в последний вечер, перед нашим отъездом. Генеральный директор повез нас на прощание к своему давнишнему другу, директору ликеро -водочного завода в городе Асеновград, что в 19 километрах от Пловдива.
Небольшой, красивый, уютный городок, за обилие церквей, называемый «Болгарским Иерусалимом». И в нем – завод с такой приятной продукцией, как ликеры и водки. Честно говоря, мы уже настроились ехать домой, да и ежедневные вечерние «приемы» уже особо не привлекали, но- в последний день надо было держать марку….Нас пригласили в дегустационный зал….
Директор того завода, белый, как лунь, оказался добродушным хозяином и выставил нам, что мог лучшего, по крайней мере нам так показалось. Из его рассказов мы поняли, что он не просто большой знаток горячительных напитков, а и дипломированный и известный в мире их дегустатор.
Он похвалился, что на недавнем конкурсе подобных напитков, проходившем в одной из европейских столиц, их водка (старый брэнд, оставшийся еще с царских времен)– «Смирновская», заняла первое место.
Я, по простоте душевной, выразил сомнение что их Смирновская (мы её уже пробовали в Болгарии) лучше нашей, недавно появившейся тогда в Союзе водки, -Пшеничной или прежней- Столичной…
В ответ на мое высказывание, директор, что-то куда-то сказал , и тут же в стене открылась ниша, в которую было видно, как по ленточному транспортеру, к нам поднимаются полные бутылки, без этикеток.
Через несколько минут, директор поставил передо мной круглый поднос, где стояло более десятка стаканов, с налитыми примерно на палец, прозрачными жидкостями. Скорее всего, это были водки разных марок, в том числе и советских, наверное. Он предложил мне попробовать их и оценить по качеству.
Я посмотрел на эту батарею стаканов, потом посмотрел на незнакомого молодого парня, сидящего на краю стола, явно представителя каких-то надзорных органов, наших или болгарских и почувствовал, что это самый ответственный момент в нашей командировке….
Если я «продегустирую» даже половину из тех стаканов, то неизвестно, чем все закончится. А директор ждал….Надо было что-то делать…И ведь есть еще Его величество –Судьба!…
Взял один стакан, посмотрел в него, а там какие-то пятна плавают, похожие на масляные….На мой вопрос- что это, директор объяснил , что это водка у них такая , «Мастика». Меня как осенило сразу –говорю -хотел попробовать вашу продукцию, но теперь – не могу. Вы как сказали Мастика, у меня сразу аппетит пропал на все спиртное. Дело в том, что у нас, мастикой полы натирают, чтобы блестели, сказал я, давая как бы понять, что вопрос дегустации , таким образом , красиво закрыт и я согласен на «ничью» в споре о том, чья водка лучше. Обошлось….напоследок.
Хорошая и красивая страна Болгария. Живут в ней в большинстве своем добрые трудолюбивые отзывчивые люди. Добросовестно работают, а живут, по большому счету, бедно. И не только потому, что нет таких деньгами текущих источников, как нефть, газ и другие природные богатства, а главным благополучием, она (страна) обязана своему месту, замечательной земле, приемлемым климатическим условиям и труду своих Граждан. Богатство Болгарии всегда приходилось делать своими руками, а это очень непросто. Тем более, когда вокруг тебя (страны), очень много желающих тебя поработить, и в переносном, да и в прямом смысле. Вытирают об неё ноги все кому не лень и кто посильнее и понаглее.
Период, начала восьмидесятых годов прошлого века, как раз во времена нашего там пребывания, по моему мнению, был лучшим в истории этой страны. Россия (СССР) в то время, помогала строить в Болгарии промышленные предприятия, электростанции, заводы по переработке сельхозпродукции и т.п. Более половина экспорта всех видов продукции, приходилось на Советский Союз. Овощи и фрукты, консервы, табак и сигареты, мясо и рыба –что только не поставляла Болгария нам, в Союз и без всяких квот и ограничений, диктуемых по линии ЕС , болгарам уже в наше время.
Сегодня Болгария, как и многие страны бывшего, Восточного блока, получила в порядке компенсации за развал и обнищание –право выезда в страны ЕС, чтобы там, простите свободно …побираться или наниматься на низкооплачиваемую работу.
Но вернемся к завершению нашей рабочей командировки. Мы тепло попрощались с руководством НПК . На заключительной встрече, подвели итоги, обе стороны посчитали их удовлетворительными и поблагодарили друг друга за все. Каждый из нас взял для себя что-то новое, полезное. Собственно, ради этого и проводилась наша с ними встреча.
Нас подвезли в Софию на машине, дальше мы отправились на поезде София-Москва. Здесь у меня произошел еще один случай, о котором, кроме меня, больше никому не известно.
Когда у нас на работе, в Слободзее, узнали, что я буду ехать в Болгарию, естественно, через Румынию, то один из работников дал мне 200 румынских лей. Кто-то из родственников приезжал к нему в гости, ну и оставил их, просто для того, чтобы знали, какие у румын деньги. Я с неохотой взял эти две сотни, не зная, их истиной ценности. Не надо было этого делать, но не смог отказаться, да и выбросить не мог, а вдруг это много. Меня в Кишиневе предупредили за валюту. Куда там! Политическое дело! Последствия и т.п..
Прости, читатель за минутную слабость. Взять-то я взял эти леи, а куда их девать?.Будут искать -найдут, им хоть двести, хоть миллион- все одно зацепка… Когда сели в Тирасполе в поезд, я пошел, простите, в туалет, открутил на потолке пару шурупов на обшивке, положил туда те несчастные леи, поставил все на место и спокойно пересек две границы –в Румынию и из Румынии.
Когда переехали Дунай и вошли в Болгарию , я забрал те леи и положил в карман, никому они уже не были нужны из проверяющих.
На обратном пути, я их уже не прятал. Приехали в Бухарест, ночью. Никто из всего состава, на перрон не вышел, один я, сжимая в руках двести лей и, намереваясь купить, если не весь торговый киоск, то хотя бы половину….
Подошел к ближайшему киоску, заглянул, осмотрел прилавок и полки. Нам в купе нужен был хлеб. Хлеб там был, красивый большой белый батон. Я указал на него пальцем, потом увидел блок пластинчатых жвачек(у нас тогда делали квадратные, а на западе- тонкие пластинчатые), указал на них и важно произнес –«ачеаста, ачеаста, ши ла тот», что примерно «это, это и на все…», просовывая в окошко свои 200 лей.
Продавец-женщина, дала мне булку хлеба, потом отсчитала с десяток тех плоских жвачек, и все….Момент огорчения у меня быстро прошел, потому, что из всего поезда, по перрону к своему вагону гордо шагал я, один, под завистливые взгляды советских туристов из всех вагонов, прижимая к груди , одной рукой большую булку хлеба, а в другой –сжимая десяток жевательных пластинок….
Был тогда еще один момент, на советской таможне, уже в Унгенах. Пока менялись бригады, я разговорился с одним советским таможенником, который перед этим очень тщательно досматривал наши вещи, особенно, если было что-то новое, необычное. Когда вышли на перрон, я поинтересовался, почему они нас так «перетряхивали», когда у нас ничего нет.
Таможенник рассказал, что был случай с делегацией как раз из нашего района, зимой, несколько лет назад. Тогда делегация тоже была от района, не знаю, по какому профилю, но представлялась от Республики (МССР). Когда здесь же на таможне, у них спросили- откуда у них новые дубленки, ондатровые шапки, дорогие сапожки, они сказали, что им подарили в Болгарии, как представителям Молдавии.
Таможенники уточнили в Кишиневе, что за делегация была в Болгарии и по чьей линии из Республики. Когда из Кишинева пояснили, что никто от Республики в ближайшее время в Болгарию не направлялся, то всю эту горе-делегацию раздели и разули. Её руководитель поехал домой в комнатных тапочках. Вот так, сказал таможенник, теперь проверяем серьезно. Сами заработали….
Наша группа благополучно вернулась домой, конечно же, с массой хороших впечатлений.
Где-то, кто-то в партийно- хозяйственной цепочке, естественно поставил галочку о выполнении такого-то мероприятия по линии межгосударственных связей, как «выполнено», а для нас, участников этой командировки, это было одним из ярких знаковых жизненных событий. И спасибо Судьбе за это!
Естественно, по прибытию ,мы доложили районному руководству о наших действиях за рубежом и передали приветствие и благодарности от руководства НПК за наш визит.
Я до сих пор с благодарностью вспоминаю моих коллег по той поездке. Цыбульского Ф.С. и Анну Кожемяченко. 40 лет прошло, а память благодарна им до сих пор, именно по той поездке. Федота Спиридоновича я более, чем уважаю и как классного специалиста и как прекрасного Человека, а судьба Анны мне сегодня неизвестна. Буду искренне рад, если у неё все просто нормально.
Причащение
Возможно, я кого-то повторю, но это абсолютно неважно. За прожитые годы, кроме всего прочего, сделал для себя вывод: соприкасаясь, пусть даже на небольшое время с чем-то (с кем-то) значительным, или значимым, тем более, великим или гениальным, человек всегда только находит и никогда не теряет. Пусть все в мире относительно, пусть идет постоянная переоценка ценностей, все равно – великое остается великим. Философские размышления по этому поводу появились у меня еще в далекой уже молодости и подтвердились с годами.
В конце пятидесятых -начале шестидесятых годов прошлого века, довелось мне служить в Москве, в одном специализированном военном учебном заведении. Был я командиром учебной смены, вел отдельные дисциплины военной подготовки и круглосуточно находился вместе с курсантами. Кто это прошел, знает, какой это хлеб, тем более в Москве, под боком у штаба округа и Министерства обороны Союза.
Согласно гарнизонному графику, вверенной мне тринадцатой курсантской смене, два раза в месяц, выпадало суточное обеспечение караульной службы на одном из военных объектов Москвы. Казалось бы, что здесь особенного? Обычный караул, каких ежедневно осуществляются многие тысячи? Но. Вопрос, где и как, при каких обстоятельствах это происходит?
Дело в том, что наше учебное заведение базировалось в Бирюлево, сегодня это район Москвы, кольцевая дорога проходит именно по окраине так называемого Бирюлево-пассажирского, а раньше, когда эта дорога была еще в проекте, а затем долго строилась, Бирюлево входило в Москву условно, было, просто – областного подчинения.
И в этом тоже нет ничего необычного – большая Москва поглощала в те времена сотни пригородных сел и поселков, «очертив» свой новый ареал кольцевой дорогой. Необычным был маршрут, по которому каждые полмесяца ездили наши курсанты, в том числе и моей смены, на караульную службу.
Если представить себе Москву в виде такого огромного городского пятна на карте, как принято – с югом внизу и севером – вверху, то, чтобы добраться до места караула, нам каждый раз приходилось «рассекать» огромный город посередине, примерно на две равные части.
И вот реалии: наша база в Бирюлево находится на самом юге Москвы у кольцевой дороги, а объект охраны – почти на севере города. Наш маршрут был следующим (если брать только узловые места): Каширское шоссе, Варшавское шоссе, Большая Ордынка, Красная площадь, улица Горького, Ленинградский проспект и, наконец, улица Беговая. Там, в районе генерального штаба Минобороны, и находился наш объект. Молодые, конечно, не знают, что раньше по Красной площади ездил транспорт, в том числе и мы, в караул и обратно.
Вроде бы тоже все обычно, если едем из дома, то по улице Большая Ордынка, по Васильевскому спуску, мимо того места, где позже построят (а в настоящее время разрушат) гостиничный комплекс «Россия», мимо штаба Московского округа, храма Василия Блаженного, Лобного места, памятника Минину и Пожарскому, вдоль ГУМа, напротив Мавзолея (тогда Ленина-Сталина) и Кремлевской стены с упокоенными выдающимися людьми, мимо Исторического музея (сейчас там построена церковь и проезда нет), мимо элитной (ныне разрушенной под реконструкцию) гостиницы «Москва», музея В.И.Ленина, здания ЦК КПСС с Домом Советов, мимо Главпочтамта, Моссовета и т.д. – до Беговой.
Правда, впечатляющий маршрут к месту караула? И вот именно тогда, где-то уже на втором моем выезде в караул, я почувствовал какой-то внутренний дискомфорт, вроде как виноватым себя, что ли (такой у меня несносный в этом плане характер), перед всеми остальными сменами, группами, взводами, на всей огромнейшей территории Советского Союза, которые тоже в это время, с учетом часовых поясов, двигались к местам своей караульной службы. Одни где-то в тайге или тундре, по бездорожью при сильнейшем морозе, другие в песках, при ужасной жаре, или в горах, болотах, и еще в тысячах мест, тысячах маршрутов, и все они отличались от моего.
Мой маршрут шел через сердце моей Родины. Какой-нибудь командир, находящийся сейчас, как и я, в кабине автомобиля, и многие тысячи из тех, других солдат, рассаженных, как и мои курсанты, на досках, в обтянутых брезентом кузовах, трясясь на ухабах или буксуя в песке, наверняка мечтали хотя бы раз в жизни побывать на Красной площади Москвы. Наверняка. А я по ней ездил на службу, и в дождь, и в снег, и в жару. Я мог просто остановить машину на этой площади, выйти, спросить, как дела у курсантов, я мог любоваться всем этим великолепием или равнодушно смотреть на все это, а то и просто спать, так как за время работы с курсантами научился засыпать и просыпаться мгновенно, максимально используя, свободные 10-15 минут, тем более – поездку в караул, на которую уходило более двух часов. Хотя и «пробок» тогда в Москве не было, но через весь город все-таки.
И вот тогда я заметил то, о чем, собственно, и суть рассказа. Это мое отношение к великому, значимому. Может, это было только со мной, я стеснялся спрашивать об этом у своих коллег, командиров учебных смен, которые тоже постоянно ходили с тяжелой головой, отдыхая по 4-5 часов в сутки, и тоже ездили по этому маршруту. Поэтому говорю только о своих ощущениях.
Как только выезжали в караул, я проверял машину, размещение курсантов, садился в кабину, командовал водителю «вперед» и… мгновенно засыпал Проблем никаких: водитель опытный, скорости большой не разовьешь, лови момент, командир, в случае чего – разбудят. Ан нет. Как только выезжали на мост через Москву-реку (если в караул едем), что-то меня (всегда!) встряхивало: «Здесь спать нельзя. Здесь место такое».
Можно сегодня по этому поводу скептически или ехидно усмехаться, но, проезжая по Красной площади, я никогда не спал, и обыденность рабочей поездки сочеталась во мне с чем-то очень значительным, даже священным, что ли. Я физически чувствовал, по какой брусчатке еду. Каждый раз, как бы пересекая спрессованные века и события, происходившие на этой площади в далеком и не очень далеком прошлом, чувствовал причастность к этому величию, пусть даже духовную.
Я заряжался за эти полторы-две минуты на полмесяца, до следующей поездки. Для меня это стало потребностью. Когда бы ни бывал в Москве во все последующие годы, даже если времени было очень мало при проездах, я обязательно шел на Красную площадь, чтобы постоять, посмотреть вокруг и зарядить свой жизненный аккумулятор до следующей встречи.
По-моему, это правильно для российского гражданина, тем более русского человека. И я никогда не пойму и не приму тех «ура -патриотов», правых и левых, верхних и нижних, центристов и глобалистов, для которых – что Красная площадь, что Елисейские поля в Париже или Капитолийский холм в Вашингтоне, – все одинаково, лишь бы им хорошо было.
Для меня Красная площадь Москвы, всегда будет главным местом государства Российского. В таком же направлении я воспитывал детей и внуков, ибо, как уже было сказано, при прикосновении к великому -всегда только получаешь.
А вот пример отношений личностных, пример, как великая личность, пусть походя, пусть сама того не замечая, соприкасаясь с окружающими людьми, духовно обогащает и оставляет в их сознании, а больше в душе, след на всю жизнь.
… Наташа служила с отцом и матерью в летном гарнизоне, расположенном в селе Маркулешты, под молдавским городом Бельцы. Папа был летчиком-истребителем; бросали его, как и других истребителей, из части в часть, по всему великому Союзу, да по разным горячим точкам за рубежом, но в тот период им удалось целый год прослужить на одном месте и даже добиться отпуска для отца.
Есть в Одессе санаторий имени В.П.Чкалова. В этом санатории отдыхали раньше только представители ВВС. Он был союзного значения, и особой известностью пользовался в послевоенные годы. Там часто бывал сын генералиссимуса Сталина – Василий, и уровень обслуживания в нем соответственно поддерживался.
Когда Наташин отец получил путевку, а дело было в 1968 году, то взял с собой жену и дочку. Сняли рядом с санаторием небольшой домик и отдыхали всей семьей. Днем отец был на процедурах, а на ночь приходил на съемную квартиру. Все шло нормально.
Но через несколько дней в соседний с ними домик, вселился очередной квартирант, небольшого роста молодой мужчина с бородой. После этого тихая жизнь в обоих домах закончилась. Сосед весь день где-то пропадал, а к вечеру возвращался, и всегда не один, а с компанией молодых ребят.
В домике было душно и тесно, поэтому они располагались на примыкающем к зданию и тоже небольшом, огороде. Было там что-то вроде старинной деревянной беседки – веселая компания ею и пользовалась. Они жгли костры, пекли картошку, иногда пили пиво с таранью, бычками и раками, которых тоже здесь же варили, и что-то обсуждали, шумели, читали, а больше всего пели.
Между огородами был старинный деревянный забор, а в нем – калитка. Веселая компания притягивала к себе и Наташу, которая считала себя почти взрослой, так как перешла уже во второй класс. Она начала вечерами потихоньку подвигаться в сторону огорода, где шумели соседи.
Все это было на глазах у родителей, поэтому особых проблем не возникало. Но постепенно Наташа стала неотъемлемой частью этих вечеров. Она сидела тихонько в стороне, на стареньком детском стульчике, или стояла, держась за дерево, и просто слушала. К ней компания привыкла.
Сосед, его звали Володя, познакомился с Наташиными родителями. Они не очень различались по возрасту, и он зачем-нибудь – иногда приходил. Наташе он не очень нравился – и красотой не вышел, и ростом. Он очень много пел под гитару – и для ребят, и для родителей Наташи. Пел таким надрывным хриплым голосом, что Наташе был жалко его слушать.
Однажды, зайдя к ним с гитарой, подошел к Наташе, погладил по голове и спросил: «Наташенька, ты такая приятная девочка, слушаешь внимательно, а ведь, я вижу, ты песни мои не любишь. Не нравятся они тебе?». И тогда девочка выдала следующее: «Дядя Володя, вам вообще нельзя петь, вам лечиться надо, горло лечить. А песни мне ваши очень нравятся!».
«Горло, говоришь? Возможно, и так», – грустно улыбнулся сосед и вышел. Был он внешне грубоват и в обращении иногда довольно резок, но какая-то невидимая внутренняя огромная человеческая сила и доброта, излучались из всего него неисчерпаемо.
Он самозабвенно пел, сливаясь с гитарой, поражая тоже не вчера родившихся одесских бардов ,разнообразием и мощью мыслей, положенных на музыку. Наташа поймет это позже, а тогда заворожено слушала дядю Володю, многого не понимая, проникаясь его страстным даром убеждения.
Дядя Володя, приходя к ним иногда днем, когда у него было свободное время, приглашал в гости, в Москву. Он привязался к Наташе, оставил много адресов и номеров телефонов, а потом неожиданно уехал. Закончилась, видимо, работа в Одессе.
А у маленькой Наташи, осталось к нему что-то такое невыразимо благодарное. Но потом началась школа, нахлынули всякие детские и недетские проблемы, и образ дяди Володи размылся в ее памяти.
Прошло двенадцать лет. И вот уже взрослая девушка, Наташа, включает телевизор. На экране – тот самый «дядя Володя», но без бороды.
«Мама, мама! – кричит девушка, – иди сюда, нашего дядю Володю показывают!». А диктор скорбно говорит, что скоропостижно скончался артист театра на Таганке, сыгравший много ролей в кино и автор многих известных песен, Владимир Семенович Высоцкий.
«Мама, ты знала, что тот дядя Володя был Высоцкий? – спросила она, – А чего же вы с ним не общались? Он оставлял адреса, телефоны?».
«Знаешь, дочка, мы стеснялись лезть ему на глаза, у него и без нас, наверное, проблем хватало, не зря же он так безвременно ушел», – ответила мама.
Вот такая история. Гениальная личность чисто случайно пересеклась по жизни с судьбой обычной девочки, но оставила след на всю жизнь. С тех пор Наташа, теперь Наталья Николаевна Морозюк, с которой мы вместе преподаем на одной кафедре нашего университета, слушает в записи хриплый голос Высоцкого, но уже в сочетании с его замечательным человеческим образом.
Она, сама того не подозревая, получила от него, нашего простого русского гения, энергетический заряд порядочности и человечности на всю оставшуюся жизнь. При встрече с великим, повторяю еще раз, всегда только находишь. Ну, а как ты этим распорядишься, – это уже другой разговор.
Случай в ресторане
Быль, которую хочу представить читателю, вполне обыденная, мелко-штриховая, но в то же время – классическая. Около шестидесяти лет назад довелось мне заниматься с молодежью. Был я освобожденным комсоргом войсковой части с правами райкома. В те далекие годы, за четверть века до развала Союза, когда будущие реформаторы еще ходили в начальные классы, когда идеи создания различных национально-идеологических фронтов в наших братских республиках, еще только проходили согласование в различных структурах за океаном, а о внедрении и воплощении в жизнь таких идей не могло быть и речи, комсомолу и молодежи уделялось довольно много внимания. Естественно, и кадрам, работающим с молодежью, в первую очередь, «низовым» комсомольским организаторам.
Зная очень многих ребят по совместной работе, могу сказать, что в подавляющем большинстве комсорги, особенно военные, были настоящим цветом армейской молодежи. Толковые, веселые, разносторонне развитые, спортсмены, музыканты, певцы – словом, одаренные люди. Они умели работать с армейской молодежью, их любили и уважали. Авторитет комсорга создавался им самим, а потом уже поддерживался командованием.
Конечно, и в армейском комсомоле, и среди политработников, как и на гражданке, попадались «скользящие» конъюнктурщики, чьи-то сынки и «блатные» знакомые, которых буквально «протаскивали» по всем ступеням комсомольско-партийной иерархической лестницы, чтобы потом можно было козырять их «последовательным» интеллектуально-идеологическим и трудовым ростом.
Таких в комсомоле не любили, откровенно ненавидели, а так как их было мало, то старались просто не замечать. Но они там-таки были, шли отдельной кастой, с ними негласно специально работали, напрямую или через жен, знакомых девушек, друзей. Их готовили. Из них потом выходили президенты, премьеры и прочие временщики, перестройщики-развальщики. Но в те времена, о которых пойдет речь, они еще были только благодатной средой, для которой был приготовлен вирус будущей величайшей катастрофы великой страны.
Политработников тогда неплохо учили. Учили всему понемногу. Учили политике, учили пропаганде, учили организационно-методической работе. Раз в два-три месяца комсоргов и замполитов собирали на надельные семинары в округ, информировали обо всех новостях и новшествах, включая политику, проверяли на сдачу тестов и зачетов, военную и физическую подготовку.
То есть, система была отлажена. Страна в то время собиралась через каких-нибудь 20 лет жить при коммунизме, американцев до смерти напугали вынырнувшие у их берегов наши атомные подводные лодки, Хрущев бил кулаком по трибуне в ООН и кричал: «Вы там не У-кайте, а то мы вас как; укнем!» В общем, как раз в этот период нас с замполитом, майором Истоминым, вызвали в округ на очередной семинар.
Он проходил в окружном Доме офицеров, во Львове. Поселили нас в военной гостинице «Варшавская». Довольно шикарная по тем временам, она как бы завершала весь исторический комплекс зданий на львовском «Бродвее» – улице Адама Мицкевича, которая тянется от оперного театра до упора в эту самую гостиницу.
На семинаре Истомин встретил товарища, с которым пять лет вместе служил и который когда-то пришел из училища командиром взвода в батальон нашего майора. Был он лет на десять моложе, но теперь уже носил погоны подполковника, став начальником какого-то кустового политотдела. Его отчим был генералом, и мать своими всевозможными связями открывала любые двери. На семинаре мы сидели вместе – майор с подполковником, а я рядом с капитаном, его помощником по комсомолу. Познакомились. Высокий, симпатичный внешне, подполковник мне сразу не понравился. И, оказалось, не зря. Наши знакомые остановились у каких-то родственников в новом микрорайоне, поэтому договорились вечером отметить встречу в гостиничном ресторане. Настоял на этом подполковник, Истомину пришлось согласиться. Нам с капитаном – тоже.
Хороший ресторан в гостинице «Варшавской». Услужливые лысовато-прилизанные поляки-официанты. Изысканная кухня. Отличная музыка и солисты. Русско-украинские песни. Все шло, как надо. Мы заказали ужин, официант принес графин с коньяком. По рюмке выпили. Разливал подполковник. Он сразу взял инициативу в свои руки, без конца шутил, задевал соседей за ближайшими столиками, задергал официанта при выборе блюд, ну, в общем, был хозяином стола. И, наконец, после второй рюмки он достал из кармана спичечный коробок и вынул из него, как оказалось позже, высушенную заранее муху. Разлив в рюмки коньяк, он на наших глазах, приклеил муху изнутри к стенке своей наполненной рюмки. Мы с Истоминым растерянно смотрели на его действия, не понимая, что все это значит. А дальше события развивались, видимо, по давно отшлифованному и проверенному сценарию.
«Человек! Официант!» – заорал на весь зал подполковник. Официант подлетел мгновенно. «Проше пана?» «Ты шо, пся крев, по сбиркам работаешь? Сливаешь недопитое и подаешь опять?» – заорал с высоты своего роста подполковник. «Та як можно, проше пана, як можно, коньяк с буфэту», – растерянно лепетал маленький официант. «Директора сюда!» – гремел подполковник. Через минуту появился директор. Наш «борец за чистоту» тут же сунул ему под нос какое-то удостоверение, то ли члена комиссии по военной торговле, то ли еще чего-то, такие люди всегда чего-то члены, и напустился на директора.
Тот взял рюмку с коньяком и мухой, вылил коньяк в фужер и попытался вытряхнуть муху из рюмки. Но безуспешно, муха приклеилась к стенке рюмки намертво. В этом и был весь подлый расчет. «Свежая» муха или плавала бы или легко отделялась, эта же была, как приварена. Стараясь затушить инцидент, директор попросил нас всех перейти в специальный номер и там разобраться во всем происшедшем.
Когда переходили в отдельную комнату, я сказал майору, что не могу все это видеть, и пойду наверх, в нашу комнату. Истомин попросил меня остаться, потому что наш подполковник может наделать больших глупостей, а он этого допустить не может. Гости, мол, пришли к нему и, какие бы они ни были, отвечает за ситуацию он, Истомин. Что делать, пришлось идти «разбираться».
Мы впятером «разбирались» с инцидентом по мухе до полуночи. Попутно разобрались с пятью бутылками лучшего по тем временам коньяка «KB» и всеми изысканными блюдами ресторана. Протокол, естественно, писать не стали. Директор даже прослезился, познакомившись с такой объективной комиссией, и на прощанье сунул подполковнику в карманы плаща еще две бутылки «KB».
Только высочайшая порядочность и врожденный интеллект ,сдерживали Истомина от плевка или еще лучше, удара в лицо, своему бывшему сослуживцу. А тот, выйдя на улицу, начал хвалиться тем, что этот прием уже использовал во многих городах и всегда его кормили и поили на «халяву».
Пьяный, как и его начальник, капитан ,горячо ему поддакивал и напоминал, где и когда проходили аналогичные выходки. Мы пошли провожать эту веселую пару. Мне было жалко смотреть на Истомина: он мучился в душе и никак не мог сделать то, что явно хотел сделать. А вместо этого мы шли по каким-то темным улицам Львова, провожая двух подонков. В одном месте нужно было перейти по пешеходному мосту через глубокую впадину, по дну которой проходила железнодорожная ветка. На мосту мы что-то вдруг заговорили о невесомости, о космонавтах, о Валентине Терешковой (она как раз полетела в те дни). И вдруг Истомин сказал подполковнику: «Слушай, давай на спор, на пару коньяков, я сейчас на перилах моста стойку на руках сделаю». Тут мне стало плохо. Говорю: «Федор Васильевич, какая стойка, после ресторана, на темном мосту, высота до железнодорожного полотна метров 25, не меньше, перила качаются, Вы что?» «Ты лучше подержи фуражку и китель», – ответил майор.
Перспектива увидеть летящего вниз майора заинтересовала даже наших, невменяемых доселе партнеров. Они подошли к нам и, сцепившись, раскачивались рядом. Истомин снял китель и фуражку и через несколько секунд, уже фиксировал стойку на перилах.
Это, конечно, надо было видеть. После нескольких секунд в стойке, он разбросил ноги по обе стороны перил, покачался, играя нам на нервах, и красиво перевалился на мост. Одевшись, он подошел к оцепеневшим от увиденного «партнерам», мгновенно изъял из карманов плаща подполковника две бутылки «KB» (спор – есть спор), протянул их мне и брезгливо процедил сквозь зубы: «Мразь». Затем добавил: «Пошли, Вася».
Ночью я почти не спал. Часов в пять утра вышел на балкон, а когда вернулся в комнату, слышу, майор смеется: «Что, Василек, заставил тебя вчера понервничать? Конечно, если бы я разбился, тебя бы и обвинили. Но я и не собирался разбиваться. Ты думал, майор старый, рыхлый, да? А я до войны был чемпионом Вооруженных Сил по акробатике, кое-что еще осталось. Просто не мог больше выдержать. В ресторане не хотел поднимать скандал и терять честь офицерскую. Ты уж прости меня за этих подонков. Я и не предполагал, какие могут выходить подонки из маменькиных сынков и всяких там «блатных». Слышал много, но не встречал подобных подонков".
Рай для изгоев
Помните притчу: "Куда путь держите, бабушка?" – миролюбиво спрашивает таможенник. "Туда, где хорошо", – отвечает бабушка. "Э, бабушка, хорошо там, где нас нет!" – смеется таможенник. "Вот именно, где вас нет, сынок!" – смеется в ответ бабушка.
Почему-то абсолютное большинство живущих на земле людей, в каком бы прекрасном месте они не жили, считает, что если где-то и есть райское место, то только не у них, а где-то там… К сожалению, мы часто не ценим то, что имеем, и только после того, как помотаемся по свету или по жизни, понимаем, что видимый где-то рай часто служит лишь своеобразным агитпунктом для не определившихся людей, и, когда они туда попадают, то очень быстро понимают, что это и не рай вовсе. Да изменить уже ничего не могут. Рай ведь не столько в красоте природы, как мы его всегда себе представляем, а в красоте жизни. Если бы человек жил на Земле хотя бы лет двести, то, наверняка, думал бы так: ладно, лет сто поработаю, помучаюсь, поищу, найду себе райское место и вторую сотню лет там и проживу. Но так как редко кому суждено хотя бы разменять ту заветную сотню, то находится немало и таких, которые спешат обрести земной рай как можно быстрее. Одни приобретают себе всевозможные бунгало в разных концах земли, хотя бывают там раз-два в год или вообще не бывают. Других, например, фанатов-филателистов, внутренне греет сам факт обладания дорогущим раритетом. Третьих – факт пребывания в том или ином экзотическом месте…
На мой взгляд, для таких любителей вообще не существует понятие "рая". Если ты застолбил за собой право жить во многих чудных местах, то твое стремление к "райской" жизни постепенно размывается, сменяется пресыщением и превращается в банальную показушность. Каждая новая вилла где-нибудь на экзотическом побережье – это то же самое, что новый наряд или новая жена или муж. Если человечество за многие тысячи лет, пришло к необходимости установления праздников, и люди ждут эти самые праздники больше духовно, чем телесно, то для тех, у кого каждый день вроде бы праздник, – теряется врожденное чувство ожидания лучшего и, к большому сожалению, исчезает интерес к этому ожиданию. А это неизбежно приводит к деградации если не нынешних любителей и обитателей райских мест, то их потомков – однозначно. Для человека рай должен быть целевым стремлением и высшим желанием, ибо тот, кто посчитает, что уже достиг рая (на земле), обязательно получит неудовлетворенность, которая, и тоже обязательно, перерастет или трансформируется совсем в другие ощущения. Ведь рай и ад (как его антипод) в принципе находятся рядом, как говорят – через улицу.
Рай на земле – это не только какое-то конкретное место, это все вместе взятое. И райскую жизнь (не место) можно построить своими руками, где угодно, не только на тропических побережьях и островах. Рай у человека в душе и сердце, все остальное – лишь художественное оформление. Это многие понимают, но чаще всего с большим опозданием. Рай или райскую жизнь на земле, должны выстраивать люди, своими руками, головой, умением. Кроме естественного всеобщего старания, главным условием в построении такой жизни, всеобъемлющей системой, должен стать и быть далее круговорот труда и капитала, что-то сродни кругообороту воды в природе. Такой кругооборот, труда и капитала, предполагает, что люди, живущие в той или иной стране, в частности в России, все время из поколения в поколение, работают на благо того места, где они проживают.
Вложенный ими в этот процесс труд, с каждым новым поколением – с увеличением возвращается, поэтому должен снова и снова включаться в воспроизводство. Так и каждая заработанная на своей земле копейка должна быть снова вложена в развитие той же самой своей земли. И неважно, что в результате этого нескончаемого кругооборота появится у нашей России нового – заводы и фабрики, машины и технологии, зоны отдыха и развлечений, жилье и спортивные сооружения, дороги, самолеты, машины или культурные ценности, расцветут наука и искусство, важно, что все это – плоть от плоти будет и останется российским. Именно так может быть заложен фундамент пусть не райской сразу, но, по крайней мере, достойной жизни.
Если же люди, родившиеся в России, зарабатывают в России правдами или неправдами большие или малые деньги, а вкладывают их в другие регионы и страны, то нам, в России, не видать не только райской жизни, но и жизни вообще.
Если мои предки, казаки, ценой своих жизней "прилепили" к России кусок земли от Урала до Чукотки, а кто-то ловкий сегодня выкачивает из этих просторов бешеные барыши, то пусть хотя бы вкладывает их в те же территории или любую другую зону, но российскую. И пусть купленные на эти деньги корабли и самолеты, яхты, футбольные команды живут и играют под российским флагом, иначе быть просто не должно.
Бывшие раньше в России богатые люди, никогда не скажу, что безгрешные, тянули все домой, в Россию. А теперь уже почти сто лет растаскивают культурно-исторические ценности из России, и их еще в наличии – огромное количество. Значит, веками заработанное россиянами или просто оставалось в России через вложения во что-то полезное, или тратилось на приобретение этих самых культурно-исторических ценностей, затем перемещаемых домой, в Россию. Так зачем сегодня нашим людям вкладывать свои капиталы в чужие экономики и вывозить капитал за рубеж, когда любому инвестору понятно, что наиболее благоприятное место вложения капитала – Россия?! Но если наши не хотят вкладывать свое в "наше", значит, боятся, и боятся не реакционности нынешней власти, как они всегда заявляют, а боятся, что станут известны источники и способы появления их капиталов. При такой постановке вопроса рай (образный) на нашей земле появится не скоро.
Но, хватит об этом. Тема этой были проста и понятна. Сколько действительно замечательных, "райских" мест в той же нашей России! Сегодня все имеющие что-то, конечно, солидное что-то, бросились в Сочи. Думаете, жить там желают? Отнюдь. Там запахло большими деньгами, и тамошний субтропический рай далеко не главная привлекательная сила. То же самое в Москве, да еще в нескольких регионах, где вращаются большие деньги. Глупые мы люди, ведь понимаем, что не в деньгах счастье, даже в больших. Что если прижмет? Не спасут ведь никакие деньги, все под Богом ходим. И ради нескольких лет или их десятков терять то, что человечество вынашивало в себе тысячелетия – стыд, совесть, порядочность и честь – не стоит ни за какие триллионы.
Так получилось, что наше время – своеобразный трамплин в будущее России. Никто не придет к нам строить райскую жизнь, а будем так себя вести – отнимут последнее, так что вся надежда – на нас самих.
Бывая во многих зарубежных странах, объездив практически весь бывший Союз, могу сказать, что наша земля не менее прекрасна, чем те места, перед которыми умиляются отдельные наши соотечественники. Просто надо ею заняться, постепенно довести до ума, и к нам будут приезжать и удивляться жители других стран. Надо не абстрактно любить, а жить и работать на своей земле. А тем, кто хочет жить в других "раях" и выхватывать хорошие куски из нашего котла, ведь можно и руки укоротить.
Я уже говорил, что рай в душе человека. Может быть, я чересчур привередлив? Хотя, вряд ли, ведь где бы я ни был за рубежом, на какие бы красоты не смотрел, все оставалось чужим. Постоянный душевный дискомфорт сводил на нет все тамошние прелести. Я никогда бы там не смог жить, пусть у них действительно полный рай или его отделение. Чужое всегда было чужим и осталось до сих пор. Не может даже зверь жить вне своего ареала, а уж тем более – человек. А если может, то берегитесь его, он уже чужой, со всеми вытекающими последствиями.
Место в России, о котором я хочу рассказать, вполне реальное и простое, но для меня оно именно в духовном плане до сих пор ассоциируется с райской обстановкой, с райской жизнью. Может быть, жившие там люди, да и ныне возможно живущие, сами и не понимали, где они живут и как. Со стороны виднее. Поэтому я и хочу рассказать об этом. Посетил я те места ровно пятьдесят пять лет назад, летом 1954 года. Так получилось по судьбе. А память сохранилась об этом навсегда и не просто так.
В том году я, сельский пацан, окончил школу-семилетку и пошел работать в МТС учеником токаря. Отец мой в то время тоже в МТС работал, комбайнером. В марте того же года было принято постановление ЦК КПСС и Советского правительства о начале освоения целинных земель на Востоке Союза, в Казахстане, Сибири, Поволжье и Южном Урале. По радио пели целинные песни, перед началом кино, в журнале "Новости дня", показывали, как ехали на целину добровольцы, ну, в общем, обычная пропаганда и агитация. Но потом вдруг, явно с чьей-то очень больной головы наверху, поступил приказ: от Слободзейской МТС отправить 12 зерновых комбайнов на уборку урожая в Башкирию. Приказ был, как гром среди ясного неба, – середина июля, полным ходом идет уборка хлебов, и на тебе – 12 комбайнов отправить. В другое время, может быть, к этому приказу отнеслись бы с прохладцей, но ситуация была непростая. Всего год назад умер Сталин. Партию возглавил Н.С. Хрущев, правительство – Г.М. Маленков
Постановление о подъеме целины предполагало большие и дорогие изменения в сельском хозяйстве. Поэтому и руководство МТС, и района, и выше, не рискнуло нарушить приказ из Москвы – начали готовить комбайны к отправке. Из всех МТС Тираспольской зоны был сформирован грузовой состав с комбайнами. От нашей МТС пошли 8 самоходных и 4 прицепных комбайна. Такое же сочетание было примерно и в других МТС. Конечно, комбайны выделили самые старые, лучшие оставили заканчивать уборку. Отправляемые комбайны кое-как подделали, потом неделю собирали состав на Тираспольской рампе, на эти сборы ушел весь июль, и 2 августа поезд ушел на Восток.
Помощник отца не пожелал ехать с комбайнами, поэтому вместо него поехал я. Отличительной особенностью этого состава было то, что люди ехали вместе с комбайнами, на открытых платформах. Нам объяснили, что дорога будет не более 5 дней, на улице тепло, дали по 300 рублей командировочных – и с Богом. Сразу скажу, что про это путешествие можно долго рассказывать, но отмечу только, что везли нас ровно 31 день. Со 2 августа по 1 сентября. Деньги командировочные у многих закончились, еще когда грузились в Тирасполе. Можно представить себе наш путь, длиною в месяц, на открытой платформе, под комбайнами, и без копейки в кармане. Пока ехали по Украине и по России до Волги, можно было хоть картошки накопать на ближайших к железной дороге пристанционных огородах, а как выехали за Волгу – там голые степи, и никаких огородов, да температура ночью уже стала приближаться к минусовой. Не доезжая до Уфы, повернули на юг, к станции Кумертау. На узловой станции Дема кто-то по ошибке отцепил платформу с нашими прицепными комбайнами, и они уехали дальше, в Сибирь.
На станции Кумертау выгрузились, но никто не захотел нас брать к себе. Местные власти не желали принимать наши старые комбайны, приводя в виде аргумента, что мы, дескать, вместо этого металлолома получим новые и т.п. Отправляйтесь, мол, назад, тем более что уборка у нас практически закончилась.
Куда назад! Мы двое суток уже не ели, все грязные, оборванные, месяц ведь на ветру, на платформе, без ничего! Все бесполезно, нас не берут.
К вечеру приехал какой-то нормальный мужик из Ермолаевской МТС, как оказалось, главный инженер, и согласился взять наши 8 самоходных комбайнов. Есть же и люди на свете, не одни бюрократы, которым нет дела ни до людей, ни до самого дела. Инженер посмотрел на наши изможденные лица, задал пару наводящих вопросов и сказал: «Сейчас подойдет бензовоз, заправит комбайны, а я постараюсь немного заправить вас».
Зашли в привокзальное кафе, он нас покормил и сказал, чтобы ехали за ним, но осторожно, дорога пойдет через горы, а какие там тормоза у старых комбайнов! Мы, в Слободзее ,тормозами и не пользовались, равнина у нас. А там пришлось тормозить двигателем, но доехали к Ермолаево нормально. Большое село в большой долине. Наутро нас распределили по колхозам зоны МТС, по одному комбайну туда, где еще нужно было что-то докашивать. Уборка уже почти закончилась, остались клочки по горам. Местные комбайнеры их оставили напоследок, ну, и достались они приезжим.
Нам с отцом определили колхоз на самом юго-западе и района, и Башкирии в целом, а уже в самом колхозе нас определили в бригаду на хуторе Сандин. Хутор был небольшой, домов 25-30. Одна улица на склоне холма. Два ряда домов, въезд с нижнего ряда. У верхнего ряда дворы и огороды идут вверх, у нижнего – опускаются к небольшой речке с чистейшей горной водой.
Только много лет позже я понял, какое место на земле достойно называться райским!
Днем мы с отцом буквально ползали по клочкам горных полей, выкашивая оставленные участки, вечером- отдыхали в одном из хуторских домов. Бригадир определил нас на квартиру к одной пожилой женщине. Жила она сама, муж погиб на фронте, а сын служил на Черноморском флоте. Мужиков на хуторе было три или четыре человека, остальные не вернулись с войны. Зерно от комбайна возил парнишка, мой ровесник. Возил повозкой с одним волом. Это было проблемой: пока повозка была пустой – ничего, а если с зерном, то по горам ехать было невозможно. Повозка толкала вола, пацан пытался тормозить ее, всовывая в колесо большую жердину, тогда груженая повозка шла юзом, и дважды мы собирали зерно в балке после ее опрокидывания.
Поэтому мы, когда набирали половину бункера зерна, выезжали комбайном на ровное место и лишь там ссыпали зерно в повозку. Так мы работали пятнадцать дней, пока не обработали все нескошенные участки. Это было очень сложно. Склоны полей – крутые, зерновой бункер у комбайна расположен высоко, малейший предельный крен – и комбайн опрокинется. Да и при косьбе вверх по косогорам постоянно буксовал. А для такой махины пробуксовка по сухому грунту— жди аварии или крупной поломки.
Но не об этом речь. Жизнь на хуторе, забытом и заброшенном, протекала со своими особенностями. Метрах в пятидесяти ,за речкой, из скалы тоненькой такой струйкой, чуть толще спички, все время текла нефть. Да, самая настоящая нефть. На хуторе была установлена очередность, при которой каждый двор подставлял под струйку нефти свою посуду, в основном двухсотлитровые бочки. Так все заготавливали горючее для растопки печей на весь год. Дрова заготавливали в ущелье, и тоже через речку. Чуть подальше от капающей нефти, где-то с километра полтора-два, был расположен открытый угольный разрез, Маячный. Там во вскрытых породных отвалах, можно было набрать столько прекрасного антрацита, что его хватило бы хутору на ближайшую тысячу лет.
Я видел сам, как в подвалах домов нижней улицы одна, две, а то и три стены были из чистого черного блестящего угля. Пласт угля достигал хутора. Во дворах – по две коровы- минимум, молодняк, гуси, утки, куры, козы, овцы. Хозяйка нам часто варила домашнюю лапшу. Сварит и мне говорит: "Вась, прыгни в подпол, принеси масла к лапше". Даст большой деревянный черпак. Я открывал крышку в подпол, он здесь же, в большой комнате, а в нем бочка, литров на 100, сливочного масла – ярко желтого, душистого. Зачерпну с полкило – и наверх. Кроме масла, в подполе еще бочки с грибами, какой-то ягодой, помидорами, огурцами, да и еще с чем-то. У хозяйки где-то сотня гусей, мясо ежедневно было у нас три раза в день.
Солому от комбайна вначале по домам развозили, а потом уже у небольшой фермы складывали. Очень простые и открытые люди. Такие же отношения между ними. И главное, что не портило эти отношения, – между ними не терлись деньги. Жили они не бедно, находящийся рядом рудник охотно покупал их продукцию, но у них не было главного зла – больших, по меркам хутора, денег. Поэтому они и жили, как одна большая семья.
А предыстория появления этого хутора была более чем печальна. Все его жители были или участниками или детьми-внуками тамбовских депортантов 1920-21 годов. Был в те годы крестьянский мятеж в Тамбовской ныне области. Главарем у них был некто Антонов. Революционный комбриг Григорий Котовский со своей кавалерийской бригадой остановил отряды мятежников. Многих тамбовских крестьян тогда осудили, расстреляли. А часть – выселили, в том числе и в Башкирию, в глухие места. Так и появился хутор Сандин. Дед там один был, сторож, так он, как стакан выпьет, начинал выступать: "Мы, мол, тамбовские волки!" Была такая поговорка раньше: "Тамбовский волк тебе товарищ!" Так это оттуда, из того невеселого времени.
Ни света, ни радио на хуторе не было. Одни керосиновые лампы. Как-то раз мы приехали с поля; рано заканчивали, потому что и днем по горам ползать комбайном опасно, а ночью – тем более. Помылись. Слышим, шум по хутору – кино привезли! Пошли и мы. Два рубля билет. Кино во дворе маленькой четырехклассной школы, где все четыре класса учатся в одной комнате. Прямо на стене приколота простыня. Аппарат – узкопленочный, кино – без конца и начала, но называется "Школа злословия". Я потому запомнил название, что эту довольно нудную картину показывали еще в нашем колхозе им. Молотова в Слободзее, и не одни раз. Но весь хутор шел и смотрел, кино ведь.
На хуторе не было ни баяна, ни гармошки. Был один очень гордый парнишка, так он на гитаре мог выбивать что-то наподобие вальса и что-то типа польки. Молодые девчата и ребята специально ездили в поселок Маячный, за конфетами, потом шли к нему, упрашивали, задаривали и получали взамен несколько мелодий для танцев. Чисто натуральная жизнь.
Вспоминается небольшой классический случай с хуторским бригадиром. Он нам ежедневно на двуколке обед привозил. Утром и вечером мы питались у хозяйки, а обед от той же хозяйки ,привозил бригадир. Отец у меня был с большим чувством юмора. Как-то утром хозяйка положила, на всякий случай, два бутерброда с маслом. Подъезжает бригадир, башкир, узнать, не надо ли чего. Мы стоим. Я шприцем смазываю подшипники, отец подтягивает ремни цепи. Увидел бригадира, взял у меня шприц, раскрутил его, набрал с бутерброда на палец масла и стал медленно накладывать его в шприц-нагнетатель. Подходит бригадир, спрашивает, что отец делает. Тот объясняет, что готовится смазывать комбайн маслом. Бригадир спросил, сколько надо масла на день. Отец ответил, где-то полкило.
Наверное, с неделю, бригадир ежедневно возил нам из дому солидный кусок масла. Потом как-то заехал тот самый главный инженер МТС, спросил, как; идет работа, какие проблемы. И надо же – подъехал бригадир, протянул отцу брикет масла. "А масло зачем?" – спросил инженер у бригадира. "А он комбайн мажет", – ответил тот. Инженер улыбнулся и молча – уехал. Правда, масла больше не привозили.
Мы закончили уборку и уехали в МТС. Была середина сентября, на земле по утрам уже был иней. Подошвы на моих тапочках стерлись вовсе, и я ходил босиком, просто у тапочек остался верх, а снизу несколько ниток медной проволоки, и босая нога. От рубашки остались воротник и передняя планка, все остальное истлело и развалилось. Правда, под пиджаком не было видно, да и мои босые ноги, прикрытые сверху, тоже. Так я закончил свои первые два рабочих месяца и мою первую уборку урожая.
А главное, я увидел, как натурально могут жить люди. Тогда мне это было непонятно и смешно. Сейчас, после стольких прожитых лет, я думаю о той жизни по-другому. "Тамбовские волки", тогда изгои советского общества, минимум до войны с фашистами считавшиеся врагами народа, с соответствующим к ним обращением и общественным мнением, выселенные в глухомань, жили лучше остальных российских крестьян, внешне лояльных к советской власти, именно потому, что вокруг и внутри них присутствовали главные элементы райской жизни, той жизни, к которой тысячи лет стремилось и стремится человечество.
Разве живет в раю человек, имеющий в своих активах миллиарды, собственник десятков дач и вил в разных элитных местах, личных яхт и самолетов? Когда он каждую секунду ждет, что его или "грохнут", или "замочат". Какое там ощущение райской жизни, когда постоянно ждешь конца, любого, со всех сторон! Окружение такое же – продаст, подставит любой: друг, жена, брат, дети, да кто угодно – под адским лозунгом: "Ничего личного, бизнес есть бизнес".
Нет и не будет для них рая на земле по той простой причине, что невозможно объединить элементы жизни хуторян Сандина, которые никому ничего не должны и не обязаны, которые искренне радуются каждому восходу солнца и встрече с себе подобными, готовыми поддержать и взаимно защитить любого, с элементами жизни нынешних "продвинутых", которые сами покинули элементарный земной рай, и дверь за ними уже закрылась навсегда. Эти люди – в подвешенном состоянии: уже находясь в аду (тоже человеческом), дергают за ручку райской двери, которая в любой момент может оторваться…
Единицы могут понять такое свое подвешенное состояние, но только единицы. Так что есть в нашей жизни примеры, на которых можно строить современную жизнь, пусть не райскую, но достойную граждан такой великой и богатейшей, по определению, страны, как наша Россия. Причем, достойно и красиво можно устроить жизнь практически в любом регионе нашей Родины. Нам бы отмыть себя от нынешней грязи, может, где-то и припудрить да подкрасить себя же, и мир будет ехать к нам, в наши "райские" места, и поражаться российским красотам!
А пока что мы стремительно катимся совсем в другую сторону!
Начало
"Дык, говоришь, и тракторист, и комбайнер? – язвительно допрашивает меня бригадир. – Наверное, и дипломы у тибе есть?» – продолжает он, переминая пальцами направление из отдела кадров МТС.
«Есть, свидетельства», – мрачно отвечаю я и протягиваю ему две сереньких книжечки. Издевательский тон и ироническая ухмылка на лице бригадира выводили меня из себя, но я всеми силами старался сдержаться и, что называется, показаться. Так хотелось работать самостоятельно, не бегать в помощниках-подносчиках. Именно для этого всю зиму проучился. Прошлый сезон был на уборке помощником комбайнера, а когда узнал, что открываются курсы трактористов и комбайнеров при МТС, то записался сразу в обе группы. Мало того, пошел на зиму кочегаром в общежитие, где проходили занятия, чтобы все было при месте. Занимался и работал практически сутками. Закончил с отличием оба курса, получил свидетельства и, наконец, направление в бригаду №2 колхоза им. Буденного – «на должность тракториста». Так было сказано в направлении. Я с трудом добрался на попутном тракторе за 18 километров в село Джусалы, где размещался указанный колхоз, нашел в мастерской бригадира – и вот теперь он надо мной издевается.
«Ды хто он такой, этот Голубь? – продолжает выступать бригадир, рассматривая подпись начальника отдела кадров на направлении. – Для мине- ён сват – Тимошкин шурин, с поля – ветер, с заду – дым. И чиго ён как раз тибе прислал?»
«Не знаю, – отвечаю я, – он сказал, что от вас была заявка на трех трактористов, вот меня и направили».
«Дык я ж давал заявку на трактористов, а ни на тибе, – бросает в сердцах Иван Рубцов, так звали бригадира. – Ну, куды я тибе дену? Да, было три места. Одного человека на новый ДТ, я нашел, осталось два этих самых места, да не про тибе. Колесник – СТЗ, ще довоенный, уже зиму стоит, да Ахмед на С-60, тоже довоенном, уже почти год сам отдувается. Ты знаешь, что такое ЧТЗ С-60?» «Видел». «Вот то-то и оно, што «видел», – опять в сердцах говорит Рубцов. – Ну, да ладно, пойдешь пока на ремонт, а там поглядим, куды тибе опридилим».
Бригадир не знал, что мне в августе будет только пятнадцать, что в отделе кадров, в связи с катастрофической нехваткой механизаторов, значительным поступлением новой техники и очень серьезными задачами по освоению новых земель по зоне нашей МТС уже в текущем году, мне просто приписали в личный листок два года. Благо, паспортов на селе в то время не выдавали, метрического свидетельства у меня не было, а большую массу архивных документов, в том числе и по году моего рождения, унесла война. Так что сверять данные было не с чем, да и никто в этом заинтересован не был. Парнишка на вид крепенький, трактор и комбайн знает, курсы прошел, сезон отработал, что еще надо. Дописали пару лет в трудовую книжку, как было указано в комсомольской путевке, выданной в Кишиневе, чтобы с профкомом не было проблем – и за работу, молодой механизатор.
Сегодня иногда смотришь на 16—17-летних ребят – и своих, и чужих – и видишь, насколько они инфантильны или не подготовлены к самостоятельной жизни. Никому и в голову не придет вверить кому-то из них трактор, тем более комбайн. Вспоминаю, как встретил свое пятнадцатилетие за штурвалом комбайна, и никак не могу даже представить себе кого-то из нынешних сверстников в этой роли. Настолько изменилось время, и изменились люди. Не могу делать какие-либо выводы, лучше стало или хуже, просто фиксирую ситуацию, было – стало.
Так вот, ничего этого, тем более будущего, бригадир тогда не знал, а то не посмотрел бы ни на направления, ни на мои «дипломы» и просто не стал бы со мной разговаривать.
Ну и, слава Богу, что не знал.
Через колхозного бригадира полевой бригады, Рубцов нашел мне в селе угол. Напротив колхозного двора жила семья немцев – выселенцев с Украины. Муж с женой лет за тридцать и мальчик-дошкольник.
Полевой бригадир в моем присутствии довел до сведения хозяйки условия моего проживания. Я буду у них ночевать, они мне будут варить еду и стирать постель. За это хозяйке станут начислять по полтора трудодня в день. Продукты можно брать за мой счет в колхозной кладовой. Время проживания – сколько будет надо.
С этого момента, собственно, и началась моя самостоятельная жизнь. Днем я вместе с другими механизаторами нашей бригады готовил к посевной технику, а ночевать приходил на квартиру. Дом у Байеров (такой была фамилия моих хозяев) был, как и большинство сельских домов того времени, обычной глинобитной мазанкой без крыши, имел стандартную для степных буранных мест форму буквы «г», где стойку представлял сам дом, а перекладину – сарай для животных и птицы. Сараи в тех местах обязательно соединялись внутренней дверью с домом, чтобы во время снежных заносов не было проблем по уходу за скотом. Временами, в снежные зимы, такие мазанки задувало полностью, и не раз, блуждая в буран, въезжали на крыши-потолки и проваливались внутрь, как трактора, так и конные сани.
До пятидесятых годов большинство домов в старых степных селах были однообразными и небольшими – в две, максимум, три комнаты. Отапливались одной печью, хорошо утеплялись, так как морозы за сорок градусов, да еще с ветром, там были не в диковинку. Стояли в селах (в каждом по-разному) по несколько домов под крышами, как правило, жестяными. В таких домах в прежние времена жили наиболее богатые из сельчан. Еще до войны такие дома были реквизированы, и в них разместились конторы и учреждения. А если какие и использовались под жилье, то, как казенные квартиры.
В доме моих хозяев было всего две комнаты. Одна, поменьше, служила кухней-столовой-гостиной. В другой, побольше, собственно и жили хозяева. Мне выделили деревянный топчан на кухне. Днем он использовался как скамейка, а после ужина и мытья посуды на него стелили постель. Хозяева уходили к себе, а я оставался на ночь один. Словами этого не объяснить. Человеку надо вначале сделать очень плохо, а потом чуть-чуть улучшить ситуацию, и он будет доволен. Так и у меня. После общежития, где в одной комнате с тобой, живут еще десять храпящих и гремящих по ночам, разновозрастных мужиков, где воздух насыщен парами пота, перегара, запахами хрустящих портянок и взвешенных не ароматизированных частиц, до такой степени, что хоть нарезай его пластами; где по ночам, на голову падает невысохшая с осени штукатурка; и ни один вечер, тем более в выходной, не обходится без драк, скандалов-выяснений, где по утрам в коридоре очередь к однососковому умывальнику, замерзшему наполовину, а без очереди можно умыться только снегом, где ни за что ни про что можно получить по голове пустой бутылкой или еще чем-то, в полумраке длиннющего коридора, освещаемого одной тридпативаттной лампочкой и то лишь до двенадцати ночи, тихая кухня казалась мне райской обителью.
После обычных общежитейских «прелестей» тишина и спокойствие в «моей» комнате несколько первых дней даже не давали мне спать. Потом привык, зато появилось другое.
В первый же день хозяйка пошла в колхозную кладовую, получить для меня продукты. Как оказалось, кроме муки и соли, из съестного больше нет ничего. Столовой в колхозе не было, из приезжих – один я, люди зимой в поле не работали, значит, и скот на мясо для хозяйственных нужд зимой почти не забивали.
Рядом с нашим домом находился небольшой магазин, там можно было купить какие-нибудь мерзлые консервы, но я зиму проучился, да еще проработал три месяца кочегаром, где зарплата еще ниже, чем на ремонте, так что денег у меня даже на курево, не хватало, что уж там говорить о дополнительном питании. Поэтому уже со второго дня пришлось перейти на супер жестокую для моего растущего организма диету: хозяйка с утра варила мне трехлитровый казан постных бесформенных галушек. Вода, соль – и в этом растворе – галушки, без зажарки. Варила один раз. Вталкивал в себя эти галушки утром, продолжал есть в обед и доедал вечером .И так каждый день.
Я не хочу обидеть всех немцев. Многие из тех, с кем пришлось жить, работать и дружить, не были «жмотами». Но мои хозяева, к сожалению, заслужили такое определение.
Через неделю я стал почти членом семьи – утром чистил печь, вывозил навоз из сарая, убирал снег, если заметало, за километр ходил по воду, с двумя ведрами на коромысле, рубил дрова, то есть, делал все то, что мог бы делать один из членов семьи, к примеру, старший сын. Но ни разу, подчеркиваю, ни разу они не пригласили меня за стол. Кушали они тоже не так уж шикарно, но борщ, часто с мясом, соления, молоко, сметана были у них всегда.
Самым непонятным и обидным для меня было то, что когда они рассаживались за столом, я тоже находился в кухне и сидел рядом на топчане. Они ели, не замечая меня. Потом муж с сыном уходили, и тогда хозяйка накладывала мне мои галушки. Так продолжалось все время, пока я у них квартировал. Мою помощь по хозяйству ,они принимали как должное, не требующее какой-либо благодарности. Хозяин даже контролировал мою работу, правда, не делая никаких замечаний.
Позже появилась еще одна проблема. Был уже март, стало теплеть, поутихли бураны, и мои хозяева по воскресеньям начали ходить за 12 километров в бывшую свою резервацию, на рудник Батамшинский, молиться. Организовалась там какая-то секта, появился молельный дом. Да пусть бы ходили хоть в три секты, какое мне дело. Но. Не знаю, какие там у них ценности были, и не знаю, за кого они меня принимали, но, уходя с утра молиться, они запирали дверь на замок, оставляя меня на улице.
В первый раз ушли часов в десять. Я взял гармонь, пришли несколько ребят и девчат, поиграли, поговорили. Все хорошо. К обеду начало подтаивать, но после двух-трех часов потянуло холодом. Молодежь разошлась по домам обедать и греться, а мне-то идти некуда. Какая там гармонь – пальцы и на руках, и на ногах сводит! Даже ненавистных галушек не похлебаешь – замок. Хозяева пришли часов в пять, когда уже стемнело.
На следующий выходной – опять -то же, и на следующий – так же. И хотя я стал брать с собой на улицу хлеб, это не улучшало ситуацию – по выходным я оставался голодным и промерзал насквозь. Не хотелось говорить бригадиру – думал, скоро уже выйдем в поле, буду жить в бригаде, и все эти «концерты» закончатся. Однако весна затягивалась, уже было начало апреля, а холод не уходил .И меня, наконец, прорвало.
После четвертого молитвенного похода, я решил пожалеть себя и прекратить эти издевательства.
Жил я в квартирантах уже больше месяца, знал, где и что находится. По утрам, управляясь со скотом, набирал в закроме зерно и видел запасы сельских «деликатесов» моих хозяев. Над зерном вдоль стены висело восемь копченых окороков, задрапированных в марлю, а снизу на полке стояли десятка полтора кувшинов и банок со сметаной. Лампочки в закроме не было, свет едва проникал через вмазанное в стену стекло размером с ладонь, так что там и в самый светлый день царил полумрак. После месячной «галушкиной» диеты и пыток холодом по выходным, я стал все внимательнее поглядывать и на окорока, и на кувшины.
В один из очередных выходных, когда все мое существо буквально застыло, я решился. Дверь дома – на замке, а дверь сарая – на крючке, изнутри. Ножом открыл крючок, закрывающий изнутри дверь сарая, зашел в дом, немного отошел от холода и направился в закром. Выбрал в дальнем углу окорок, отрезал приличный кусок, налил кружку сметаны из кувшина, долил туда молока из неполной банки, очень оперативно все это оприходовал, полежал на топчане, а примерно за полчаса до обычного возвращения хозяев таким же путем вышел с гармошкой на улицу. И сразу показалось, что и жизнь хороша, и жить хорошо. Пришла к вечеру молодежь, даже потанцевали. Я и не заметил, когда появились хозяева, играл, пока меня не позвали на те самые злополучные галушки. Кстати, с тех пор, я галушки, а также клецки и прочая, не кушаю – я их видеть не могу. Так они меня тогда достали.
Ну, а тогда, после моей первой вылазки в закром, в монотонной жизни появилось разнообразие. Каждое утро, ухаживая за скотом, я попутно отрезал кусок окорока, брал с собой хлеб и на обед не приходил. И зачем мне были те клейкие галушки, когда я имел кое-что получше. …..
К счастью, подходило к концу мое квартирование. Вот-вот бригада должна выйти в поле, и на вопросы хозяйки, почему не хожу на обед, я каждый раз находил какие-то отговорки. Так продолжалось еще некоторое время, но за две недели окорок закончился. Остались от него только темно-коричневая шкура, чистая белая кость и марля.
Для придания окороку видимой формы пришлось приладить несколько деревянных палочек-распорок. Обернутый марлей муляж внешне был очень похож на то, что раньше значилось окороком. По моим расчетам, очередь для его использования должна была подойти примерно к осени. Значит, время еще оставалось…
Хотя я заработал в этой семье не на один окорок, но этот случай преследовал и смущал меня долгие годы, пока, наконец, благополучно не завершился. Мы к этому еще вернемся, в конце этой были.
А в тот год, в середине апреля, мы, наконец-то, вышли в поле. Слава Богу, закончились унижения, переохлаждения и «галушкины» диеты. Настала пора определиться и с моим местом работы.
Как-то утром бригадир подозвал меня и повел на смотрины. «Вот они стоят, как раз рядом, наши гвардийцы: один колесник – СТЗ, другой – ЧТЗ, С-60, – показал рукой бригадир. – Мы их тут подлатали немного за зиму, будут робить». Возле гусеничного С-60 кружился чеченец Ахмед, парень лет тридцати, под два метра ростом, с иссиня-черной щетиной на лице и разбойничьим внешним видом. Мы с ним уже познакомились во время ремонта сельхозмашин. Ахмед, увидев меня с бригадиром, приветливо закричал: «Слушай, Василь, давай ко мне напарником, машина звер, еще на фронте тащила болшой пушка. А как поворачивает на месте! Пилотку земли в люк, где фрикцион, высыпишь, так он, как молодой крутится!»
«Ды ладно, ладно, Ахмед, – осадил его Рубцов, – не пойдеть ён к тебе, и ты знаешь почему. А ну, заведи свой тягач, пусть пацан посмотрит, как это делается» – добавил он.
Ахмед проверил, выключена ли коробка передач, взял с площадки довольно приличный лом и пошел с левой стороны заводить свой трактор.
Чтобы читатель представил себе эту технику, дам небольшую характеристику. Трактор Челябинского завода «С-60» был первым из серии тяжелых тракторов класса пятитонников. Имел четырехцилиндровый двигатель, работающий на лигроине – это горючее между керосином и бензином. Без кабины. Прямо возле тракториста, с левой стороны, крепилась двухсотлитровая бак-бочка с тем самым лигроином. Ходовая часть у этого трактора и система управления были удачными и практически неизменными переходили потом в другие модификации – уже дизельный С-65, затем С-80, С-100, и даже Т-130.
Но была у этого трактора одна (кроме прочих) очень неприятная особенность – он заводился ломом. Да, обыкновенным металлическим ломом Прямо в метре от сиденья тракториста находился открытый огромный маховик с отверстиями под лом. Тракторист вкладывал его (лом) в отверстие и резким движением проворачивал маховик. Новых таких тракторов я не видел, а те, которые пришлось, никогда с первого рывка не заводились. Иногда приходилось десятки раз рвать руки и сбивать пальцы, пока двигатель, наконец, заводился. Нередко, в силу различных причин, двигатель «бил назад», тогда лом, вырываясь из рук, летел смертоносным оружием в противоположную сторону, и горе было тому, кто вдруг мог оказаться на его пути. Как ни старался Ахмед показать мне класс при заводке, именно в этот раз лом у него из рук вырвало. Минут десять стоял он, сцепив руки и корчась от боли. При таком рывке руки сильно «сушит», это трудно объяснить, и пока сам не почувствуешь, – не поймешь.
Бригадир посмотрел на меня и понял, что больше ничего объяснять не надо. Помолчав, сказал; «Иди, принимай колесник, заправь его, цепляй конную повозку и езжай в бригаду».
Так я стал трактористом, полноправным членом тракторной бригады. «Стальной конь» мне достался уникальный даже по тем временам. В стране их выпускали два завода – Сталинградский (СТЗ) и Харьковский (ХТЗ). Первый работал, как правило, на Восток, второй – на западную часть СССР. Трактора обоих заводов были идентичны – из сплошного металла. Все узлы, колеса, рулевое управление и даже сидение для тракториста на жесткой прогибающейся стальной пластине – все было металлическое. Узлы и агрегаты были простыми, грубо связанными между собой, довольно крепкими и надежными. Двигатель был керосиновый и имел очень существенный недостаток – его шатунные и коренные подшипники были заливными, баббитовыми. Если снову это не было особо заметно, то на моем тракторе, который был на 5 лет старше меня, независимо от вида выполненных работ, приходилось через два дня на третий, обязательно делать «перетяжку».
То есть, слить масло, снять поддон картера (чугунный на 32-х болтах), затем головки шатунов и убрать специальные латунные прокладки – одну, две и более, где сколько надо, на ощупь, при визуально-ручной проверке плотности посадки шатуна на шейку коленчатого вала. Если поленишься или прозеваешь, хоть на один день или на один стук двигателя – все, работа заканчивалась: в шатуне набивался эллипс, появлялся стук, и двигатель выходил из строя. Надо было или двигатель вести в МТС, или буксировать туда трактор – для заливки, шлифовки и подгонки шатунов. Это уже была целая история, и потеря массы времени. Процедура «перетяжки» была несложная, но препротивная своей частой периодичностью, грязью и необходимостью.
Сколько бы по времени не сливал масло из двигателя, все равно, когда снимешь тяжелый поддон, а затем головки шатунов, противное горячее черное, как нефть, масло, игольчатыми струйками ,затекает тебе то в глаза, то в уши, то в волоса и т. д. Пока сделаешь перетяжку – весь в масле. Летом еще ничего – можно раздеться, тело легче помыть, а в другие времена года это была хоть и не главная, но проблема. Кабины трактор не имел, а мой «пенсионер» вообще ничего не имел – ни генератора, ни фар освещения, просто более -менее оформленная груда металла.
Заводился, естественно, рукояткой. Конечно, это не лом, как на С-60, но приятного в этом тоже было мало. Я, к примеру, делал это так. Для облегчения запуска двигателя каждый из четырех цилиндров имел специальные заливные краники, туда из бутылки заливался бензин, чтобы ускорить и усилить возгорание горючей смеси. Проворачиваю заводную рукоятку под «сжатие», где-то на положение под 45;, затем на свои сапоги одеваю обрезанные по передок сапоги Ахмеда (они были размера 45—46, я их подобрал в мастерской при выезде в поле), потом обеими ногами становлюсь на заводную рукоятку и делаю резкий толчок вниз.
Если повезет, – двигатель зачихает, выпустит серию черных колец и заведется. Если не повезет, – получу при отдаче по ногам, или по чему-нибудь выше, или, что еще более неприятно, – отлечу метра на три. Тогда стараюсь быстро подняться, тихонько всплакнуть, чтобы никто не видел, и снова – бензин в краники, ручку на «сжатие», и все опять по новой, пока не заведу. А что делать – ты тракторист, хозяин трактора, не будешь же каждый раз звать кого-то. Бывало, Ахмед подойдет, чем-то я ему приглянулся, рванет ручкой снизу два-три раза, заведет и молча- уйдет. Но это было редко. А так я старался не глушить двигатель целый день, да и некогда было его глушить.
Первая моя работа была примитивно проста, это если со стороны, конечно, смотреть. На одном из бригадных участков из нескольких полей, так называемых «кутов», работали три посевных агрегата, это три гусеничных трактора и девять сеялок. Бригадир поставил передо мной простую задачу – обеспечить подвоз семенного зерна к двум агрегатам, а третий агрегат обеспечивали на паре волов с такой же, как у меня повозкой, двое чеченцев среднего возраста – Аслан и Махмуд. Технология у них и у меня была примерно одинакова. Машина привозила семенное зерно из склада на полевой стан, ссыпалось оно на утрамбованную площадку по видам культур и сортам. Я должен был загрузить ведром повозку с наращенными бортами, чтоб хватило на дозаправку трех сеялок одного агрегата, подвезти семена за 2—3 километра и помочь сеяльщикам быстро пересыпать их в сеялки, потом так же быстро уехать назад, опять же засыпать, привезти уже ко второму агрегату и начать все сначала.
Рабочий день и у меня, и у моих коллег-чеченцев продолжался 24 часа в сутки. Задачи вроде бы одинаковы, но разница между нами была большая. И не только в том, что они вдвоем в два раза меньше меня грузили и выгружали зерна, а в том, что у меня был еще трактор. Они нагрузят зерно, ложатся в повозку и спят, пока волы не привезут к месту работы. Трактор с сеялками подъедет, их разбудят, и все нормально. Мой же конь, сам не ездил, этой грудой металла надо было управлять, делать ему технический уход при пересменах (агрегаты, работали по 12 часов и менялись утром и вечером в семь часов), на которые отпускалось по часу времени, каждый третий день делать перетяжку, о чем я уже говорил, и так далее. Темными ночами, мои коллеги-семеновозы, полагаясь на интуицию своих волов, так же спали при переездах туда-сюда, как и белым днем, а мне, без света, в кромешной тьме, по буграм и балкам надо было довезти неустойчивую повозку с зерном и, не дай Бог, его просыпать. Вначале я заикнулся бригадиру, когда же, мол, спать буду. Он, не раздумывая, выдал: «Ишо молодой, спать будешь на пенсии, подумаешь- какой-то месяц помотаешься, ничего с тобой не сделается. А спать будешь, пока агрегаты будешь ждать».
Ко всему привыкает человек. За время моей первой посевной я научился спать по 5—15 минут, мгновенно засыпая и мгновенно просыпаясь. Вначале, тело гудело от круглосуточной беготни с полными зерном ведрами, но постепенно втянулся в это однообразие. Иногда в обед, когда не надо было делать перетяжку, даже играл на гармошке по нескольку минут, ублажая своих коллег-чеченцев, страстно почему-то любивших русские песни, бригадную повариху и сторожа, старого оренбургского казака – деда Ивана Синицу.
За месяц мы отсеялись, без особых неприятностей. Был, правда, случай, когда я чуть не рассорился с Асланом и Махмудом, но все обошлось. В принципе мы мирно сосуществовали, но, честно говоря, был один момент, который меня раздражал. Дело в том, что уже после пересмены, перед заходом солнца, они стелили на одном и том же месте, у старого сурчиного холма, одеяло и молились, довольно долго. Я ничего не имел против, но в связи с этим нарушался общий ритм работы в поле, и мне приходилось делать лишний рейс в повышенном скоростном режиме. Пока они молились, «их» агрегат приходилось обслуживать мне. Посевная ждать не могла. Чеченцы относились ко мне, как к пацану, и считали мое старание в порядке вещей. Я тоже старался не придавать этим вечерним издержкам особое значение, но однажды они молились очень уж долго. Не знаю почему, но я уже сделал два рейса, весь, как говорится, был в «мыле», а они все еще стояли на коленях. Проезжая мимо, я несколько раз специально «прогазовал» двигателем, чтобы хоть чем-то им досадить, и поехал дальше.
Ответ последовал уже ночью. Они подобрали момент, когда я ждал агрегат и, естественно, спал на зерне в повозке (тогда еще зерно не протравливали перед высевом). Собрали целую кучу сухого курая (перекати-поле), сложили его у повозки, рядом с моей головой, подожгли и поехали дальше. Курай горит как порох. Столб огня поднялся в два раза выше повозки. Я очнулся – огонь, с испугу прыгнул прямо в костер, загорелись мазутные брюки. Хотя быстро все потушил, но было очень неприятно. Сидел на пашне и слышал удаляющийся прямо-таки животный смех «воловиков».
В принципе, «долг платежом красен». Где-то перед утром, часа в четыре, когда от бессонницы голова раскалывается, смотрю, спят мои «коллеги». Один вол лежит, другой стоит, а братья (а они таки были братьями) спят в повозке на зерне. Я остановился, с помощью монтировки с трудом поднял лежащего вола и заставил их идти вперед. Метров через пятьсот дорога, огибая поле, выходила прямо к степной плотине, с помощью которой сберегалась до осени талая вода. Обычно возле плотин делались стоянки для скота. Волы на плотину не повернули, они просто вошли вместе с повозкой и зерном в воду, остановились, попили и остались так стоять до утра.
Утром один из ездовых очнулся, сонный сполз с повозки и, очутившись по одно место в воде, с перепугу, заорал не своим голосом. Второй от этого рева вскочил и вывалился на другую сторону. Упал плашмя в воду и начал орать, что, мол, тонет, так как не умеет плавать. Ну и так далее. Все это выяснилось гораздо позже из их же рассказов. А в то утро и до самого обеда ,я был не рад, что это сделал, так как мне пришлось отдуваться за все и обеспечить работу всех трех агрегатов. Хорошо, трактористы выделили по одному сеяльщику, чтобы быстрее грузить зерно, и мы вышли из этого положения.
Никто не знал, куда подевалась повозка с братьями. А часов в восемь, мы как раз заканчивали пересмену, в приятных апрельских лучах восходящего солнца, можно было наблюдать если не идиллическую, то уж очень милую для моего сердца картину: из-за бугра выбежала пара огромных волов в ярме, без повозки, а за ними бежали и лупили их, чем попало, братья-семеновозы. Они гнали их еще километров семь до колхозного двора и часа через два вернулись, но уже с другими волами. Всю вину за нарушение рабочего цикла они возложили на волов и рассказали, что и как получилось (по их версии). Я тоже выразил сожаление по поводу случившегося, а они поблагодарили меня за то, что выручил их с подвозкой зерна. На этом данный инцидент был исчерпан.
Но жизнь в бригаде продолжалась. После окончания основной посевной кампании, по ночам уже не работали. Вечером все уезжали домой, оставались только мы с дедом Иваном. В бригаде мне нравилось. Это тебе не квартира у Байеров. Постоянно свежие газеты, батарейное радио, приличное питание, которое для нас с дедом было усиленным, так как лучшее из того, что оставалось за день, кухарка, племянница деда, оставляла нам на ночь. После первого месяца изнурительной работы, с переходом на выполнение отдельных поручений бригадира, я чувствовал себя прекрасно. Не омрачало мое состояние и косвенное напоминание об уничтоженном окороке – в бригаде появился новый водовоз, и им оказался небезызвестный дядя Вася (так звали по-русски моего прежнего хозяина Байера). «Раз он молчит, – думал я, – значит до «моего» окорока очередь не дошла. Ну и хорошо».
Сторож, дед Синица, потомственный оренбургский казак, принимал участие еще в русско-японской войне 1904 года, затем в – первой мировой и гражданской войнах. Перед глазами у него прошло очень многое. Конечно, он, рядовой казак, воспринимал и передавал все события с точки зрения своего уровня, но мне было интересно его слушать по вечерам, когда мы оставались одни. Иногда он повторялся, но я его не перебивал, а старался слушать, даже думая о своем. С ним мы ставили и проверяли капканы на сурков и лисиц, дискутировали по поводу отдельных газетных статей, которые я ему читал. В общем, весь май жили, как дед с внуком. Даже первую в своей жизни оплеуху я получил именно от деда Ивана.
Проверяли мы как-то капканы. Хитрые сурки не попадались, а в одном оказался еще живой хорек. Ему прижало задние лапы, и когда дед попытался разжать капкан, зверек ухватил его за средний палец. Дед взвыл от боли и закричал: «Робы шо-ныбудь, бо вже сылы нэма тэрпить». Я, долго не думая, достал перочинный нож и резанул по челюсти хорька с обеих сторон, снял его с пальца и тут же получил от деда оплеуху за то, что испортил шкурку. Я и не мог по-другому, хорь извивался, как змея, ну и напоролся боком на нож.
В общем, жизнь у меня вроде бы начала налаживаться. Конечно, в бригаде было скучновато, но я с удовольствием работал, много читал – всю поступающую к нам прессу до последней строчки, слушал радио, радовался за наш кишиневский «Буревестник», который уверенно играл в классе «Б» и даже в тот год стал там победителем. Все вроде было нормально, но однажды, где-то к середине мая, бригадир говорит: «Цепляй сегодня плуг двухкорпусной и пойдешь в распоряжение полевого бригадира, ён хоча картошку коло бригады посадить, для нас же».
Картошку для нужд бригады решили посадить на пяти гектарах рядом с полевым станом. Привезли целую бригаду женщин-чеченок разных возрастов и машину картофеля на посадку. Женщины перебирали картофель, который был прямо из подвала, да еще гнилой наполовину. Крупные картофелины по приказу полевого бригадира разрезали на несколько частей – «на глазок», а клубни помельче -сажали после каждого моего прохода двухкорпусным плугом.
Середина мая, тепло, рядом с пашней по целине море разноцветных тюльпанов, работа несложная, что еще надо молодому трактористу! Но смотрю, что-то с некоторыми женщинами странное происходит – сажают, сажают, а потом подбирают ведро самого крупного картофеля, высыпают в борозду и втыкают какую-то палочку. Странная технология посадки, ну, бригадир-то рядом, может, так и положено, по наивности думал я. На том и остановились мои размышления. К концу дня посадка была закончена.
Вечером того же дня я остался в бригаде один, дед Иван что-то занемог и уехал в село, а больше никто и никогда не оставался на ночь в бригаде. Тишина, техника стоит, тепло, при свете керосинового фонаря лежу в будке – читаю.
Только стемнело, слышу – мотоцикл где-то гудит рядом. Полевой стан был довольно далеко от автомобильной трассы, поэтому в бригаду мог заехать или заблудившийся, или кто-то специально. Вышел из будки. Мотоцикл подъехал к картофельному полю, недалеко от полевого стана и остановился. По звуку это был ИЖ-49, один из первых послевоенных советских мотоциклов, довольно простой, но мощный и удобный для пользования. Звук его двигателя с другим не перепутаешь. На таком мотоцикле ездил на работу наш Ахмед, вызывая у меня хорошую зависть. С мотоцикла слезли двое мужчин и направились к картофельному полю. Я не мог вначале понять, что они хотят делать, но через несколько минут все стало ясно. Стало ясно, зачем женщины днем высыпали в борозду картошку и ставили палочки, как бы отмечая место.
Два мотоциклиста, видимо хорошо зная, где, что и как;, с помощью электрических фонариков быстро находили палочки-знаки, выгребали картофель и буквально минут за десять, набрав пару мешков, отъехали. При развороте, луч света от мотоциклетной фары осветил меня, стоящего у входа в будку, на мгновение на мне остановился, и мотоцикл двинулся дальше. Через время «сборщики» подъехали еще раз, а потом еще, но уже с другой стороны поля. Я не спал, потому что обещал деду Ивану подменить его и охранять бригадное имущество, ведь на полевом стане много чего находилось. Охрана полей в мою «компетенцию» не входила. Да и какой я был охранник! Такой же, как и семидесятилетний дед Иван. Раньше охранников ставили не для охраны, а чтобы было в случае чего, на кого вину свалить.
Прошло недели две. На картофельном поле появились всходы. Так как поле было рядом с полевым станом, то все, в том числе и бригадиры, колхозный и от МТС, Рубцов, поняли, что картофеля нам не видать. Огромные черные проплешины зияли по всему полю, а там, где картофель взошел, торчали хилые листочки.
Рубцов подождал еще дня два, а потом на очередной утренней летучке с матом напустился на меня: «Ты, профессор, твою мать, что ты тут насажал?» Он понимал, что я тут не причем, но на ком-то надо было пар выпустить, и он добавил: «Цепляй плуг, быстренько перепаши этот кусок, а потом возьмешь Ахмедову сеялку, и с Асланом засейте пшеницей. А ты на завтра семян привези, там ешо с полмашины осталось на складе», – обратился он уже к полевому бригади-ру. «Та я казав агроному, шо ця картопля нэ зийдэ, а вин – ничого, мол, пойдет. Вот и пишла!» – сокрушался полевой бригадир.
Весь этот разговор слышали члены бригады. Я выполнил приказ Рубцова, и на второй день поле было засеяно пшеницей. На том, как говорится, официальная часть была закончена. Я не знал, кто приезжал за картофелем ночью, только догадывался. Но дня через два, к вечеру, в бригаду на мотоцикле приехал Ахмед. «Садысь», – показал он мне на заднее сидение. «Куда?» «Садысь, тебе говорят!» В бригаде больше никого не было, спорить с Ахмедом, зная кое-какие горские обычаи, было бесполезно, и я поехал с ним в село. Как правило, выселенные с Кавказа чеченцы, в большинстве мест их проживания, в Казахстане и Сибири, жили обособленно. В том же селе Джусалы, о котором идет речь, за пересыхающей речкой была целая чеченская улица с двумя рядами бескрышных мазанок. Там жили только чеченцы. Ахмед привез меня к себе домой, усадил на расстеленную на полу кошму, и вышел.
В его отсутствие я рассматривал довольно большую светлую комнату. Меня поразило в ней обилие часов. Двое, разных, по виду- старинных, висели на стенах, одни, настольные, стояли на окне, другие – на столе. Я сидел на кошме возле спинки большой кровати с панцирной сеткой. На спинке этой кровати, прямо у меня за спиной, висели на желтой цепочке красивые карманные часы. Я взялся за них, чтобы повернуть к свету и лучше рассмотреть. В это время в комнату вошел с деревянным подносом Ахмед. На подносе были вареное мясо, хлеб, соль и бутылка водки с одной рюмкой.
«Что, нравытся?» – спросил Ахмед, показывая на часы. «Я просто хотел посмотреть», – смутился я. «Раз нравытся – бэри», – прогремел Ахмед, снимая часы с кровати. «Да не надо, зачем?» – пытался протестовать я. «Бэри, тебе говорят» – опять пробасил хозяин и положил их рядом со мной. Налил мне рюмку водки, сам не стал ни пить, ни есть и предложил покушать, как он выразился, «очень хорошее мясо». Мясо было конское, холодное, но кушать было можно. Я выпил рюмку, немного поел и поблагодарил. «Еще пить будэшь?» – спросил Ахмед. Я сказал, что нет, и кушать тоже больше не хочу. «Тогда раздевайся и ложись на кровать, здесь спать будэшь» – приказал Ахмед и унес поднос.
Ну, думаю, только этого мне не хватало. Никто не знает, где я и как меня искать. Да и кому я в принципе нужен. Зашел Ахмед: «Ты чего не раздеваешься?» «Мне надо в бригаду, – сказал я, ни на что не надеясь, – я деду Ивану слово дал, в бригаде же никого нет». Ахмед был из понятливых. «Тогда поехали», – бросил он мне. Пока доехали к полевому стану, совсем стемнело. Ахмед высадил меня и уехал, ни слова не сказав больше, а я обошел полевой стан, зашел в будку и до утра читал книжку, так как заснуть не мог – в голову лезли всякие мысли. Немного жалко было подаренных Ахмедом часов, которые так на кошме и остались. Забыл я их просто.
Через несколько дней, вечером Ахмед приехал опять, уже вдвоем с братом. «Василь, – медленно проговорил Ахмед, – дай мне свой трактор, хотим съездить на нем на 305-й разъезд, дэло есть». «Да вон он стоит вместе с повозкой – я как раз сегодня перетяжку сделал, заводи и езжай», – говорю.
Они уехали, а я влез на крышу будки, забросил туда постель и устроился на ночлег. Там одному безопасней, и сверху все видно. Рядом со мной огромный гаечный тракторный ключ, как оружие обороны, так что можно быть спокойным. Долго не спал, уже не от беспокойства, а от интереса: дело в том, что назавтра меня вызывали в МТС. По рации передали, что пришла партия самоходных комбайнов, сажать на них особо некого, с людьми в то время было и так не густо вообще, а с комбайнерами тем более. Диспетчер МТС сказал по рации, что приказом я перевожусь во 1-ю бригаду колхоза «Красное поле», вместе со мной туда направляют новый самоходный комбайн, так как там ни одного такого нет и, даже прокосы делают сенокосилками.
А так как до уборки осталось меньше двух месяцев, то я буду пока работать на других работах и одновременно готовить к уборке комбайн. Он хоть и с завода, но работы с ним еще много. Лежу и думаю: «Вот три с лишним месяца прожил в этом колхозе, уже привык… Даже к этой груде черного металла, моему мучителю-трактору и то привык. А дед Иван, как же он без меня теперь будет? Мы с ним, как родные, дед с внуком стали». Он напоминал мне чем-то моего деда Гаврю, оставшегося в Слободзее. Такой же степенный, неторопливый, ответственный и вообще хороший.
Слегка переживал за то, что отдал трактор Ахмеду на ночь, ведь я еще не сдал его по акту. Ну, Ахмед парень серьезный, – подумал я, засыпая. Проснулся от выпавшей перед восходом солнца росы. Первым делом – где трактор? Стоит он, миленький, на своем месте, вместе с повозкой, значит, все нормально.
Утром я передал помощнику бригадира трактор, поблагодарил всех за помощь, так как каждый из трактористов, да и бригадир, никогда от меня не отворачивались, кто крутнет, кто толкнет, кто покажет, кто подскажет, кто пошутит или в чем-то поддержит. Плакала, глядя на мой узелок с вещами (а все мое было при мне) пожилая повариха .Слава Богу, что не было деда Ивана, я не знаю, как бы мы с ним расставались. Перед самым моим уходом на трассу подошел помощник бригадира. Там, говорит, в повозке книга лежала, наверное, твоя, забери. Книга была библиотечная, из МТС, толстая такая, «Фрегат «Паллада». Я ее понемногу читал месяца три. Сунул книгу в сумку, а сам думаю: «Как же книга в повозке оказалась, ведь Ахмед брал трактор вместе с повозкой, а книга была в будке?».
Еще больше я удивился, когда уже в общежитии МТС, сдавая книгу в библиотеку, чтобы не тащить с собой в другое село, машинально полистал ее (нет ли там старых писем) и обнаружил в середине аккуратно сложенную большую еще 50-х годов, сторублевку…
Года через два, когда чеченцам разрешили выезд на Кавказ, я встретил на вокзале в Орске младшего брата Ахмеда, он с семьей уезжал в Чечню. Разговорились, Ахмед, оказывается, со стариками уехал раньше, все чеченцы до единого, из Джусалы выехали. И брат разоткровенничался. Когда брали у меня трактор, вчетвером действительно ездили на 305-й разъезд. Из Орска на Кандагач шла одна колея, и поезда разъезжались только на таких специальных «разъездах». Так вот, за 20 минут, пока поезд стоял в ожидании встречного, они успели снять с нового комбайна «С-6» двигатель (хороший был двигатель, с приводным шкивом, хоть воду качай, хоть пилораму включай или еще что-то подсоединяй и работай). До утра эта четверка успела продать двигатель одному из колхозов соседнего района за 2000 рублей, а к утру трактор вернулся на место. Скорее всего, вложенная в книгу сторублевка была моей «долей».
Во всей этой обычной жизненной истории было еще и продолжение.
В 1967 году, райцентр нашего Ленинского тогда района, перенесли в поселок Батамшинский. В силу необходимости, я, уже главный экономист и парторг колхоза, был вынужден ездить туда очень часто. И каждый раз мой путь пролегал через село Джусалы. Оно как раз стояло между селом, где я жил, и райцентром. И всякий раз я проезжал мимо дома тех Байеров, где квартировал много лет назад, в период моих первых самостоятельных рабочих шагов. И каждый раз меня мучила мысль о злосчастном окороке, уничтоженном по нужде в то далекое время.
Как-то я все-таки решился к ним заехать. Хозяина не было дома. Поседевшей хозяйке я почти полчаса объяснял, кто я такой, пока она с трудом меня вспомнила, как будто у них были сотни квартирантов. Я понял, что заводить разговор с такой «памятливой» хозяйкой о случае многолетней давности – бесполезно. Она не пригласила меня в дом, и я не стал больше задерживаться.
Правда, через некоторое время, в случайной беседе с племянником моих Байеров, Вильгельмом, который работал агрономом в одном из колхозов нашего района, мы заговорили о его родне из села Джусалы. Я спросил, не слышал ли он что-либо о пропавшем окороке, может, какой-то разговор был. Вильгельм сказал, что слышал о чем-то подобном много лет назад. У дяди крысы или хорьки полностью съели один окорок. Только шкура и кость остались. (Наверное, мои палочки-распорки к осени выпали при сжатии кожи). У меня отлегло от сердца. Значит, на мне обвинение не висит. Ну, и ладно. Может, это и было справедливым завершением того мелкого случая.
Статистика
То, что статистика знает все – все об этом знают… Статистика на базе оперативного или бухгалтерского учета стала основой практически всей нашей жизни.
Бедой государственной, особенно советских лет, было то, что верховные руководители охотно верили представленным им проектным и итоговым статистическим показателям. Я хорошо помню, как выступая на очередном пленуме ЦК КПСС, Н.С. Хрущев, на всю страну заявил, что недавно, когда он был в Минске, ему позвонили из редакции газеты «Правда» и просили согласовать публикацию обязательства Рязанского обкома партии о том, что область в следующем году выполнит план госзакупок мяса на 380%! Редакция боялась публиковать такие авантюрные соцобязательства. «Я, – продолжал Никита Сергеевич, – сказал редакции: публикуйте. Ларионов (первый секретарь тогда на Рязанщине. В.Г.) – человек ответственный и он слово сдержит». Чем все закончилось – известно. Во-первых ,целый год тот секретарь ходил в фаворе, его звали на работу в ЦК КПСС, а он жеманно так отказывался, подождем, мол, конца года. Да, область Рязанская тогда сдала четыре годовых плана по мясу. Они выбили весь скот. Дело доходило до того, что крестьянин, забивая дома курицу, должен был сдать ее государству (на бумаге) в счет плана госзакупок, а потом выкупить ее обратно и съесть.
Ларионова взяли-таки на работу в ЦК КПСС, а когда он понял, что в очередном году область вообще мяса сдавать не будет по причине его полного отсутствия, то там же на работе и застрелился. Зато год ходил в супергероях. Вообще, зная ситуацию со статистикой советских лет изнутри, могу сказать, что лучше бы ее вообще не было, чем такая, доведенная до абсурда.
Помню, после правления Л.И. Брежнева в Молдавии в районах ходил такой анекдот – быль. Получил колхоз по два поросенка от свиноматок, ну мало же – отчитался в район, что получил четыре, ну опять мало – в районе еще два добавили, в Кишинев пришла сводка на шесть поросят, вместо фактических двух. Ну, положили на стол Брежневу ту сводку, он посмотрел и говорит: «Чтобы было справедливо, мы две головы заберем в счет плана госзакупок, а остальные четыре головы пусть пускают на воспроизводство»…
Борьба за нужную информацию, за какую-нибудь десятую долю процента, была чуть ли не главной целью всей властной иерархической лестницы.
Все от тебя ждут больше и больше, чуть ли не вытягивают из тебя – только отчитайся, только давай прирост. Что потом будет – неважно, ведь той десятой доли процента ждут все, и никто потом ничего выяснять не будет, давай сейчас. А каких только не было видов отчетности! Работал я главным бухгалтером. Казахстан, начало лета, зерновое хозяйство. Телефонограмма, вводится оперативная сводка о лете бабочек зерновой совки. Есть такой вредитель, когда комбайном убираешь, вместе с зерном в бункер падают такие светлые червячки, в 10-15 миллиметров длиной. Они наносят солидный ущерб и вот еще до уборки, вводят отчетность о наличии таких вредителей, ежедневно. Технология определения наличия совки довольно проста. Агроном-семеновод расставляет по полю небольшие корытца со свекольной патокой, в разных местах, в определенной последовательности. Затем объезжает поля и считает, сколько совки попало в корытца, и составляет информацию. На наших огромных полях, по 1000 и более гектаров, сбор такой информации был типичной «филькиной грамотой», но никуда не денешься – надо отчитываться. Агроном наш пару раз сводку составил, потом перестал ходить в бухгалтерию, то ли корытца закончились, то ли совка пропала. А район продолжает сводку требовать, доводя женщин нашей бухгалтерии до нервных срывов.
Как говорил наш главный агроном Лысенко И.Т., утро начинается… с водки. Он пропустил предлог «со». Один раз взял трубку -требуют сводку о зерновой совке. Я посмотрел в журнал, переставил числа местами и передал. И тут девушка-агроном из райсельхозуправления, уточняет, а сколько среди совок мужских и женских особей? Я наугад назвал цифры, а она еще уточняет, для себя что ли, а как вы определяете их пол? А черт его знает, но тут же выдаю – а мы их, мол, пропускаем через зубы, если яички в зубах застревают, значит – пол мужской, если нет, значит женский. Девушка бросила трубку и больше из района сводку о лете зерновой совки от нашего колхоза не требовали. Видно, уже сами на месте определяли, кто к какому полу относится.
Была у меня еще и более прозаическая история, хочу уже, как ныне профессор, поделиться с молодежью, особенно студенческой.
На третьем курсе в институте был у нас обычный программный предмет «Общая статистика». Позже, на пятом курсе уже была своя «родная» сельскохозяйственная статистика, а на третьем пока общая. Так как я учился в Москве, а жил на расстоянии почти в две тысячи километров, где не было в полном объеме специальной литературы, а в библиотеке института в сессионные дни не протолкнуться, то приходилось много учебников покупать в Москве. Мне это было удобно, так как я работал главным бухгалтером, учился по своей же специальности, и закупаемая литература не только помогала в учебе, но и была необходима в повседневной работе. Перед каждой сессией, я шел в магазин «Глобус» возле музея Маяковского и покупал недостающие по данной сессии и вообще учебники, пособия и справочные материалы. Так я и поступил, приехав на учебную сессию за третий курс. Купил несколько учебников, в том числе «Статистику» Хазанова. Нет, не того «Хазанова», а другого, профессора-статистика.
Приходим на первое занятие по этому предмету. Заходит сухонький аккуратненький такой преподаватель, уже в возрасте и говорит: «Я буду читать вам общую статистику, фамилия моя Хазанов. Есть много учебников по общей теории статистики, но я вам все-таки рекомендую мой недавно вышедший учебник, он еще есть в книжных магазинах, там-то и там-то». Показывает нам свой учебник. Синяя такая обложка и белым написано «Статистика». Именно такую книгу я и купил несколько дней назад, ни у кого другого во время первого знакомства с профессором такого учебника не было. Надо отдать должное тому Хазанову, он блестяще знал статистику, умел ее преподать и именно от него я услышал замечательную определяющую фразу: «Главное в статистике – правильно сделать форму, а уже заполнить ее легче». Что тут добавить? А вот в конце сессии случился у меня с ним казус.
Приходим на экзамен. И вот здесь проявилась наша раболепская сермяжность, причем групповая. Вся группа, тридцать один человек, пришла на экзамен с книгой Хазанова, и все выложили книги на стол, как выражение покорности и благоговения. Один я не принес книгу, стыдно было нести ее на экзамен. Профессор обошел аудиторию, потом оставил пятерых студентов, остальные вышли, и экзамен начался. Где бы я ни учился, на экзамен всегда шел первым и это не обсуждалось. Так было и в тот раз. Взяв билет, и быстро решив задачу, я пошел отвечать. Статистика для меня, ежедневно с ней сталкивающегося, не представляла каких-либо проблем.
