Жизнеформы психической реальности. Общая теория психической реальности
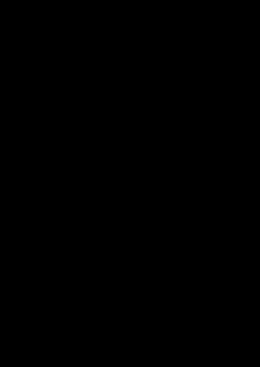
© Ярослав Спиридонов, 2025
ISBN 978-5-0065-8630-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Это не просто предисловие, это инструкция к прочтению. У меня огромная просьба к читателю: если вы начали читать – дочитайте до конца. Я не гнался за объемом, для меня было важно донести структуру. Эта структура посвящена механизмам работы того, что можно назвать психической реальностью. Здесь ответы на вопросы: как мы видим мир, почему мы именно так его видим и какие психические реальности существуют. А также очень важен вопрос возникновения эмоций. Он сложный, но, если понять предложенную схему, многое из жизни и мировосприятия человека становится понятным.
Для более доступного восприятия текста я старался сделать главы удобоваримыми по объему, чтобы прочитать за один заход. Я старался насытить текст как материалом клиническим, так и литературным, чтобы читатель мог легко распознавать как себя, так и других через механизмы идентификации и эмоционального отклика. Каждому откликнется свое, родное. Одна из функций текста – терапевтическая. Понимание как минимум облегчает.
Разные части книги отличаются по сложности. Я старался, чтобы сообщаемое было более понятным, но понятное не означает простое. Текст не должен быть простым, он должен давать что-то новое, видоизменять привычные схемы восприятия, расширять понимание, рождать противоречия и заставлять задумываться. И, наконец, оставлять послевкусие.
И еще: самая скучная глава – первая. В ней ставится самый сложный вопрос психологии. И тут нужно задуматься, даже немного зависнуть. Но это важно. Далее пойдет гораздо легче. Далее много образов. Образное мышление эволюционно несопоставимо старше мышления логического. Как писал Владимир Набоков, «Высшая мечта автора: превратить читателя в зрителя…».
В книге я старался совместить три жанра: научной монографии, клинического психоаналитического исследования и, собственно, литературный.
Важно: эта книга не имеет никакого отношения к психиатрии, несмотря на множество близких терминов. Здесь нет диагнозов, здесь раскрывается семантика психического, в рамках которой говорится о том, как возникает, работает наша психическая реальность и как она с нами разговаривает.
В конце книги дается глоссарий понятий для более кропотливого изучения текста и возвращения к тому, что вызвало противоречия.
Спасибо за то, что решили прочитать эту книгу. Это плод многолетней психологической практики, многолетнего преподавания в различных университетах и многолетних исследований.
С любовью и уважением, автор
1. Главный вопрос психологии: что такое психика? психика и ее жизнеформы
Давайте проведем небольшой мысленный эксперимент. Минуты на две. Попробуйте осязаемо ответить условному инопланетянину на вопрос: что представляет собой человеческая психика?
Получилось? На первый взгляд, простой вопрос оказался на поверку очень сложным. В лучшем случае академическое определение психики, которое не воспринимается осязаемо и полноценно, а лишь как абстракция. В других же случаях говорят о функциях мозга, чувствах, внутреннем мире, реакции на происходящие события, поведении, а кто-то (и нередко) о душе.
Мы наблюдаем заманчивый парадокс: все говорят о психическом, но мало кто может сказать, что представляет собой психика и психическое в целом. Где здесь какое-либо более-менее осязаемое основание?
Для того, чтобы понять, что представляет собой психическое, необходимо отталкиваться от понимания механизмов отражения. Что представляет собой отражение? Это реакция «материи» на воздействия среды. Почему слово «материя» дается в кавычках? Потому что мы говорим не совсем и не всегда о материальном как таковом. Но говорим о чем-то реагирующем.
В отличие от элементарных форм отражения, таких как физическое или химическое, психическое отражение есть не просто реакция на воздействие, это уже формирование, воссоздание, возникновение, воспроизведение, а иногда и рождение чего-то живого, но нематериального. Пауза, еще раз: не просто РЕАКЦИЯ, это уже ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ и СОЗДАНИЕ.
Психическое отражение активно по своей природе, оно создает то, что мы называем психической реальностью. Вся информация о мире, себе, других в своей динамике – результат психического отражения. По сути, все, что у нас есть, дается нам психическим отражением. От элементарных сенсорных ощущений, полученных нашими органами чувств, через чувственные образы до сложных мыслительных образований. И это не просто уровни отражения, это взаимопроникающие друг в друга процессы1. Таким образом, мы реагируем на мир, создавая свой собственный мир. Как отмечал А. Н. Леонтьев, психическое отражение «…характеризуется движением постоянного переливания объективного в субъективное»2.
Все, что мы имеем, есть элементы актуальной психической реальности. Все, что мы слышим, видим, чувствуем, желаем, о чем думаем, вспоминаем, боимся, мечтаем, стараемся не думать, забываем, планируем, все, что мы пережили и переживаем, фантазируем, – все психическое.
Однако само психическое отражение имеет свои ограничения, рамки и закономерности. От элементарных порогов наших ощущений и восприятий – мы не все слышим, видим, чувствуем – до эмоциональных, мотивационных и клинических ограничений.
Важно, что сам процесс формирования психической реальности нам недоступен: мы имеем дело лишь с тем, что дается «на выходе». И даже здесь, «на выходе», мы имеем дело лишь с небольшой долей сознательного материала. «Человек не воспринимает свои восприятия, но ему непосредственно открывается предметная картина их объектов»3, – справедливо отмечал Лев Маркович Веккер.
Сам процесс неуловим. Иногда абсолютно. Но иногда доступен изучению ретроспективно, задним числом, через анализ продуктов психической деятельности в их связи с личной историей, онтогенезом, становлением значимой системы отношений человека. По сути, главная задача психологии как науки – это изучение того, как формируется и функционирует наша психическая реальность.
Сама психическая реальность целиком одномоментно неуловима. Она слишком обширна. Доступно СОДЕРЖАНИЕ ее актуальных проявлений. Именно актуального содержания, выстраивающего ту ФОРМУ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, которая определяет нас в данный конкретный момент. Вот именно сейчас. Назовем это строение ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНЕФОРМОЙ.
И вот мы уже начинаем сталкиваться с тем, что можно назвать структурой психической реальности. Структура предельно логична. Это хорошо показано, например, у Лакана4. Она имеет свои единицы анализа. Для нас это жизнеформа психической реальности. Психическая жизнеформа или жизнеформа психической реальности представляет собой АКТУАЛЬНУЮ форму психической жизни, актуальный динамический фрагмент психической реальности. Это строительный блок, единица, система актуальных измерений и ориентиров психической реальности. Это то, во что мы погружены и из чего одновременно состоим именно здесь. Психическая реальность состоит из взаимно сменяющих свою актуальность жизнеформ. Жизнеформа – это психическая сущность, задающая свое актуальное измерение.
2. Символическая реальность. Жизнеформы символической реальности
2.1. Возникновение символической реальности. Первое приближение
Одна моя пациентка в какой-то момент своих отношений стала уговаривать своего молодого человека пойти к нотариусу для оформления завещания. Предметом завещания было его тело. У нее появилась навязчивая мысль, что после смерти возлюбленного его тело может достаться кому-то другому. Родственникам, например. Или еще хуже – бывшей девушке. А этого она допустить никак не могла. Исключено. Нужно было что-то с этим делать. И решение было найдено: после его кончины она планировала забальзамировать его и превратить в мумию. Ну и продолжать жить с этой мумией как с живым человеком: спать, завтракать, смотреть любимые фильмы, разговаривать.
Другая пациентка обклеила свою квартиру фотографиями погибшего отца. Фотографии были огромные, напоминающие фотообои. Она регулярно с ними разговаривала. Они являлись неотъемлемой частью ее жилища. Ее любимое занятие – это нередкие экскурсии по городу на последнем сиденье трамвая. Она сидела, слушала музыку и плакала, вспоминая преждевременно покинувшего этот мир отца. Разговаривала с ним. Правда, папа ее погиб больше двадцати лет назад.
В фильме Джона С. Бейрда «Грязь», по мотивам романа Ирвина Уэлша «Дерьмо», главный герой – полицейский Брюс Робертсон – вел крайне циничную жизнь. Он употреблял наркотики, подставлял своих друзей и коллег, спал с их женами, крал деньги, распускал слухи, любил унижать всех, с кем имел дело. Все, что можно было делать плохого, он делал. Однако в его жизни была светлая, практически неприкасаемая сторона – это его жена Кэролл и дочь. Именно здесь он менялся, именно здесь в нем просыпалось тонкое, чувствительное и уязвимое человеческое. Он менялся при любом упоминании о них. Будто бы с него спадала его инфернальная маска. Однако в конце фильма выясняется, что его жена с дочерью давно от него ушли. Его жена – это он сам. Он сам перевоплощался в собственную жену: переодевался в ее одежду, красился, надевал парик с такими же волосами и даже вел монологи от ее имени. Он практически стал ею, превратился в нее. Отождествление было полным. Обнаруженный в таком виде своими коллегами, он произнес: «Я просто не мог ее отпустить».
Когда он столкнулся с ней в супермаркете, она была с другим, он пришел домой и повесился на шарфе своей любимой команды. Под самую известную песню группы «Радиохед».
«Лолита» Владимира Набокова – одно из лучших произведений в мировой литературе5. Большинство обращают внимание на пикантные отношения Гумберта Гумберта и самой Лолиты. Однако за видимым и пикантным многие не видят главного. Сама любовь к Лолите возникла не просто так. Уже в самом начале произведения главный герой делает акцент на том, что никакой Лолиты бы не было, если бы не было Аннабель Ли. Аннабель Ли – вот ядерная любовь главного героя. Лолита, по сути, есть продолжение и воплощение любви главного героя к Аннабель Ли. Об этом, к слову, напрямую говорит известный американский литературовед, переводчик и набокововед Карл Проффер6.
«Королевство у моря» – вот первоначальное название романа «Лолита». Именно так хотел назвать его Набоков. Дело в том, что любовь главного героя к Аннабель Ли возникла на Ривьере. У моря. Им было по тринадцать. Они любили друг друга. Любили безумно – насколько это было характерно для подростков. Однако взрослые их разлучили. Аннабель Ли заболела. А позже умерла.
Это создало картину одержимости главного героя: он не замечал и даже презирал девушек отличного от Аннабель Ли возрастного диапазона. По сути, в каждой он искал именно ее – Аннабель Ли. Плюс к тому ее образ – это прямая отсылка к последнему опубликованному произведению Эдгара Аллана По. Оно так и называлось: «Аннабель Ли». В нем раскрывается любовь главного героя к юной девушке. Любовь эта настолько сильна, на грани одержимости («любили мы больше, чем любят в любви»), что даже ангелы начинали завидовать. Это и привело к ее смерти. Однако и после ее смерти любовь к ней продолжает жить. Не меньше, чем при жизни.
Это было давно, это было давно,
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлася Аннабель Ли…
Что общего в вышеотмеченных примерах? Игнорирование утраты, временной динамики, изменчивости природы, ее тотальная невозможность, а в конечном итоге игнорирование движения как такового. Реакция на это движение в качестве создания фиксированной статичности. Я закрываю глаза и не замечаю коллапс, храня в альтернативной реальности фрагменты утраченного, создавая из них реальность новую, символическую. Уже для меня главную, а порой единственную. Во всех случаях люди пытались осуществить замену утраченного объекта. Эти фигуры, наделяемые особым значением, становятся важной, эмоционально насыщенной частью психики. Совокупность этих объектов образует символическое пространство – символический мир, подчиняющий все и разворачивающийся на протяжении всей жизни, определяя границы нашего восприятия.
В упомянутом фильме «Грязь» зрители бо́льшую половину фильма не замечали отсутствия Кэролл, жены Брюса. Они так же, как и главный герой, были погружены в символическое пространство, окутанное ее монологами о Брюсе. Она была более чем реальна. Пока не обнаружилось, что Кэролл – это переодетый Брюс.
В примере с квартирой с фотообоями для пациентки ее отец, воплощенный в изображениях, был более чем живой. Несмотря на то, что фотография есть всего лишь результат химической реакции на свет. Не более. То, что изображено на фотографии, не имеет ничего общего с ядерным живым. Это всего лишь область изображения, возникшая благодаря законам физики и химии. Несмотря на тотальную схожесть с тем, кого фотографировали, это всего лишь неодушевленное подобие одушевленного. Фотография никогда не ответит взаимностью. Это фиксированный фрагмент ушедшего, лишенный функции ответа, функции живого. Она ничем не отличается от вышеупомянутой мумии. Более того, мумия имеет неоспоримое преимущество в праве на связь с тем, кого напоминает, – хотя бы на уровне молекулярной биологии.
2.2. Откуда все началось. Первичное поле
Кессон – изолированная камера, используемая для проверки водолазного снаряжения. Она наполняется водой и туда помещается экипированный водолаз. Именно в подобной камере, с различной долей модификации, начиная с 1953 года, провел много часов своей жизни американский нейробиолог и психоаналитик Джон Лилли7. Позднее она стала называться камерой сенсорной депривации – флоатинг, производство которой с 70-х годов приобрело промышленный характер.
Камера профессора Лилли представляла собой сосуд, наполненный соленой водой с температурой, приближенной к температуре тела. Соленая вода была необходима для поддержания ощущения невесомости. В свою очередь, схожая с температурой тела температура воды – для ощущения полной погруженности в среду, слияние с ней. В этой камере человек находится в условиях изоляции (почти полной, насколько это возможно) от внешнего мира. Его тело в невесомости, а окружающая водная среда, благодаря схожей с температурой тела температуре, не ощущается как чуждая и отдельная. Темно и ничего не слышно. Человек лишен привычных предметов, линий, цветов, контрастов, разрывов, перемещений. Лишен внешнего мира. Он лишен даже собственного тела, по крайней мере, в ощущениях.
На первых этапах нахождения в камере человек ощущал напряжение и тревогу. При этом тревогу нарастающую, доходящую порой до почти невыносимого пика. В схожих экспериментах, например в университете Мак-Гилла в лаборатории Дональда Хебба, где вместо капсулы с соленой водой были кровать, повязка на глаза, наушники и перчатки, большинство участников (студенты за существенную для 1957 года сумму в 20 долларов в день) не выдерживали и трех суток. Оставшимся требовалась помощь в возвращении к привычной реальности из-за возникших в ходе эксперимента галлюцинаторных переживаний и нарушений привычных умственных способностей (они разучились выполнять элементарные операции).
Позже напряжение сменялось легкостью. Галлюцинации и фантазии постепенно заполняли весь спектр процессов восприятия. Постепенно и незаметно разрывалась связь времени и пространства. Это было похоже на что-то психотическое. По сути, это и есть психотическое. Хотя сам Лилли обозначал подобные переживания в качестве подлинных, не клишированных конвенциональными программами.
Подобные состояния в жизни часто являются следствием воздействия психотропных препаратов, алкоголя или сильных внешних событий – например, пиковые переживания взаимной влюбленности. Также эти состояния могут являться следствием групповых действий и переживаний: секты, футбольные матчи, «эффект толпы» при стихийных массовых скоплениях и событиях. Религиозные переживания и переживания, вызванные различными медитативными техниками, тоже можно отнести к вышеотмеченному.
Бросается в глаза, что условия нахождения в камере сенсорной депривации напоминают внутриутробные условия существования человека. Об этом писал и сам Лилли. Да и сама по себе попытка конструирования камеры сенсорной депривации в том числе являлась попыткой воссоздания этих условий.
Эти состояния полностью безобъектны и исключают любую структуру. Они абсолютно неразрывны изнутри и образуют общую тотальность, в которую погружается человек. Я бы выделил два ключевых знаменателя этих состояний: (1) динамическое равновесие и (2) непрерывная связь всех со всеми – тотальная связанность. «После пары кружек пива мне хорошо, и я весь мир начинаю любить, какая-то гармония наступает», – говорил один мой пациент с алкогольной зависимостью. «Мне хорошо» – динамическая равновесность, «весь мир начинаю любить» – тотальная связанность.
На метафорическом психоаналитическом языке, если обратиться к венгерскому психоаналитику, одному из первых экспериментаторов в области психотерапии и любимцу Фрейда, Шандору Ференци, в этом плане можно использовать обозначения первичного лона, материнской утробы, доисторического океана, моря, Талассы8.
В языковом поле и мотивационной сфере взрослого человека сохранились дериваты этих состояний, которые выражаются в стремлении к гармонии, равновесию, миру во всем мире, вечной любви и пр. Опять же, повторюсь, здесь наличествуют два знаменателя: динамическое равновесие и тотальная связанность – связь всех со всеми.
Человек, находясь в комнате сенсорной депривации, со временем воспроизводит в фантазиях и галлюцинациях причудливый опыт. Ключевым здесь является слово «опыт». Опыт – это та форма, пусть иногда и сильно видоизмененная, которая основывается на уже пережитом. Это воспроизводство некогда пережитого. Пусть и, повторяюсь, практически всегда в видоизмененном и додуманном формате. Часто наши воспоминания – почти целиком фантазии. Но они всегда опираются на уже известных, воспринятых ранее формах. Когда человек фантазирует себя взлетающим над землей и смотрящим на нее из космоса, он уже знает, как выглядит планета Земля и как выглядит космос. Он это видел как минимум на картинках или фотографиях в школьном учебнике. Иными словами, он конструирует это из материала, который был уже усвоен ранее. Еще точнее, он строит это с помощью уже существующих в нем форм и структур – это создание новых обозначений на основе уже готового языка. Здание новое, но кирпичи и правила построения чертежей старые.
А о чем бы он фантазировал, что бы он выдавал в галлюцинациях, если бы (гипотетически) не имел опыта? Если бы его опыт представлял собой чистую доску, чистый лист, табулу расу? Это, видимо, то, что выдает младенец в утробе матери, – нечто смутное, неявное, неструктурированное, психотическое. Это, видимо, то, с чем мы рождаемся. Некое протопсихическое состояние. Назовем это состояние первичным полем.
Первичное поле ненадежно, оно обречено на развал и всегда временно. Сталкиваясь с реальностью, оно его поглощает. Но переварить поглощенное оно не может. Поглощение первичным полем реального мира в психоанализе обозначается как «первичный нарциссизм». Это состояние, когда весь мир воспринимается как часть и продолжение собственной психики. Но первичный нарциссизм терпит практически неизбежный крах, так как реальность слишком неоднозначна, сложна и динамична. Удержать в рамках первичного поля ее можно только временно, она разрывает его. Динамическое равновесие и связность всего со всем как знаменатели первичного поля не способны подолгу удерживать реальность. Реальность первичного поля терпит коллапс.
В терминах индивидуального развития вышеотмеченное можно обозначить следующим образом. Внутриутробная фаза развития предполагает полноценное расположение в фоне первичного поля – младенец полностью физически слит и погружен в среду, частью которой он является. Температура околоплодной жидкости, совпадающая с температурой тела плода, организм матери, полностью настроенный на потребностные требования плода, тотальное единство матери и плода, они максимально конгруэнтны друг другу. Рождение представляет собой первичную травму – это психоаналитическая классика. Например, Отто Ранк построил на этом свою теорию9. Привычная экосистема рушится и появляется новая. Травма рождения, коллапс. Система, настроенная целиком на плод, уже в прошлом, младенец сталкивается с новой системой, уже отдельной, наделенной функцией инаковости. Как бы ни старалась мать, среда уже иная: тотальная совместность разрушена. Однако младенец, как по инерции, так и в силу психофизиологических закономерностей и ограничений, продолжает воспринимать все как часть себя. Внешний мир пока отсутствует. Есть мир внутренний. Хаотичный, смутный, протопсихический. Это стадия первичного нарциссизма, когда внешняя реальность встроена в состояние первичного поля. По сути, это одно и то же.
Однако со временем первичное поле начинает разрываться под давлением сложности, динамичности и необъятности мира. Оно не может удержать его в себе. Возникает первичный коллапс. Разрыв восприятия реальности в качестве продолжения своей психики. Первичный коллапс ощущается не просто как разрыв первичного поля, но и как утрата части себя. Реальный мир всеми своими признаками демонстрирует младенцу, что он ему не принадлежит. Мир, прежде всего, в лице матери. Ее взгляд, интересы, чувства и мысли неизбежно обращаются в сторону кого-то или чего-то еще: в сторону третьего.
Тотальная утрата мира и части себя (а это в состоянии первичного нарциссизма одно и то же) приводит к возникновению объектов-заменителей, эрзац-объектов, символов… Символический мир возникает как невозможность выдержать утрату реальности, игнорирование этой утраты посредством создания альтернативного мира объектов-заменителей.
Вышеотмеченное очень ярко, сочно и точно отражено в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Здесь вишневый сад символизирует детство, от которого героям произведения (прежде всего Любови Андреевне) сложно, а порой и невозможно отказаться. Герои поставлены перед суровой необходимостью: вырубить вишневый сад и расплатиться с долгами и тем самым сохранить имение, иначе все будет к скорому времени потеряно. Однако сделать это очень сложно, катастрофически сложно вырубить сад, который связан с детством. Даже больше: со всей протяженностью и нескончаемостью жизни во всей ее тотальности и символической связности. «Ведь я родилась здесь, – восклицает Любовь Андреевна, – здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом»10.
Очень хороший анализ этой легендарной пьесы А. П. Чехова дан в работе А. Ш. Тхостова: «И как, спрашивается, можно разделить такой объект с какими-то дачниками? Сверхинвестированный объект не может быть никому передан, ибо право на него есть гарантия существования субъекта, а его утрата означает крах мира. Кем станет Раневская после продажи вишневого сада, бездомной Шарлоттой Ивановной, у которой нет настоящего паспорта, да и вообще нет ничего, кроме собаки, „кушающей орехи“? Если это так, то ничего не должно меняться и в отношении к объекту, поскольку любые изменения делают сверхинвестированность объекта опасной. Покуда он сохраняется, можно пребывать в иллюзии неизменности. Это вариант развития зависимости в результате гипертрофированной любви. Самым лучшим временем для человека с таким типом зависимости является время, проведенное с объектом сверхценной привязанности, в данном случае – детство. Очень счастливое детство, обладающее такой притягательной силой, что человек хочет его бесконечно продлевать»11. Символический мир, пришедший на смену «утерянному раю», НАПОМИНАЕТ этот рай и обладает очень сильной притягательной силой, заставляющей цепляться из последних сил и присваивать осколки потерянного в виде новой материи – психической реальности с очень сильной эмоциональной нагрузкой. Эмоциональная нагрузка символической реальности образуется функциональным соотношением ее параметров. Об этом речь пойдет ниже.
2.3. Базовые параметры символической реальности: дефицитарность, фасцинация и тотальность
По сути, символический мир есть результат повторной реорганизации первичного поля в результате неизбежного первичного коллапса. Но реорганизации в более усложненном варианте, насколько это в принципе возможно, со своими динамическими процессами и причудливыми контурами. В рамках индивидуального развития, онтогенетически, схема здесь следующая: (1) первичное поле, (2) первичный коллапс, (3) повторная реорганизация первичного поля в виде символической реальности. Но эта символическая реальность, несмотря на максимально острую (острее не бывает) эмоциональную насыщенность, обладает своими, особенными, характеристиками.
Можно выделить три такие характеристики: дефицитарность, фасцинация и тотальность.
2.3.1. ДЕФИЦИТАРНОСТЬ. Д-ПАРАМЕТР
Первым параметром символической реальности является дефицитарность: Д-параметр. Дефицитарность показывает то, что символическая реальность никогда не сможет покрыть и возместить потерянное, она будет всегда недостаточна, за ней стоит пустота, отсутствие, однако это отсутствие эмоционально насыщенно и притягательно. Бесконечно притягательно.
Ахиллес и черепаха – одна из самых известных апорий древнегреческого философа Зенона Элейского. Ее суть заключается в том, что быстроногий Ахиллес никогда не догонит медленную черепаху, если между ними было изначальное расстояние. Ибо сокращение расстояния между ними сопровождается движением самой черепахи – и этот процесс бесконечен. Понятно, что это ментальная конструкция. Но не суть. Главное, что то, к чему ты тянешься, в принципе недоступно.
В фильме Такеши Китано «Ахиллес и черепаха» главный герой, мальчик Матису, любил рисовать. Это была его главная и даже единственная страсть. Он рисовал все, но в его действиях сохранялось какое-то неявное и молчаливое отчаяние. Мир двигался. А остановить его не удавалось. «Сложно, да? Куры не хотят стоять на месте», – говорила ему одна из служанок его семьи, когда он пытался зафиксировать на холсте двигающуюся домашнюю птицу. Двигалось все: трамваи, птицы, автобусы. Умирали его близкие, что тоже являлось своеобразным «движением»: отец, мачеха (которая очень его любила), друзья, сокурсники, проезжающие автомобилисты попадали в аварии, собственная дочь, которая связалась с криминальным миром. Все это он пытался зафиксировать в рисунке, контуре, отпечатке: мачеху, которая лежала мертвой, выползающего из горящей машины и просящего помощи автомобилиста, собственную дочь, когда он с женой пришел на ее опознание. Это вызывало ужас. Совершенно безэмоциональный, черствый к живому, не замечая никого, он жил исключительно в своих картинах, пытаясь зафиксировать убегающую живую реальность и оставить на этом месте неживой слепок в виде картины. Но реальность не поддавалась. Ахиллес никогда не догонит черепаху.
Когда мама покидает ребенка, он обнимает материнский халат и засыпает. Материнский халат напоминает мать, он пахнет мамой. Это создает временную иллюзию ее присутствия и позволяет успокоиться. Отчасти успокоиться. «Отчасти» – наречие, которое демонстрирует частичность, скрывающую за собой отчетливую нехватку. Антонимом слова «отчасти» является слово «полностью». Но тут далеко не «полностью». Халат не мать. И никогда ею не станет. Он не сможет ответить взаимностью, это что-то всегда неживое, отсюда и недостаточное. Так же, как и упомянутые в первой части мумия, фотографии или же внешнее перевоплощение в утерянный объект.
Фотография, отражение в зеркале, картина – это попытка зафиксировать уходящее, свести на нет динамику природного естества, сохранить полностью несохраняемое, обнулить движение, наконец. Но сохраненное и зафиксированное всегда будет недостаточно. Это «почти» никогда не станет «полностью». «Я скучаю по нему, даже когда он рядом», – говорила одна моя пациентка.
За символическим объектом – символической фигурой – символическим Другим (это все одно и то же) – всегда располагается отсутствие. Там ничего нет, поэтому нехватка бесконечна.
2.3.2. ФАСЦИНАЦИЯ. Ф-ПАРАМЕТР
30 октября 1938 года более миллиона американцев внезапно охватила массовая паника. Они ждали нашествия пришельцев. Это не шутка или выдуманная история, тем более не каламбур. Это происходило на самом деле.
Дело в том, что в этот день в эфире станции «Си Би Эс» транслировалась постановка радиоспектакля «Война миров» по одноименному романа Герберта Уэллса. И люди восприняли художественное произведение в качестве актуальной новости. Вся предыдущая информация, знания, критическое мышление отошли на второй план, на первом плане был актуально услышанный текст произведения. Он привел слушателей в некоторое магическое замешательство. Что-то непонятное и полумистическое охватило умы и души людей. Это эффект фасцинации. Магическое действие стимула, при котором завороженный человек переходит в его подчинение. Иногда полное. Но динамически – временное.
Фасцинация, а именно завороженность, – понятие, введенное выдающимся советским ученым Юрием Валентиновичем Кнорозовым. Кнорозов – ученый, который расшифровал письменность майя, историк, лингвист и этнограф, при жизни ставший мировой легендой. По его мнению, фасцинацирующий эффект возникает при таком действии сигнала, когда предыдущий опыт и информация полностью или частично стираются под влиянием вновь поступившей12. Фасцинирующим эффектом обладают музыка и поэтический ритм, например. Или же средства массовой информации, вызывая ту или иную доминирующую эмоцию. Человек подчинен магии стимула. Это в какой-то мере очень близко тому, что рассматривал в своих работах академик В. М. Бехтерев в качестве внушения13.
Самым главным результатом фасцинирующего эффекта является придание символическому объекту магичности и сверхъестественности. Объект – человек, явление, процесс – наделяется характеристиками сверхъестественности. Он завораживает и тем самым подчиняет. Логика уходит на второй план, на первый план выходит яркое, цепляющее, вспышка. То самое, заставляющее застывать на одном месте и идти в том направлении, куда оно, завораживающее, укажет. «Я увидел ее и замер», – признавался один из моих пациентов, попавший в зависимость от девушки, к которой не то чтобы боялся подойти, он терялся при встрече с ней. Что-то (она) сверхъестественное на него смотрело, а он был заворожен ее образом.
Да, именно, фасцинирующий эффект наиболее выражен в ситуации влюбленности. Именно здесь отчетливо оголяется состояние завороженности, доходящее до ступора, когда когнитивные функции заторможены и все подчинено вожделенному образу объекта.
Она стройна и высока,
Всегда надменна и сурова.
Я каждый день издалека
Следил за ней, на все готовый.
Я знал часы, когда сойдет
Она – и с нею отблеск шаткий.
А. Блок
Фасцинация – это настоящий клад для поэта, основа для возникновения такого явления, как «муза». Лишенная эффекта фасцинации девушка перестает быть музой и возвращается в строй смертных обитателей планеты Земля.
Вместе с тем фасцинация без эстетического компонента неизменно пугает, завораживая своей силой неизвестности, придает воспринимаемому объекту характеристики потусторонности и хтоничности.
Фасцинация лишает человека логики, на первый план выводя непонятное, неструктурированное, но ритмичное, психотическое, волнительное и неуправляемое. Это спрятано в музыке, ритмах шаманского бубна, совместных танцах, орнаменте, ударениях при декламации, общих движениях и эмоциях. И практически нейтрально при воздействии речи и чистого текста. Если только речь не гениальна, как, например, у В. В. Набокова в рассказе «Ultima Thule».
Иными словами, эффект фасцинации пропадает и заканчивается там, где возникает структура и осознанное понимание. Там, где возникает видимое. С другой стороны, эффект фасцинации действует там, где активно невидимое, потустороннее, волнительное, берущее власть над человеком: ОНО смотрит на тебя, а ты его не видишь. И ОНО имеет власть над тобой. Клад для создателей фильмов ужасов.
2.3.3. ТОТАЛЬНОСТЬ. Т-ПАРАМЕТР
В 1904 году будущий выдающийся советский академик, а тогда еще начинающий российский ученый, представитель известной дворянской династии, князь, Рюрикович, потомок Юрия Долгорукова и Владимира Мономаха, Алексей Алексеевич Ухтомский проводил физиологические эксперименты. Как полагается: на собаке. И обнаружил занимательный факт. Электрическое раздражение коры головного мозга собаки приводило к рефлекторным реакциям в ее конечностях. Однако в период подготовки к дефекации воздействие на кору не давало привычных реакций в конечностях. В то же время усиливалось возбуждение в аппарате дефекации, с благополучным завершением которого привычные реакции в конечностях возвращались. Иными словами, возникший очаг возбуждения в виде позывов к дефекации как бы забирал в себя все остальное возбуждение. После акта дефекации рефлекторность конечностей возвращалась. Так Ухтомским был открыт механизм доминанты, в последующем ставший одним из основополагающих механизмов психофизиологического объяснения человеческого поведения и психики в целом. Несмотря на кажущуюся простоту, принцип доминанты достаточно глубок.
Доминанта представляет собой временный очаг господства возбуждения, в то время как в других частях нервной системы наблюдаются явления торможения. Иными словами, активация нервной системы в одном месте сопровождается угнетением процессов активации в других ее местах. Более того, другие очаги возбуждения не просто тормозятся, но и ОБСЛУЖИВАЮТ главный очаг. По словам Ухтомского, «доминанта создается односторонним накапливанием возбуждения в определенной группе центров как бы за счет работы других центров». Повторюсь: поступающие стимулы и раздражители (разнообразного характера) ПОДКРЕПЛЯЮТ и УСИЛИВАЮТ существующую доминанту. «Множество новых и неожиданных, так сказать, диффузно-безразличных поводов, – отмечает автор, – оказываются его возбудителями»14. Другие же поводы переходят в разряд второстепенных, фоновых и нейтральных. Так мать, крепко спящая под гром артиллерийской пальбы, реагирует и просыпается под легкий стон своего ребенка (пример Ухтомского).
Каким же образом доминанта связана с символическим миром? Все просто: символический мир выстроен образами. А сами образы, согласно Ухтомскому, являются результатом работы определенной доминанты. Наша психическая реальность есть результат работы доминанты. «Всякий интегральный образ, которым мы располагаем, – отмечает автор, – является достаточным продуктом пережитой нами доминанты. В него отлилась совокупность впечатлений, приуроченных к определенной доминанте, которая имела в нас свою историю»15.
Ведущая доминанта задает нам определенную реальность. Поступающие стимулы встраиваются в логику доминанты. Как отмечал Ухтомский, доминанта всегда самооправдывается, а логика – слуга ее. Это очень близко нашим рассуждениям. Символическая реальность соединяет, сводит все свои фрагменты в единую доминанту, насыщенную своими эмоциональными значениями. Все находится в одном пространстве и подчинено одним эмоциональным течениям – это я называю тотальностью.
Тотальность проявляется в том, что актуальный аспект символической реальности ставит в подчинительное и обслуживающее положение другие каналы получения информации. Например, если у человека доминирующая эмоциональная модальность на актуальный момент связана с отвержением, то любую поступающую информацию он будет интерпретировать в соответствии с этой доминирующей модальностью. «Я чувствовал, что она меня недостаточно любит. Почти всегда! Когда она опаздывала на свидания, не сразу отвечала на сообщения, ее тон был недостаточно приветлив. В компаниях я даже считал ее взгляды в мою сторону и в сторону других. Я почти всегда выигрывал, но это меня не успокаивало. Какой-то частью я понимаю, что это бред, но ничего не могу с этим поделать», – говорил один из моих пациентов. Здесь все внешние стимулы тотально встраиваются в актуальный символический ряд с доминирующей эмоциональной модальностью. Тотальный контроль образов над событиями. Символическая фигура ставит все остальные образы и события на второй план, она тотальна – захватывает все.
3. Чувственные основы символической реальности. Базовые эмоциональные модальности
Выделенные признаки символической реальности объединяются ее интегральным амбивалентным сверхпризнаком: она одновременно пытается охватить и удержать утраченную реальность, но вместе с тем принципиально не может этого сделать. Материнский халат напоминает мать, но он не мать. Это противоречие создает напряженность, являющуюся эмоциональным наполнителем символического.
3.1. Ядерная самость. Начало человеческой уязвимости
Поговорим о человеческой уязвимости. Первичный коллапс, выраженный в разрушении изначальной связи с домом, когда первичное поле рассыпается, приводит к тому, что мы сохраняем фрагменты утерянного в виде символических фигур. И тут возникает закономерный вопрос: что нас заставляет цепляться и сохранять эти фрагменты? Что заставляет нас прижимать материнский халат, пахнущий мамой, – той, которой в первичной форме нашего слияния (первичное поле) уже нет? Где находится то место, откуда исходит эта тяга к сохранению и удержанию?
Моя любимая часть «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова – это «Тамань». Эпизод, который эмоционально меня задел и даже как-то въелся в мою память, – эпизод со слепым мальчиком. Он был странным, представлялся убогим, улыбался, когда его жалели; разговаривал с Печориным на малороссийском наречии, а с загадочной Ундиной, к которой был привязан, – на чистейшем русском, воровал для нее и ее напарника-контрабандиста вещи и был в конце ими же оставлен ночью на берегу моря. Монету, которую они ему оставили, он даже не поднял.
Далее я приведу текст, он важен для понимания того, что я хочу донести:
«После некоторого молчания Янко продолжал:
– Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.
– А я? – сказал слепой жалобным голосом.
– На что мне тебя? – был ответ.
Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников».
– Только? – сказал слепой.
– Ну, вот тебе еще, – и упавшая монета зазвенела, ударившись о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик долго плакал, и долго, долго… Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!»16
Это очень сложно объяснить словами, но легко прочувствовать. В этом месте слова не играют важной роли. Все произнесенное будет недостаточным, а может, и неправильным, так как слова слишком бедны, недостаточны и ограничены, чтобы охватить ту смутную бездонность внутри нас, откуда высвечиваются первые признаки нашей жизни с первыми моментами нашего появления, пропитанными уязвимостью и чувствительностью ко всему, что находится в пределах нашей сенсорной досягаемости. Это ядерная самость, сердцевина нашей психики, наиболее чувствительная ее часть. Это та часть нас, что всегда тянется к теплу, но боится света17. Эта та часть, которая позволяет человеку реагировать там, где нет доступа к словам, смыслам, сочетаниям, оттенкам, контрастам, мыслям, наконец. Есть доступ к образам. Чувствам удобнее проявляться через образы, даже иногда разговаривать образами, сообщать что-то… Нет, даже не сообщать, а доносить – так правильнее. Может быть, поэтому то, о чем мы будем говорить ниже, а именно о ядерной самости, легче всего проявляется через образы. И даже здесь все не так просто.
У знаменитого английского детского психоаналитика, психиатра и педиатра Дональда Винникотта есть известное выражение: «Не существует такой вещи, как младенец». Под этим выражением подразумевается то, что младенец целиком и полностью зависит от матери и вне ее рассматриваться не может. Иными словами, вся его сущность определяется качеством контакта с материнской фигурой. Психика младенца организуется с помощью психики матери. Но там, где она не может самостоятельно организоваться, да и выжить в целом, что-то есть. Там есть из чего вычитать.
Так вот, опираясь на вышеотмеченное выражение Винникотта, ядерная самость представляет собой то, что остается от психики младенца, если исключить оттуда материнский объект. Это то место, где мы наиболее уязвимы и чувствительны, откуда исходят базовое доверие и стыд. Это место имманентной витальности. Место, откуда тянется рука в сторону того, где ничего нет. Самое прекрасное в человеке – это место его уязвимости.
Помимо доверия и стыда ядерная самость лежит в основе эмпатии, сопереживания другому. Как говорила одна моя пациентка, «Он так мило съел конфету, что я разревелась на полчаса». Именно резонирование ядерных самостей создает то, что можно назвать настоящей эмоциональной близостью. Это состояние близости кратковременно, ибо сложно находиться длительное время без кожи (о «коже» можно почитать у Анзьё18), но его ни с чем не перепутаешь и никогда не забудешь.
Ядерная самость обращена в сторону символической фигуры, символического Другого – актуальной части символической реальности – эквивалента потерянного, но сохраненного в том месте, где ничего уже нет. Этот союз ядерной самости и символического создает иллюзию былого «доисторического» равновесия, на котором зиждется ощущение стабильности, связности и непрерывности – эхо первичного поля. Но оно обречено. Без шансов. Халат не ответит взаимностью.
Мы уже отмечали двойственность символической реальности: она одновременно заменяет отсутствующее, но и одновременно о нем, отсутствующем, говорит. И даже настаивает: за халатом, мумией, картиной, фотографией, образом ничего нет. Эта двойственность создает предельное эмоциональное напряжение, которое является источником своеобразного эмоционального наполнения символического в виде его фигур. Это очень важный и сложный момент. Именно здесь, в этой двойственности, зарождается то, что можно в последующем назвать предельными эмоциональными модальностями.
Итак, вернемся к состоянию первичного поля, выраженном в состоянии тотальности, в котором находился каждый из нас. Как мы помним, оно характеризовалось неизменной связью всех со всеми, непрерывностью и равновесностью. Узлом всего этого являлись мы, все подчинялось нам и являлось нашей частью – первичное поле. Коллапс первичного поля, когда раскалывается, разрывается, фрагментируется весь мир, связан с запредельной тревогой, первоначально не имеющей места своего приложения, – это тотальный ужас. Затем в процессе возникновения символической реальности в виде символических фигур эта тотальная тревога начинает усложняться, фрагментироваться и связываться с фигурами символической реальности, наполняя их эмоциональным содержанием. Содержанием с привкусом притяжения и недоступности одновременно. Этим эмоциональные модальности представляют собой отражение отношения ядерной самости к рассыпающейся тотальности, первичному полю, некогда ее оберегавшему. А теперь уже эти фрагменты становятся бросающими, угрожающими, манящими, недоступными, завораживающими и холодными.
Характеристики (параметры) фигур-фрагментов символической реальности, с которыми связывается ядерная самость, в своем функциональном сочетании образуют соответствующую этому сочетанию эмоциональную модальность. Если осознать эти механизмы, можно понять, как появляются эмоции в символическом пространстве. Об этом поговорим ниже.
3.2. Возникновение эмоциональных модальностей. Базовая формула
Выше мы уже выделяли базовые признаки символической реальности, а именно: дефицитарность, тотальность и фасцинацию. Они образуют триаду, сочетание которой в доминанте определяет ту или иную эмоциональную модальность.
Что означает сочетание в доминанте? Это своеобразный треугольник, когда верхним углом является один из признаков символической реальности, остальные же признаки выполняют функцию дополнения и усиления главного признака. Иными словами, доминирующий признак, усиливающийся двумя дополнительными признаками, образует ту или иную эмоциональную модальность.
Рис. 1. Анорексическая модальность
Так такой признак в функциональной доминанте, как дефицитарность, усиленный тотальностью и фасцинацией, создает модальность отвержения, отказа и покинутости, названную нами анорексической модальностью? (Рис. 1.)
Дефицитарность символической реальности заключается в том, что символическая фигура никогда полностью не может охватить и заменить то, что пытается охватить и заменить. Материнский халат хоть и пахнет мамой, но таковой не является, фотография хоть и оптически отражает физическую реальность, ею не является. Иными словами, дефицитарность символической реальности приводит нас к ощущению неизбежной недостаточности в частности до пустоты в целом. За символической фигурой скрывается отсутствие. Там ничего нет. Ни-че-го. Мы неизбежно столкнемся с тем, что халат не мать.
Дополнительные признаки символической реальности, такие как тотальность и фасцинация, усиливают это ощущение отсутствия, добавляя туда функции всеобъемности (тотальности) и сверхъестественности (фасцинации). Это уже не просто нехватка, это магическое ощущение отсутствия объекта, пронизывающее всю психику.
Первичные ощущения здесь – брошенность, покинутость, отвергнутость. Ведущий нарратив – меня не любят или любят недостаточно. Тот, кто намекает мне на любовь, – бутафория. Связь человека с нехваткой-пустотой, возведенной в культ благодаря параметрам фасцинации и тотальности.
В свою очередь, такой признак, как тотальность, в своей доминанте усиленный дефицитарностью и фасцинацией, лежит в основе такой эмоциональной модальности, как модальность булимическая.
