Вдовушка
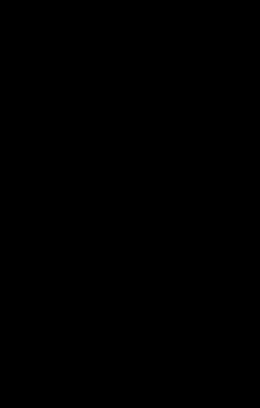
© Чухлебова А.С.
© ООО «Издательство АСТ»
Часть первая
октябрь 2022 – ноябрь 2022
Глаза вытекают
Влажная, как вздох средь плача, осень. В фиолетовом лаковом тренче иду. Охают под моросью листья: зеленые, желтые, красные. Светофор приказывает остановиться. Мимо прохожий:
– Красивый плащ!
Светофор говорит идти. Седые кудри Пушкина, лавка с выбитым деревянным зубом, аллея. В городе все молоды и нарядны. И суетливы. Морось собирается в капли и туркает людей в темечко. Мне-то что. Намокнуть – меньшее зло в мире.
Если остановиться, капли на лаке тренча – как крошечные глаза. Продолжишь движение – и глаза вытекают.
– Девушка, а где вы такой плащ купили?
Круглые глаза вопрошающей – с лихим разлетом стрелок. Лаковый тренч слепит прохожих, как лампа мотыльков, и моего строгого выражения за ним не разглядеть. Обычная прогулка вмещает от одного до трех комплиментов. Свет тренча милосерден: мотыльки мотыляются дальше, не сгорают.
Пешеходная улица прочерчена вширь квадратами плиток. Это значит, что можно быть строго в центре, будто в центре Вселенной, не в центре аллеи идешь. Некие другие это тоже просекли: бывает, мы движемся друг другу навстречу, как два барана, в упор. Победитель надевает на рога корону. Проигравший, как известно, плачет.
Те другие, что мне достались сейчас, бросают победу к ногам без боя. Я подбираю ее, чуть отряхиваю, надеваю на голову. Она немного давит на уши. Деревья аплодируют и теряют ладоши. Вызывать восторг увечных – гордая миссия.
– Какой у вас плащ классный!
– Спасибо. Гоша его очень любил.
Незнакомое имя, прошедшее время, история так себе, лучше не знать. Девчонка и не узна́ет, недоуменно улыбнется, блеснет колечком в носу на прощанье, в шелесте растворится. Девчонка и не узна́ет – а я все-таки расскажу.
Не вези меня в Луганск
Всвободное от слез и работы время я хожу на свидания с симпатичными. Вот сегодня с одним, например. Пока он тянется за глинтвейном, поедаю глазами реверс его тонкой шеи, легкий пушок, аккуратные позвонки. Высокий, большеглазый, с пучком темно-русых волос на затылке. Всё то, да не то.
Чудное видение открывает рот и с сочным донбасским прононсом сообщает, что уже год как ищет работу. Какую-то офисную, интеллектуальную. А то он ничего не умеет.
Я слушаю и киваю. Когда начинаю говорить я, его глаза блестят, как начищенная ложка – в круглом ее преломлении любой покажется себе уродом.
Платит в кофейне он. Спонсор нашего глинтвейна – его мама, оставшаяся в Луганске.
Да ведь не вчерашний беженец, а лет восемь уже у нас, тикал еще от первых призывов в республике. За плечами – физкультурный вуз, студенческие чемпионаты по стране его тогдашнего гражданства, так что быстро убегать он умел. Думал быть тренером, но какой из него упал-отжался. Он – интеллектуал. Были какие-то работы, ну, смартфонами торговал, но то разве то. В детстве читал Жюля Верна, не каждый осилит. Он безуспешно гоняет в голове вопрос, кем ему быть, принимает тупик за мысль, а себя за мыслителя. Дома на съемной он сварит себе пельменей и включит какой-то кинчик. Он курит дешевые, пока провожает меня на остановку.
Мы прощаемся, я улыбаюсь ему от уха до уха, он мешкает, не понимая, что́ всё это значит. А я просто люблю красивое. Мне очень нравится, что он живой, и сидел рядом со мной в кофейне. Я бы расставила по углам своего дома таких мальчиков, и ходила б средь них, будто в каждом углу – огромный, волнением дышащий, розовый букет. Главное, не забыть им всем рот замотать скотчем, а то нытья наслушаешься. Да я б и зарплату бы им платила, это честно. Даже жаль, что у меня нет денег на эпатажные излишества.
Я ныряю в автобус, сажусь у окна, хочу помахать напоследок, но он уходит, не оборачиваясь. Это зря, что я не умею спать с такими, как он. Чудесные небольшие ладони с длинными пальцами, ореховые глаза. Я могла бы влюбиться, если б он был статуей, – но он из костей и мяса, и такой придурок. Теперь он – просто силуэт в черном пальто, черное на черном, в каморке памяти и не различить.
Автобус движется, огни водят хороводы, кварталы поют хором, танец ли, песня вокруг, да всё невеселое. Дальше площади Гагарина темнеет Братское кладбище, и мне кажется, что вокруг снова лето, и я тащу Гошу гулять и целоваться. Мы входим за ограду, в конце главной аллеи видим скопление – чужих тут лет тридцать как не хоронят, гроб привезли к родне. Мы переглядываемся, секундное недоумение переходит в улыбки: надо же, какие мы знатоки мест для свиданий. Сворачиваем подальше от похорон, влажная зелень, деревья жмутся друг к другу всё ближе, дышат жаром. Гоша говорит, что в прошлый раз был на кладбище, когда хоронили его маму. Чувствовал, будто его самого в яму бросили, но сейчас, со мной, ему хорошо. Я обнимаю его за талию. Мы уходим с дорожки в непролазную глубь. Он такой высокий, что когда долго целуешь его, болит шея.
А потом мы шли в город, потные и счастливые, и целовались на каждом светофоре. Я высовываю язык, Гоша хватает его губами, и от этого обоим очень смешно, потому что зрителей должно бы тошнить.
Автобус едет дальше, и темное ноябрьское Братское давно позади. Летнее Братское, на котором Гоша протер мою ягодицу влажной салфеткой, а потом рассказывал минут пять, что у меня самые прекрасные в мире глаза, останется со мной навечно.
Самая некрасивая
Какая же некрасивая девочка на фоне атласной шторы, рядом с цветочной аркой, уселась первая за круглый стол в одиночестве. Под платьем невесты, должно быть, засел похотливый карлик, щекочет ее в непотребных местах, а та и зарделась вся, хохочет, как дурочка. Гости толпятся, жених стоит как гвоздь, по шляпке ударенный, подле невесты, молодой, молодая, молодые, а гости старые. Что ж ты приперлась на свадьбу в толстовке, милая девочка, и так Господь тебе за троих нос пожаловал, хвост еще этот, спасибо, хоть голову помыла. Уложить бы твои светло-русые волосы, подкрасить глаза, была бы нормальная. Но ты некрасивая; я обнимаю невесту, обнимаю жениха, говорю банальности, ищу свою фамилию в списке рассадки и двигаюсь прямо к столу, где сидишь ты.
Девочка улыбается мне, ровнозубая. Девочкин кадык торчит из шеи острым углом. Некрасивая девочка на самом деле очень красивый Сеня. Я сажусь рядом. Если пиалу хрустальную с липовым медом на уровень глаз поднять и поймать в ее глубине солнце, станет понятно, как выглядит Сенина кожа.
Но Сеня не знает об этом, он просто мальчик на взрослом банкете, и ему нечем заняться, кроме как бросить мне:
– Прикольно, что нас отдельно посадили от предков, да?
– Прикольно. А сколько тебе лет?
Да семнадцать ему. Когда он родился, во мне уж бывали. Сеня – младший сын крестной жениха, я – двоюродная тетка невесты, его родители за столом с родней в другом конце зала, мои разболелись и засели на карантин. Я сижу рядом с Сеней и млею, и совершенно не представляю, о чем говорить с ним. Постепенно другие гости собираются за столом. В активе: одногруппницы невесты, одна – с роскошным рубенсовским крупом, вторая – с дымной левитановской тоской в глазах; коллега жениха снулого очкастого вида, его же начальница в офисной белой сорочке. По правое плечо от меня – чей-то деревенский родственник с парочкой царапин на выбритом подбородке, из ушной раковины бесцеремонно торчит волос. Сколько тварей без пары.
Гости расселись, музыка вступает громче, ведущий выдает в микрофон торжественную словесную рвоту, все кричат «Горько», звон бокалов, глоток сладкой газированной бурды.
– Как тебе шампанское?
– Вкусное! Голова потом отвалится, наверное.
– А мы ее назад пришьем.
Сеня серьезный, Сеня находчивый, глаза у Сени – цвета налитой, готовой разрядиться дождем, тучи. Взять бы тебя за подбородок и повернуть твою голову к себе, как поворачивала в детстве головы кукол, заглядывая в их лупоглазую наивность. Оторвать потом эту голову, потерять – счастье игры познаётся только в утрате. Но сначала – вдохнуть запах твоей макушки, поцелуем висок припечатать, узнать, каков язык твой на вкус.
Деревенский родственник спрашивает, кто я и кому. Отвечаю что-то невпопад. Он спрашивает то же у рубенсовозадой, та фыркает. Родственник не теряется и кричит внеочередное «Горько!», другие столы подхватывают, мы пьем.
– Ты в универе уже учишься?
– Да не, поступить бы. Пока одиннадцатый. А ты в универе?
– Вроде того.
Кандидатскую я забросила, так что чисто технически вернуться в вуз всегда можно; не ложью я отравила собеседника, опоила лишь сладким нектаром полуправды. Тот проглотил, стал мягким. Решил, наверное, что я старше всего лет на пять. И ведь почти угадал: на пятнадцать.
Ведущий объявляет танец молодых, по центру зала летят световые мотыльки. Первый брак серьезен, как белое платье, как бутоньерка в петлице, как умиленные слёзы матушек, как спущенные на банкет деньги. Я вспоминаю свадьбы ровесников, на которых бывала несколько лет назад, такие же свадьбы, как эта сейчас. Будущая невеста ловила букет нынешней, и выходила замуж в течение года. Аня поймала букет Риты, Катя поймала Анин, я – Катин. Разводились мы в том же порядке.
Но ведь хорошо, что жених и невеста не в курсе. Нет сердца у того, кто не женился юным по любви и навсегда. У того, кто, немножечко протрезвев, не разводился, по всей видимости, нет мозгов.
Кружат в вальсе по залу, очень красиво, репетировали поди. Сене, правда, плевать. Уткнулся в смартфон, посмотрев секунд тридцать порядка ради. Дружок прислал мем – это, конечно, важнее.
Ведущий объявляет перерыв. Сеня спрашивает, есть ли у меня курить. Я вообще не курю, но взяла с собой пачку: предвидела, что станет на свадьбе тошно. А ведь и стало, еще в загсе. Пока регистраторша торжественно бракосочетала, я смотрела в спины жениху и невесте и думала о Гоше. Лапушка спит, а я вот как-то живу, и незнакомая тетушка утирает глаза платком и кивает мне с полуулыбкой: думает, что я тоже расстрогалась. Да я, может, главную любовь своей жизни три месяца назад похоронила, что мне чужой детский брак. Пяток лет протянут – и уже молодцы. Я на ощупь пробираюсь в коридор, отыскиваю уборную, запираюсь, размазываю сопли, дышу, поправляю мейк, исчезаю, уже на банкете появляюсь.
Все курят у входа в зал, но Сеня не может – запалят родители, попадет. Мы отходим чуть дальше в сквер. Сумерки, битые шашечки плитки, лысая клумба, последняя, крупная, чуть тронутая увяданием, топорщится желтая роза. Я прикуриваю, Сеня закашливается – привык к вейпам. Он болтает о молодом, но расчетливо. Поступать, мол, надо на мехмат, буду программистом, уеду. Куда уедет, зачем, – не знает. Если закроют границы, уедет хотя бы в Москву, лишь бы не здесь. Я говорю, что мне и на юге нормально. Сеня не понимает. Выключаюсь из разговора, оставляя вместо себя социально-приемлемые «угу». Сене этого вполне достаточно, и он болтает всё больше, ободренный моим одобрением. Мы возвращаемся в зал вместе, он наливает мне в бокал шампанское. Хороший мальчик.
Рубенсовозадая и левитаноокая зашушукались. Снулый очкастый будто очнулся – и налил шампанское остальным девушкам за столом. Деревенский докапывался до диджея. Мы чокнулись за молодых. Сенина матушка порхнула мимо столика, крякнула:
– Рыбка, смотри не напейся!
Сеня потупился и будто жаром пахнул, кажется, даже мне от такого стало теплее. Я улыбнулась:
– Не парься, это же предки. Пей сколько хочешь, ничего не будет.
Мы выпили, и выпили сколько хотели. На танцполе давно шевелил телесами веселый кружок. На свадьбах всегда танцуют, собравшись в кружок; может, это всего лишь дань древним солярным символам. Я поделилась мыслью с Сеней, он смешно закивал: «Знаешь, моя мама тоже думает, что на солярке ездит только что-то древнее. А на солярке сейчас и мерседесы еще как».
Ведущий объявил медленный – и я протянула Сене ладонь; он понял не сразу, я кивнула на танцпол, он дал мне руку. Вот так я обнимаю за плечи, да что за напасть с освещением, уже и забыла, какого цвета его глаза. Светлые, да, хорошо бы зеленые, влечение мое вечное к редким видам. Талию держит, будто всю жизнь держал. А я с семнадцатилетними и в свои семнадцать не танцевала, кто же танцует с девчонкой с загонами, пусть хоть какая красивая будет. Вместо загонов у меня теперь – биография, а ее на лбу не прочтешь. И я кладу ему голову на плечо, так дивно, и сердечки друг другу тук-тук навстречу, будто тоже объятий жаждут, мечтают сойтись в липкое месиво. Я поднимаю подбородок, Сеня наклоняет голову, проводит языком по моим губам, я отвечаю, молодая слюна вперемешку с шальными парами дешевого шампанского, коктейль «Юниор», заказывали? Очень противно, конечно, но и приятно тоже, этот едва ощутимый, терпкий вкус душистого мальчишеского нутра. И я долго-долго целую Сеню, с едва выносимым звериным удовольствием. Тут песня заканчивается, в зале резко врубают свет, возглавляющая процессию с тортом официантка цокает на изуверских каблучках.
Как только я открываю глаза, встречаю взгляд Сениной мамы. Она берет меня выше локтя твердой хваткой и уверенно уводит из зала. Становится против меня и смотрит так, будто выдрала бы пинцетом каждую мою тушью покрытую ресничку.
– Милочка, вам ведь тридцатка, поди?
Киваю.
– С ровесником целоваться не пробовали?
– Пробовали.
– И что?
– Да умер он, – пожимаю плечами и ухожу в зал, оставив мамашу в вопиющей растерянности.
Сени на месте нет, зато подали торт. Я ковыряю его вилочкой, надо же, выпендрились, десертные вилки на свадьбе детей электрика и сантехника. Рубенсовозадая фыркает, левитаноокая глядит на меня с влажным туманом, завидует что ль. Деревенский родственник отплясывает один на опустевшем танцполе. Сеня провалился сквозь землю. Я невозмутимо жую меренговое облако с кисловатой прослойкой джема, пока в голове эхом не взрывается мой же бесстрастный голос: «Да умер он, умер он, умер». Грудь трясет от всхлипываний – и я прячу лицо в блестящую глянцевую ткань салфетки.
Реанимация
Кто ее раздевает, тот слёзы проливает. Может, так и написано у меня на лице, вот никто и не рискует.
Подруга позвала в гости. Ее друзья, друзья ее парня, пицца разложена на полу совсем по-студенчески, пузырьки сидра шипят в кружках. Парень подруги моложе ее лет на пять, его друзья тоже, а мы симпатичные и им, в общем, плевать.
Мои красавчики все одинаковы с лица, и этот такой же, но честнее и проще как будто, и не по себе от того. Я улыбнусь ему, а он чуть сведет брови, ну и как это понимать, красавчик, блин. Схватить бы тебя за щиколотку… Хорошая тонкая щиколотка длинноногого мальчика. Давай ты хоть немного продемонстрируешь взаимность, красавчик, и тогда я, может быть, тебя за эту щиколотку даже кусну.
Но красавчик стоит, отвернувшись к окну, будто он деревянный, пап карловый мой буратиночка, тепла от тебя дождешься, лишь камин тобой растопив. Я тащу подругу на кухню:
– Анют, а что за херня с Даниилом? Я и так, и эдак, а он по нулям.
– Устал с работы, может.
– Так все устали!
– Он в ординатуре учится, детский реаниматолог. Младенцев откачивает человек.
Ох. Знаете, Даниил, я сейчас тоже своего рода младенец, нуждающийся в реанимации. У меня каждый день где-то тягуче болит, и я никак не могу понять, где, потому что болит у меня – нигде, завелось у меня где-то в теле нигде, на его месте когда-то была душа. Знаете, Даниил, вчера от горя я плакала пять раз.
Знаете, Даниил, у меня от воздержания ноет лобковая кость, да и чувство, будто внутри к тому же что-то оторвалось, оторви и выбрось, сожри, убей. Вы, наверное, и не с таким на работе справлялись. Боженька создал вас, чтобы спасать, – ну так спасите же, отработайте хлеб земной.
Даниил сидит на полу, тулит уставшую спину к тумбе с телевизором, тумба шатается, он выпрямляется. Спустя пару минут снова прислоняется к тумбе, телевизор качается, Даниил вздрагивает. Компания смеется, наливает, снова смеется. Даниил смотрит в одну точку. Да что у него с выражением лица? Будто вселенская жалость к миру застыла. Брови поднимаются с внутренних углов едва заметно, он медленно моргает, смотрит вперед, но не видит. Брови ползут вверх. Будто снова и снова, каждую секунду на глазах у Даниила из крошечного тельца выходит жизнь. Потрясти его, прокричать «очнись», да куда там, доктор уже сделал всё, разве это поможет. Вот и кончено, было и нет. Следующие пару минут никто не умирает, в глазах Даниила просто пусто. И он снова жмется спиной к тумбе, тумба шатается, Даниил вскакивает на ноги, и, раз уж привлек внимание, спрашивает:
– Кто пойдет курить со мной?
Вызываюсь только я. Подруга перехватывает мой взгляд, ободряюще кивает. Стены подъезда – в скорлупках зеленой краски, тусклый свет, мы с красавчиком дымим. Мечты моих старших классов сбываются не так и не тогда, когда надо.
Даниил молчит. Я пытаюсь завязать разговор, он поддерживает, но разговор тот – слон, на его плечи усевшийся. Даниилу тяжело. Я и не знаю, каково было бы мне, если б у меня перед глазами постоянно умирали младенцы. Поубавилось бы веселия, может быть. Хотя у меня и от личного горя не поубавилось, просто теперь всё стало вместе: проснулись, улыбнулись, обрыдались, посмеялись, застрелились. Но сейчас я всего лишь пытаюсь понять, как бы так сделать, чтоб держащий свод небесный на плечах Даниил вспомнил хоть на секунду, что он мужчина. И пусть небо рухнет, на черта лысого оно вообще нужно. Земли достаточно, нам хватит земли. Я улыбаюсь, я накручиваю локон на палец, я прикасаюсь к его запястью. Он отдергивает руку, будто я – это кипяток.
Мы возвращаемся в квартиру, и сидр допили, и новый не купишь, и нашелся коньяк, и сгустились тучи. И Даниил не стал садиться, оперся на дверной проем, выпил коньяка, выпил еще, выпил еще, и начал шататься, как телевизор, прежде угрожавший его голове. Вокруг продолжалась кутерьма, кто-то решил, что будет иронично включить Меладзе, кому-то и правда нравилось, словесная битва, прощай, цыганка, были твои губы.
Я опрокинула стопку в отчаяньи и пошла на таран. Под ручку, под ручку его увела, посадила в детской, сынишка подруги у бабушки, другой вот мальчик нашелся, чтоб комната не скучала. Мы сели на кровать. Даниил обслюнявил мне шею и уронил голову на плечо, тяжелая его голова и мои тяжелые мысли. Я тронула ладонью его макушку, густые табачные волосы чуть пружинили. Он захрапел. Медленно уложила размякшее тело, накрыла одеяльцем и чмокнула в лоб.
Вышла. Вдохнула улицу. Раздавила носком ботинка голубой экран льда в луже. Проследила за дальним гулом авто.
Дни – это аномалия, притворство космоса, будто бы его нет. Ночь – настройка мира по умолчанию.
Дело к зиме – и ледяная бездна опустилась на город. Плюнь в произвольное место на улице – точно не промахнешься, если не в лицо, так на волосы бездны попадешь. И я плюю в эту бездну, пока Даниил, небесную твердь на плечах не сносивший, спит сном мертвого младенца.
Снайпер
Какой-то ебаный Джонни, мы болтали пару дней о том о сем. Социология знакомства понятна: я дизайнер, он аниматор для игр на смартфон, покупаем шмотки в одном и том же неочевидном магазине, травим друг другу байки из ростовского рок-клуба, шарим за местный фаст-фуд.
И тут Джонни пишет: «У меня только что кошка умерла». Я пытаюсь ему посочувствовать, он говорит, что кошка была старая и мамина, приятного мало, но что уж. Он же не позовет меня закапывать кошку вместо свидания, за окном ноябрь, ладно бы летом. Вообще-то, я бы пошла, если б он пригласил, но не буду же я напрашиваться. Я люблю животных и не люблю похороны, ну и зачем.
К субботе мне стало очень тошно и одиноко, подруги разъехались, кто-то завел себе нового хахаля, кто-то уехал к родне в пердя, взрослая скучная жизнь благополучная. Ай, ну вас. Горе ощущается как гиря на шее. Тянет вниз, ломит от напряжения, бьет в грудь при неосторожном движении. Отвязать ее принудительно невозможно, и я пишу Джонни, ну а что. Он, наверное, уже закопал свою кошку, так что если не занят, то наверняка свободен. Гипотеза подтвердилась, в семь вечера мы встречаемся в сетевой бургерной на районе. Прекрасно, сегодня вечером я не сдохну от тоски. Восхитительно, большего нельзя и желать.
Джонни ростом с меня и некрупный, вжимается плечами в кресло напротив. Обсудили меню, он выбрал бургер самого скотского размера, да куда в вас лезет, в мальчишек. У девочек внутри полость для зародышей, по большей части пустующая, а у парней по ходу всегда внутри троглодит. Что уж, поедим.
Вообще, Джонни так себе, но у него есть совершенно очаровательный ракурс, когда он держит подбородок чуть вверх. Губища, похожие на те, что я когда-то любила. Не Гошины, еще до него; у Гоши тонкие были. В общем, губища, да и глаза с зеленцой, ну, сойдет. Ты так и сиди, главное, не шевелись.
Джонни зовут Анатолием, имя без альтернативы не стыдного сокращения, можно понять желание его сменить, но, конечно, курьез. Мне-то с именем повезло – Ольга, льды, гуси, короткое восклицание перед ними. Если сокращенно – всего лишь одна удивленная нота. Прелесть, да и только.
Джонни был барабанщиком, играл в кавер-группе, выстукивал «Батарейку» в турецких олл-инклюзивах, экспортный гимн почившей империи. Села батарейка – и всё тут, союз нерушимый. Холодный ветер с дождем и нет пути обратно. Прикидываю, что они с Гошей могли бы играть в одной группе, но в разных составах. Возможно, были знакомы. В Ростове живут три человека, полтора из них играют в кабаках, остальные пьют.
Но у музыканта уж больно нестабильный доход – и Джонни выучился рисовать. Показывает монстров на экране смартфона; выглядят реально стремно, у парня талант. Умение создавать уродцев и один симпатичный ракурс у мордочки – перспектива секса не то чтобы безнадежна. И даже перетереть есть о чем, может, мероприятие не будет разовым.
Принесли бургеры – и это, вообще-то, неловко. Всё валится, разговаривать невозможно, сыр тянется, соус капает. Наверное, не стоит друг на друга смотреть, но не смотреть совсем тоже как-то глупо, мы же вместе пришли. Я ем быстро, может, это рудиментарная привычка с тех времен, когда еды было мало, а детей много. Вполне вероятно, что те, кто быстрее ел, в итоге оставили потомство.
Но ведь надо же и к самцам ответственно подходить. Я-то всю жизнь выбираю так, будто гордо иду ко дну, целенаправленно планирую вымереть.
– Джонни, а ты в Ростове родился?
– Не-а, в Томске. Я тут года четыре всего, до сих пор там прописка осталась. Вот и пригодилось, а то сейчас повестку прислали бы как здрасьте. У меня в военнике учётка – снайпер, призвали бы сто пудов.
Приехали. Рядовой Джонни скрывается от мобилизации. Соединенные штаты России разберутся как-нибудь сами.
– Не понимаю, какого хрена они всё это начали. Точно дед таблетки забыл. Ну а я тут при чем? Почему я должен убивать? Или сдохнуть?
Я молчу. Не скажешь же вот так живому человеку – «Иди и умри». Отправлять убивать других тоже было бы странно. Джонни ломано пересказывает новости из-под VPN, мне скучновато. Он опустил подбородок, серьезно вытаращил глаза, и теперь выглядит нескладным и большеголовым.
– Давай уж не будем о политике.
Джонни откидывается, расслабляется и снова становится посимпатичнее. Но уже как-то всё равно стало.
Думаю, что если б я была мужиком, то пошла бы. Среди ныне живущих я всерьез люблю только Россию, хоть какая-то рыбка хвостом в сердце бьет. Такое я бабье кромешное, даже логика убийства ищет корешок – в любви, без него – не растет.
– Может, посчитаемся?
Кивает, махнул официантке.
– Счет, пожалуйста.
– Наличные, карта?
– Карта.
Разговор подвис. Я что-то говорю – безопасное, чисто о работе, Джонни отвечает, но его внимание расфокусировано. Он вскакивает с места и несется куда-то за мою спину, я любопытно оборачиваюсь: сортир с другой стороны, куда он там ломанулся? Джонни на ходу перехватывает официантку и вопит:
– Нас раздельно, забыл предупредить, извините!
Я прикрываю рот, чтобы спрятать застрявший смешок. Ёкарный бабай, Джонни. Тебя что ли бургером угостить? Тут недорого, мне по карману, вообще-то. Джонни снова садится передо мной, объясняется нарочито спокойно, как бы убеждая себя самого в своей правоте:
– Я вообще считаю, что норма, когда траты пополам. Не очень понимаю, почему принято платить за девушек. Какая-то устаревшая патриархальная ерунда, человек – он всегда человек, все едят, все потом, уж прости, в туалет ходят. Одни люди лучше других, что ли? Не понимаю этого.
– Что ж, твое право, – и я улыбаюсь; ну, не читать же ему лекцию про экономику размножения в человеческом обществе, в самом деле.
И выгнанный с позором, он нищим стал и вором; но нет, конечно. Мы просто вышли в ноябрьскую морось, перебросились еще парой слов, и растворились в мокром тумане.
Уехал
Осенью 2022-го дейтинги в Ростове стали походить на дембельский альбом. Но кто б знал, когда там дембель. Лично я не вывезу встречаться с военными, мне более чем достаточно одних похорон за год.
Мой взгляд цепляет светлую голову и улыбку какого-то есенинского свойства, но без душка погибели. Он пишет в профиле, что психолог и ищет серьезные отношения. Лично я просто психованная – и ищу хоть кого-нибудь, кто не умрет в ближайшей перспективе. Наверное, мы поладим.
Обычная болтовня, пытаюсь выяснить, в каком подходе он работает. Говорит, что подходы – фигня, у него – интегрированная техника. Надо же, умный какой! Что ж, понаблюдаем. Кажется, ему и правда интересно всякое про меня; наверное, это профессиональное умение слушать. Он отправляет мне фотки из путешествий по России. В стилевой такой рубашечке на фоне блеснувшего сталью моря. «Золотая голова», – выдыхаю я вслед за Айседорой. Блондины пахнут деликатно, почти нежно. Брюнеты пахнут зверьем. Так всегда пах Гоша, несмотря на вечную свою маскировку под беленького.
Но Сережа, его еще и зовут Сережа, золотая сережка в чумазом от солнца ушке нашего города. На третий день он объявляется около полуночи, дежурно спрашивает про мои дела и спустя минут десять переписки говорит, что хочет приехать ко мне прямо сейчас. Занятно он придумал, конечно. Часто ли соглашаются?
Вот незнакомый парень появляется на пороге. Здоровается, и тут же сворачивается в смешную уязвимую позу, потому что надо бы снять ботинки. Идет мыть руки. Рядом толчок, на котором я восседаю каждое утро, белый партизан, затаившийся в сумерках, преждевременное знакомство. Ванная вся в моих штучках, пшикалках, пузырьках, исподнее красоты. Я ставлю чайник, ну надо же выпить чай для приличия. Разговор не особо клеится, ситуация искусственная, принужденная. Вроде как собирались заняться сексом, но липнет чувство, будто, протерши очки и нацепив самое строгое выражение, на нас глазеет педсовет захудалой районной школы.
Я пытаюсь отшутиться, что приезжать ко мне среди ночи можно только после личного знакомства, не то мой кот будет в шоке. «Кота задобрим»; ну да, ну да, эдак тебя там приперло, сладкий. Отвечаю уже серьезнее, что это вопрос безопасности. Ты же банально сильнее, и неплохо бы для начала прикинуть адекватность в приличное время и в публичном месте. «Ну что ты, я просто шучу. Дышим, дышим, дышим под мой счет». Такой ты профи, конечно, Сережа. Какого-то хрена лечишь меня, хотя я не просила.
«Я военный вообще» – решил налить на макушку ледяной воды, чтоб разговор свернул на другую дорожку. «Военный психолог?» – надо же разобраться все-таки, епт. «Да. На горячей линии сижу». «И как тебе с ПТСР-никами?» «Они ничего еще, хотя бы понятные. Жопа в том, что знаешь кучу всего такого, за гранью понимания. И даже обсудить ни с кем не можешь, секретка». «А если с коллегами?» «Так они подчиненные. Я честно с ними не смогу».
Сережа пишет мне, что смертельно устал. Что прошлой ночью какая-то женщина ломилась в штаб. И чем она думала, хорошо, что ему не положено табельное. Дома он всё время лежит и ничего не может. Может разве что выпить, чтобы хоть как-то уснуть. И, в общем, понятно, что ему хочется приехать среди ночи к неизвестной девушке, сразу увидеть ее с изнанки, ткнуться в нее туда, где помягче, двигаться и застыть. Звон свой спрятать. Быть вместе гладкими, голыми, маленькими, защищать друг друга от оскаленной, брызжущей красной слюной пасти мира, войны. Но боже, Сережа, на мне и самой живого места нет. Ну куда мы друг другу, только последнее светлое выжечь дотла, дотоптать.
Позже он позовет меня встретиться днем, прилично, в кафе. Я была не в городе, привычно бежала от горя, куда только глаза глядят, в другие декорации, в другую пьесу. По дороге обратно я получаю от него сообщение: «Меня переводят в Мариуполь». «Или куда похуже?» – чую неладное, переспрашиваю. Сережа отвечает эмодзи с обезьянкой, которая закрывает глаза ладонями. Он пишет и позже, но редко: связь ловит не всегда. Я забываю о нем. И вспоминаю лишь с толчком в груди – осознав, что не помню, когда он объявлялся в последний раз.
До дыр
Когда я не рыдаю, веду себя как полная дура. Подруги перестали меня выносить. Коллеги лишний раз не трогают. Родители ходят вокруг меня на цыпочках, будто я – забывшаяся беспокойным сном, всех задолбавшая бабка.
Догорает панический двадцать второй год. Единственная радость, что в моем прифронтовом регионе нет прямой границы. Свист самолетов, вой ветра в степи, если прислушаешься, заметишь дальнее тра-та-та. Это в пригородах Ростова так слышно луганщину. Наш израненный регионсосед щедр. Когда его уже как следует подлатают, когда это всё кончится, когда.
Первый месяц горя я плохо помню. Две недели провела, не трезвея, а когда хоть немного окстилась – грянули истерики. Звучит как какая-то бабская ерунда, слёзки, игрушки, но на деле это ощущается, будто твои кишки перемалывают в мясорубке живьем. Несколько часов не можешь прекратить рыдания, срываешься на рев, вой, скулеж, ходишь кругами по комнате, пытаешься продышаться, остановиться, но только задыхаешься. Если приложить к тыльной стороне руки лед, не почувствуешь холода. Ты идешь трещинами изнутри, вся боль – там, поэтому твои рецепторы не регистрируют внешний раздражитель. У них и так перегруз.
И на второй месяц я не могу спать без света. Кажется, по щелчку выключателя начнется казнь мира. Вся грязь и горе человечества за тысячи лет истории выползут из темноты, протянут щупальца, передушат всё сущее. Здесь, сейчас, а в эпицентре действа – моя комната. Ночник не поможет; нужен свет сверху, электрическое солнышко, потолочная икона. Уснуть получается только под верхним светом, пусть для этого и приходится укрыться с головой. Может, в тюрьмах потому и не гасят свет на ночь, чтобы он, технологический оберег, выжигал всю нечисть, всё зло, сотворенное человеком. Одеяло во сне сбивается, под ним невозможно дышать, адски жарко. Свет постоянно будит меня, глубокого сна нет – лишь печальные синие островки дремоты берегут остатки разума.
На излете второго месяца я бесславно еду через полстраны к бывшему любовнику. Это настолько позорная история, что не хочется и вспоминать. Может быть, позже. Странно, но этот дурацкий эпизод помог мне наконец выключить свет в спальне. Неделька ночника после возвращения домой – и всё, мне снова доступен сон в полной темноте. Кажется, я просто окунулась во тьму – и она перестала меня пугать. Не будешь же каждый раз вздрагивать, когда видишь собственную руку или ногу.
Про третий и четвертый месяцы я сбивчиво рассказала выше. Неловкие попытки ластиться к первым встречным ненужным людям. Серия идиотских свиданий-досвиданий. Кудахтающая мамаша подростка едва меня не отпиздила на свадьбе.
Я пытаюсь найти хоть что-то красивое в мире, чтобы снова его полюбить, почувствовать своим домом. Но красота как категория теперь едва ли существует. У ней из самой сердцевины выдран клок. Зияющая прореха, сквозь которую чуешь ледяную воронку, наспех подлатана белыми нитками. Если бы просто человечек умер, дружок. Так нет же, умер сам принцип. И в этом разоренном, нищающем мире мне как-то предстоит жить.
Тра-та-та с луганщины – так смерть поет колыбельную. Тра-та-та – и чтобы понять, зачем идти дальше, нужно разобраться, что же случилось. «До дна!» – я поднимаю бокал, и первый глоток горя жжет пищевод до дыр.
Часть вторая
май 2020 – май 2021
Слово это Бог
Знаешь, эти платья тебе очень идут.
Кстати, какого цвета у тебя сейчас волосы? Длинные? Прекрасно, думаю, это очень красиво.
Помнишь картину «Ребенок с кнутиком» Ренуара? Все считают, что это девочка в голубом платье, но ведь это мальчик. Просто в конце девятнадцатого века маленьких мальчиков одевали в платья, и это казалось совершенно нормальным.
Или еще любопытнее, у Репина, та картина с освобожденными от казни. Такой там прелестник! Тонкое платье обнажило грудь, ножки иксом, в лице – смерть, а ведь спасся, спасся же, а сам и не верит, и черной тенью смерть на веки легла. Тога у него, конечно, не платье, античный сюжет, в избавителях – древний святой.
Ты и похож чем-то на репинского, только ростом повыше, и так здорово, что у тебя длинные волосы. Длинные волосы – это здоровье и стать, пусть коротко стрижется всякое зэчье, тебе-то зачем. Глаза у тебя – черные дыры, длина твоих ног такая, что грех, сам ты – искусство. Кажется, это уж слишком, так что давай о чем-нибудь другом.
Так вот, я решительно возмущена и это всё от души терпеть ненавижу. Эти разговорчики, привет, типа, как дела. Расскажу я, как дела, мне ответят, что я молодечик или вроде того, умочка, потом диалог взбрыкнет напоследок и умрет сам за очевидной бессмысленностью. По всей видимости, я за эвтаназию, поэтому предпочитаю, чуть разговор начнет задыхаться, свернуть ему шею превентивно. Да, я та сука бессердечная, что удаляется из пар в Тиндере, совершенно ничегошеньки не объяснив.
Может, ты и не в курсе, но вообще-то слово священно, слово это такой Бог. Раз уж мы говорим по-русски, наш Бог – русский, и я так и скажу, можешь сразу же записывать меня в шовинисты. Записал уже? Продолжим разговор. Слово – Бог, а значит, говорить нужно только о важном, пустословие – такой же грех, как поминать Господа всуе. Вот какое тебе дело до моих дел прямо сейчас?
Дело к трем ночи, а я пишу тебе всякий бред; а ведь завтра на работу. Хорошо, не ехать, спасибо, удаленка, если мы от этого вируса не умрем – вообще будет роскошно, будет восхитительно. Я засела в пригороде и не выхожу, очень удобно: не нарвешься на штраф, и в любой момент можно погреть свои косточки во дворе. Но очень, очень скучно. Говорить нужно – о важном, поэтому я наперекор себе выложила как мои дела, ну а что, мне кажется это забавным.
Ладно, о важном. Человечество получило от бытия бесценный дар, но только он – чемодан без ручки. Нести невыносимо, а если оставишь его за спиной – потеряешь себя. Вот все и кружат вокруг чемодана, как идиоты. Те, кто пытаются его сдвинуть, продвигаются миллиметрами, плачут от усталости, дуют на стесанные ладошки. Что в чемодане? Э, да всё тебе расскажи. Самое тяжелое из барахла – осознание своей смертности. Вот только понял, что ты – это ты, и всё, детскому твоему бессмертию без пяти минут конец.
Ловлю за хвостик момент, когда осознала себя собой, присоединяйся. Первый проблеск воспоминаний – белый осенний день, грубая девочка в детском саду глумит за неумение завязать шнурки, за мой зов, за мою просьбу к ней от лица всех обреченных глумит. Стерва! Я в слезах, и ничего не получается, а воспитательница наша летает где-то в облаках космической пыли. И тут на пороге появляется папа, не мама, а папа, это так удивительно, такое счастье, и оказывается, папа пришел, потому что моя любимая тетя приехала в гости из Москвы, и шнурки завязываются сами собой, уходят с повестки существования. И дальше – счастливый детский день, который я совершенно не помню, запись безвозвратно стерта. Всё потому, что волшебное избавление не помогает вообще ничему. Пока у тебя ничего не болит, ты не почувствуешь себя собой.
Может, я поняла, что я это я, когда влюбилась в мальчика, а подружка разболтала всё моей маме. Мама сказала, что мальчик балованный и со сколиозом, и любить таких мальчиков – себя не уважать. Мальчика я разлюбила, уважать себя перестала, тронула драму существования кончиками пальцев, не понравилось очень. Было всего пять лет, и тоже мне проблема, ан нет. Это ведь даже не первый мальчик был, просто такая я: мальчики, мальчики, мальчики с детства. И как цветы в вазе всё больше, не как обед, не как десерт. Платонически всё больше, но с мукой плоти. Как тебе еще объяснить.
А вообще, у меня было благополучное детство на совершенно неблагополучном фоне. Сосед слева жену бьет, сосед справа жену бьет, сосед сверху жену бьет, папа маму не бьет, про соседа снизу я ничего не знаю.
Дом наш стоял долгостроем, это и не дом был, а гостиница под Олимпиаду. Но наш Гребной канал гребанным им показался, соревнования перенесли куда-то в Литву или Латвию, а дом стоял скелетом, пока государство не рухнуло, а потом ожил в предсмертной агонии страны. Родители заселялись как раз в девяносто первом. Семнадцать этажей на всех ветрах, самая окраина.
Это была бы хорошая гостиница для спортсменов: номера на одну спальню и на две, личные санузлы, кухня на этаже, блеск. Квартиры же получились – отвратительные; да какие квартиры, гостинки. Вместо второй спальни все завели себе кухню, куда выдворяли спать чуть подросших отпрысков. Газ к дому не подвели, везде электрические печки, осенью и обогреватели. Проводка вечно горела, кошмар, в конце коридора – туман, искры и запах, и, может, пора бежать, иначе мы вообще все тут сгорим в этом муравейнике. Лифт ухал как нутро чудища, казалось, что сорвется с цепи и стремглав бросится вниз, но и то хорошо, если работал, он же мог стоять сломанным месяцами. Тяжело мне ребенком было подниматься на свой тринадцатый, долго, отдыхаешь в пролетах, ставишь портфель на пол, садишься прям на него, режет в боку, и воздуха совсем нет. На лифте лучше намного, но очень страшно. Чтоб не бояться, я придумала, что если лифт оборвется, то я просто дождусь, когда он будет близко к земле, и подпрыгну. Даже мечталось, чтобы он оборвался, свободное падение – это полет. А смерть я надурю, и всё будет в порядке.
Вот, осознала себя – и года через два поняла, что я смертна. Но не до конца еще, как игру пока, будто можно отмотать назад. Понимаешь всерьез, только когда хоронишь, да помоложе, да чтоб больно было до слепоты. Тогда понимаешь, и осознаёшь себя собой, живым существом, черточкой между датами. Червячком.
А квартира в детстве была слишком маленькая, и так хотелось больше пространства, что заоконное стало продолжением жилого, площадь квартиры выросла на целую пропасть. Тринадцать этажей – это очень высоко, но если долго смотреть вниз, то кажется, что не очень. Верила, что точное движение ног всё сгладит при посадке, вприпрыжечку разве потом побежишь, тормозной путь, все-таки. Отмотаешь, как на видике… Помнишь, как смешно люди бегают задом наперед, когда мотаешь?
Дом – на окраине; по левому краю видно горизонт, до горизонта – кресты. Да кладбище, кладбище там, самое большое когда-то в Европе, ты знал? Высунусь из окна и гляжу, когда скучно. Выглянешь раз – кладбище как сброшенная чешуя, змея уползла, а чешуя, взлохмаченная, так и лежит. Выглянешь другой раз – и приросло вспаханной землей, нормально так приросло, много. Выглянешь третий раз – та земля посветлела, чернеет новая. Смотришь на всё с высоты, а кладбище растет километрами. Везут Чеченскую и мне под ноги кладут, а я парю как маленькая птичка надо всем. Снилось мне, что прям в квартире у меня кладбище, у печки торчат кресты, а перед телевизором – памятники. Я боялась тех снов, но всё равно высовывалась из окна, и почему-то было радостно, что кладбище растет, может, это удовольствие от свершаемого на твоих глазах дела, жуткий восторг от девятого вала. Айвазовский бы справился с этим сюжетом, но тогда вместо огромных кладбищ были только моря.
Зачем я рассказываю это тебе, депрессуха сплошная, ты, наверное, уже устал.
Такой ты красивый мальчик, конечно. Тебе бы сразу пачку нюдсов отправить, но ты слишком красивый, в этом – божье, нельзя сразу нюдсы. И вообще, разговор – это молитва, разговор – это важно, так что у нас никакая не похабная переписочка, а настоящая служба, как в церкви; какой-то в этом есть высший смысл. Хотя если ты пришлешь еще фоток, я буду рада; очень понравилось на тебя смотреть.
А теперь представь – всегда над пропастью, под ногами – долина мертвых. Живешь как какой-то орлан белоголовый, только гнездо очень тесное. И тут соседскому орленку дарят трубу, и он высовывается из окна и трубит. Он так и не научился играть, кривой поломанный звук будил меня с год, не спалось же ему, соседу. Ему вообще родители прекрасное прививали: как-то весь вечер слушала, как они учили Пушкина всей семьей. «И днем и ночью кот ученый, я кому сказал, сука, блять, продолжай». Я смеялась, и мама смеялась, ну а что еще делать, если кот ученый, сука, блять. На меня тоже орали, бывало, но только если я с четверкой приходила. Без мата орали, мы не ругались друг при друге, только по своим делам ругались. Приличная семья, в классе все думали, что папа начальник, а папа – просто папа, ну и ничего, только мама возмущена.
Ты всегда ложишься спать так поздно, что аж рано? Господи, пять утра уже; понятия не имею, как завтра работать. Вот это мы заболтались с тобой, редко с кем так получается, это просто супер, чудеса. Спишемся завтра, еще обязательно спишемся. Я обычно уже сплю около полуночи, ловишь ритм на природе: солнышко село – значит, пора спать. Рада знакомству. Как, говоришь, тебя зовут?
Волчонок
Георгий, Жора, или Гоша, или Гера, или Жорж, – я откликаюсь на всё. Хочешь звать меня Гошей? Ой, меня так мама всегда называла.
Мне очень нравится, как ты необычно пишешь, как в книжке. Я так красиво, как ты, не умею, но буду стараться. У меня не получится, так что не сильно смейся и не считай меня недоразвитым. Это я так, чтоб в грязь лицом не ударить, как бы случайно падаю сам. Такая стратегия, шахматы. Ты играешь, кстати? У меня третий разряд, а еще я приехал из Питера, и гитара, опять-таки. Здесь на юге все говорят, что я отличаюсь; это мне нравится, я такое люблю.
Ты прости меня за разнузданные фотографии эти. Тебе вроде понравилось, но ты всё равно прости. Так вот сразу тебе всё – коленки, гольфики, баловством наружу. Но что тянуть, зато сходу всё понятно. Вот подружимся с тобой – и будешь наряжать меня как куколку, как принцессочку. А я внезапно так басом в разгар процесса: «Кто твой папочка?» Ахахах.
В картинах я как-то не очень, вот в кинокартинах – отлично. Да у меня даже жизнь началась по Тарантино, такой вот Тарантино из Воронежской области. Я – Гера, а отец героиновый был. Всего одна черно-белая фотография: мама, совсем еще девочка, начес, тогда так носили, отец, лыс и худ, я – щекастый пельмень в теплом комбинезоне. Сидим все вместе на парапете в парке, я посерединке, идиллия, прямо семья. Маленький такой я. В комбинезоне этом мать и увезла меня в Питер, не то бы ее убили и меня убили. А так только отцу прострелили колени. Ору столько, кровища, страх такой, чисто Тарантино, ну. Отец задолжал им, что ли, или просто всех задолбал, не знаю, как там было принято в девяностых. Мама накрыла меня собой и забилась в угол. Утром увезла к тетке в Питер. Охуеть история, да? Наверное, не надо так сразу при знакомстве, но ты же говоришь, что любишь сразу о важном. Колени – это очень важно, они нужны человеку.
Мама и сама здоровья не густо – больной позвоночник, – а еще и крутись как-то одна с ребенком. А ведь была настолько красивая, краше, чем Ума Турман, раз в сто. Глаз с поволокой, огромный, зеленый; то ли хитрость, то ли наивность в лице, ну, выражение. У меня такое же, говорят. Мужики вокруг нее – штабелями. Вечно, правда, не те.
Мама, папы, я – несчастная семья. Да какие папы, я звал «папой» всего одного человека в жизни – дядю Сашу. Хороший мужик, сварщиком работал, эси диси там, дип пёрпл, подбухнет – и колонку в окно, всем соседям слышно. Веселье!
Вот фотография: держит маму на поводке, приспособили так ремень обычный от брюк, а она заливается, хохочет. Хорошо им вместе было, громко. Я бы предпочел всего этого не слышать, но раз уж я в курсе, то просто рад, что маме с ним было хорошо. Хотя могли бы и потише, конечно.
У других папаш я не вспомню даже лиц, не папы никакие вовсе – так, осеменители маминых простыней. Однушка ведь в коммуналке, «Гоша, у нас сегодня гости». Ляжешь спать под шепот, проснешься под скрип, фу. Конфету дадут – и маму ебут, ну хоть какое-то возмещение ущерба. Нет бы сделать ей массаж, сволочи, у нее ведь спина больная.
Я сам выучился делать массаж, и получалось отлично: руки у меня с детства нежные, чуткие. У девочек – и у тех запястья обычно толще моих; пальцы у меня длинные, настоящие музыкальные. Эси диси там, дип пёрпл, папа дядя Саша показал на гитаре первые аккорды, даже что-то получаться начало. Я бы научился играть еще тогда, если б он не забухал неудачно, не получил бы в нос неудачно, не упал бы неудачно на поребрик затылком. Скучали мы с мамой и плакали по нему. А потом другие папаши пришли, с конфетами.
Лучше б они все были и дальше, конечно, эта сборная команда сладкого королевства. Но появился Егор, и привел с собой Антошку. Антошка – дурачок, а Егор просто дурак, да слабо сказано, но что тут еще скажешь про алкаша-рецидивиста. У Антошки было отставание в развитии, молчал всё. У Егора – опережение: бить начинал всегда раньше, чем думать. В двенадцать лет я завел себе нож под подушкой, полезет Егор – и убью его; так думал. Да и сам стал будто нож: холодный, острый, хоть кусок мяса резать, хоть Егора, хоть хлеб – всё одно. И одновременно с этим трусился весь, мелкий, худой, дите. Мама носом хлюпала, сопли кровавые. Влезу в драку, сам отхвачу, Антошка помолчит-помолчит, и как заорет! И ему, и мне Егор зарядит, Антошка забьется под кровать и сидит, как зверье какое. Но мне не было жалко Антошку, и себя не было; жалко было только маму, очень жалко маму. Два года мы так, а потом Егор, слава богу, кого-то убил, но не нас, и сел надолго.
Ты не забанила меня еще? Супер. Хорошо, что ты не малолетка, и сама всё понимаешь. Сколько нас так выросло в девяностые, и ничего, нормальные ведь, ну, как нормальные… Одна подруга вообще нашла своего отчима мертвым в петле, так она остановила наручные часы на том времени и ходила так долго, лет пять, пока не потеряла часы где-то. Нормальная девчонка такая, веселая, мы играли вместе в группе. И всё же в порядке, в конце концов. Мы все – совершенно нормальные люди, просто не самые счастливые, но кто и когда вообще, в чем проблема.
Нам было хорошо с мамой вдвоем; она мне много читала, приучила меня к книгам. Гладила по спинке, говорила, что спинка у меня минтайская, ну, минтай, рыба такая морская костлявая. Я волчком, конечно, вырос, не рыбой совсем, но не таким, что зубами щелк. Любил одну книжку про индейцев, и там индеец нашел волчонка, воспитал его, а тот ему потом помогал на охоте, и вообще помогал. Мама мне так это читала: я под одеялом – как всегда, болею, – торшер желто светится, мамин голос звучит как-то кругло, можно же так сказать про голос? Словно шар золотой, только голос. Да, волчонок в этой книжке не главный герой, но очень важный. Меня это совершенно устраивает.
Я тебе почитаю вслух когда-нибудь, если хочешь; я это очень люблю до сих пор. И читаю с выражением так, артистично, чтоб слушать интересно. Тебе понравится. Ну, обычно такое нравится девчонкам.
Кроме книжек, я очень любил Сергея Бодрова, у меня плакат на стене висел, и были кассеты «Наутилуса». Засмотрел оба «Брата» до дыр, только приходим к тетке в гости – я к видику, и поминай, как звали. Данила был очень клевый, прям вообще герой, и Сергей тоже, прямо как папа дядя Саша, его тогда уже не было, а Данила был, и убивал всех врагов. И женщины его любили, Салтыкова красивая такая, да и остальные ничего себе. Я подрос когда, выпросил у мамы на день рождения плеер с дисками, и свитер был у меня похожий. Когда не болел, выезжал в центр Питера – и ходил, как Данила в кино под «Наутилуса», и думал, что сам тоже буду убивать всех плохих. Смех один, я ж худой, то враги бы меня скорее убивали, но так хорошо я ходил, так нравилось мне.
Когда Бодрова ледником завалило, не хочу даже и вспоминать, что со мной было. Я месяц спать не мог, может. Ты тоже расстроилась, да? Теперь-то я понимаю, что Бодров на самом деле искусствоведом был, и никого не убивал. Очень культурный человек, ренессансы там, то да сё. А Салтыкова вообще ржала как припадочная во время сцен с поцелуями, ну, она не профессиональная актриса, не могла играть. Это я знаю из фильма о фильме, очень интересно. Мы посмотрим с тобой обязательно, если захочешь.
Я был в детстве совсем другой, не такой, как сейчас. Молчаливый, замкнутый; все орут во дворе, а я мимо шмыг, тень мальчика. Или вообще лежу дома болею, обычное дело, и что там говорят про меня, какая мне разница.
Хотя вот случай был. Егор выдрал из моей книжки страницу и начал на ней есть вяленую рыбу, мерзко-мерзко причмокивая костями, в субботу-то утром. Со смаком, со вкусом. Звук этот будто посасывал мои обнаженные мозги. Да и книжку очень жалко, хотя сейчас уже и не вспомню, какую. Так хотелось вылить Егору на голову его пиво, но он вообще бы меня кастрировал за это. И я просто сел с недовольной мордой напротив, и смотрел на него пристально-пристально. Он не сразу заметил; зыркнул раз, второй, а я гляжу как приклеенный, ноль эмоций в лице. Егор прикрикнул, а я продолжаю, он стукнул по столу, а я как каменный. Он вскочил и чуть придушил меня, чисто чтоб пугнуть. Шея заболела вся изнутри, я отполз. Скоро он нализался и уснул. Я спер у Егора из куртки денег сколько было и ушел, осенью в дождь. Шлялся весь день, мама бегала, искала, подняла на уши весь двор. Вечером меня нашли на улице с какими-то обсосами, мама дала мне по морде прям при всех. Ну, за дело, конечно. Повезло, что Егор всё еще дрых пьяный. У меня температура к ночи, понятное дело, – столько под дождем; да мне много и не надо.
Болел потом с месяц, а мама достала где-то курицу хорошую домашнюю – и была у меня своя собственная кастрюля бульона, всем остальным его нельзя. Егор продержался пару дней – и потом сожрал весь бульон; да как «держался», то ему не лезло от пьянки. Но мне всё равно было очень приятно два дня, что вот есть в холодильнике моя кастрюля, и в ней желтый наваристый вкусный такой бульон. Но главное, мама любит меня, любит меня мама. Достает курицу, варит бульон. Пока Егор спал, подложила ему в карман столько же денег, как я взял. Спасла меня.
В основном я в детстве занимался всякой дрянью, но мне не особо нравилось, а нравилось петь. Звук о плиты бьется и будто раздувается от удара, набирает мощь, долго-долго дрожит. А в остальном – всё как у всех, кто тусовался на стройке: один упал и ногу сломал, второй упал и голову разбил, я упал и только ссадины, но порвал куртку и весь грязный. Больно – хрен с ним, а идти домой страшно. Попало от мамы, ясное дело.
Еще круче летом на Финке с пацанами. Бухали, потом я отбивался чуть от всех – и слушал, как легко-легко волна плещет о берег. Хотелось взять и записать, и добавить поверх песню викингов, чтобы чистые мужские голоса. Я сейчас сам хочу выучить такую песню, вернуться на Финку, и спеть. А волны пусть тш-тш-тш бэквокалом, и мечта сбудется. Но вообще я там однажды чуть не утонул, спасибо, ребята вытащили.
Не знаю, как ты всё еще разговариваешь со мной. Разве всё это рассказывают при знакомстве? Но ты же сама сказала, что тебя бесят все эти «Привет, как дела» и хочется говорить о важном. Вот я и о важном, сразу так, чтобы было понятно, что́ я за человек.
У меня до сих пор есть странные привычки из детства. Вот что-то вкусное лежит в холодильнике – а я не ем, берегу на потом. Не могу так просто взять и съесть. Еда портится, бывает; обидно, выбрасывать очень неприятно. А сделать с этим ничего не могу.
Хотя не пойму, чего ты такая мрачная. С отцом выросла, даже не били тебя. Ну, горе вокруг, так то у всех. Зато прекрасное ценишь и умная, и обсуждаешь со мной всякий отвратительный треш. Восхитительно очень.
Почему платья? Да черт знает, нравится просто. Женщины красивые и хоть что-то хорошее от них бывает. От мужчин тоже бывает, но редко, и они быстро мрут. А вообще я извращенец, разумеется. Что тут скажешь еще, только смириться и удовольствие получать. Но, кстати, не только платья: вот одолжили мне комбинезончик в синий цветок. Гля, краля какая! Ножкой изящной эть, хорош, ну скажи!
Но, может, и не стоит относиться так уж серьезно ко всему этому разговору. Правда, дома делать нечего, я почти никуда не выхожу второй месяц. Я – в группе риска, и реально могу сыграть в ящик от всей этой херни с ковидом. Читала у Ильфа и Петрова? «Вы мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что “в ящик сыграли”». Чисто про меня, ну. А вот старушки преставляются всё больше или богу душу отдают. Вот же люди, и в смерти найдут отличия. Хотя казалось бы, все одинаковы.
Сейчас и просто заболел, все миндалины в дырочку. Сплю, лежу, с тобой вот поболтали. Ты на фотках красивая очень, на Лив Тайлер в молодости чем-то похожа. И Оля, имя такое, мое любимое. Только понимаешь ли ты, зачем волку переодеваться в женское? Ладно, с волками понятно. Того и гляди, запишешь меня в Буффало Биллы и все-таки забанишь. Но вот волчата – не волки, и всем этим заняты лишь для свободы души, и я на цыпочки становлюсь такой маленький и легкий, а разноцветная макушка моя парит под потолком.
Горизонт
Только спустя несколько месяцев мы поняли, что встречали друг друга еще до майской болтовни, встречали друг друга еще до первой встречи.
Лето девятнадцатого года было совершенно обычным, летом как всегда. Момент, когда что-то случается в последний раз, неуловим, если не привязать его к документам. Так последний день в школе или на работе еще можно выудить в озерце памяти: в строгих бумажках начертана дата. А вот последний день, когда вы все вместе играли дворовой компанией, – химера. Он прошел, ничем не примечательный, равный, стриженный под ноль солдатик. Улыбаясь, обернулся, чтобы протянуть ладошку дню следующему, нащупал лишь пустоту, рука повисла. И он забыл о себе от горя, не смог спасти себя, как что-то ценное, так и не понял, что – важен. Лето девятнадцатого было как раз таким. Для мира и для меня.
Тогда у меня был муж. Мы поженились так, как падает абрикос с дерева – пора, созрел, физика. Но ведь радует плод, за которым тянешься; тот, что под ногами, – уже падалица, без пяти минут падаль. Что тут еще скажешь.
Муж понимал сложные вещи, абстракции. Без этого мы бы друг друга никогда не заинтересовали, не продержались бы столько лет. И как вообще быть с человеком, который чуда не видит в том, что на набережной – солнце и ветер, река и небо – как губы, верхняя и нижняя. Муж – видел. Проблема в том, что быть с человеком, который не умеет взять за руку, когда это нужнее всего, невозможно еще больше. Но я долго не понимала, что́ не так. Билась над уравнением, но не могла узнать не то, что значение переменной, а сам факт ее наличия. А и Б сидели на трубе. Невозможно ведь догадаться, пока в «и» не ткнут носом. В моем случае нос этот потребовалось буквально расквасить.
И уж конечно, никто не заметит момент, когда острая радость жизни, ловко пойманная, горящая в руках метафора превращается в тягомотину. Серость подкрадывается незаметно. Да и средь нее нет-нет да и блеснет что-то; какая же это серость, раз иногда блестит. Летом девятнадцатого года еще поблескивало, и была какая-то надежда. Ее мираж стал очевиден к декабрю.
Пять дней в неделю мы с мужем сохли в офисах. Я и не знаю, кто из нас ненавидел свою работу больше. Наверное, все-таки он. Меня выматывали люди и всё, с ними связанное, не само дело. Скрипящие шестеренки, смазанные интригами, – вот как это ощущалось. И то, что выбивало из строя больше всего, – сверхзначимость ежедневной возни для окружающих. Будто нет вокруг ничего огромного. Нет недосягаемого космоса и его ослепительных металлических шариков, звезд. Будто не началось всё по непостижимой причине (по какой? кто подскажет?) и по не менее непостижимой причине когда-то закончится. Будто всё, что у нас есть, – это сроки, прихоти босса и слишком короткая юбка Марины, ее сочные, неуместные ляжки, веский повод для судов и пересудов. Вы в своем вообще уме, але? Но по умолчанию считалось, что вроде как не в своем уме я. Творческие люди, чудачки, должно быть простительно, – а всё равно тянет хмыкнуть в кулачок. Главное, сдай вовремя макет. Еще не готово, кстати? Иван Иваныч просил до обеда!
Вечерами мы с мужем были настолько уставшими, что и поставить чайник казалось подвигом. К пятнице хотелось только залить всё это алкоголем в шумном баре. Субботу мы лежали пластом. В воскресенье накатывало тревожное ожидание новой недели. Мы не умели жить воскресенья, не находили себе места. Раз в две недели делали уборку, без любви и радости, без малейшего удовлетворения. Волочили ноги в спортклуб, подрыгавшись, чуть-чуть веселели – и будто бы вспоминали, что всё еще очень молоды: обоим не было и тридцати. Но только сунь нос домой – вечер потерян, предчувствие зловещего, неизбежного, новой пустой выматывающей недели накатывало и полностью перекрывало воздух. Надо было чем-то себя занять, отвлечь, порадовать. И мы выбирались в ТЦ «Горизонт», самый большой в городе. Ходили, смотрели, с удовольствием покупали вещи, чтобы носить их на ненавистную работу. Глянешь в зеркало, когда моешь руки в уборной, – и отмечаешь, что новая рубашка тебе к лицу. На обед съедаешь столовское мясо под сырно-майонезной корочкой – и вроде не так уж и хочется самоубиться.
И это был совершенно такой же вечер в ТЦ, как и всегда. Мы валандались от распродажи к распродаже. Я бросалась на кожаное, неоновое, драное, всё самое непонятное. Муж нудил, что я уже взрослая, и смотри, какое платье в цветочек. Я затевала песню, что у меня и туфель под него нет, и вообще, мне не нравится, на что я в нем буду похожа? Недовольство пухло, как туча, но никак не разряжалось громом ссоры. Было нудно и душно, как в пасмурный день, в который ничего не происходит. Мы заговорили об отвлеченном, замели сор под половичок. Вроде почище, но только тронь – и всё засыпет радиоактивным пеплом.
В Ростове нет метро, и люди приходят толпиться в ТЦ. Принято наряжаться, чтобы оценивающе смотреть друг на друга. Две армяночки в струящемся белом, крупные золотые серьги, глянцевая смоль ресниц, ах, лето красное. Молодая мать, прозрачнокожая, розовая, пышущая; в слинге, как сморщенный бутон, квакает ртом младенец. Родился – привыкай к шопингу, халявить некогда. Заспанный папаша катит сзади коляску; она напоминает плавностью линий дорогой авто. Подростки ходят стайками; наверное, потому что у них всегда тайны, тайники, лихие разбойничьи нычки. Где тот момент, когда цыпленок превращается в курицу? Вот-вот, я снова об этом. Какие-то просто взрослые люди, по-южному нарядные женщины в цветных гипюровых платьях и на каблуках. Гипюр плотен, да и цвета в тренде, вот только моргни – и всё это безнадежно устареет и потащит своих хозяек за собой. Ну, толпа. Я так устала ходить с вами и на вас глазеть. Не лучше ли бросить взгляд поверх, где-то же должен быть обещанный горизонт.
