Папирус. Изобретение книг в Древнем мире
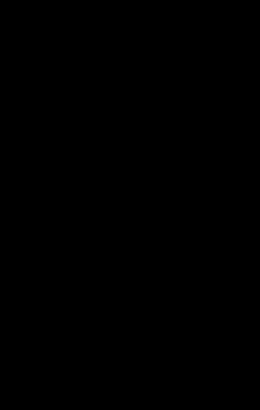
Неподвижные знаки алфавита оборачиваются
в уме значениями, исполненными жизни.
Чтение и письмо видоизменяют структуру нашего мозга.
Сири Хустведт, Жить, думать, смотреть
Мне нравится воображать, в какое изумление
пришел бы бедняга Гомер (кем бы он ни был)
при виде своих эпических поэм на полке
у невероятного – с его точки зрения —
существа вроде меня посреди континента,
о котором он понятия не имел.
Мэрилин Робинсон, В детстве я любила читать
Чтение – всегда перемещение,
путешествие, уход от себя в поисках себя.
Чтение, несмотря на свою природу,
требующую пребывания на одном месте,
возвращает нас в состояние кочевников.
Антонио Басанта, Чтение против небытия
Книга есть прежде всего
сосуд, где пребывает время.
Чудесная уловка, с помощью которой человеческие разум
и чувствительность одержали победу над текучим,
эфемерным существованием,
устремленным к пустоте и забвению.
Эмилио Льедо, Книги и свобода
Irene Vallejo
EL INFINITO EN UN JUNCO
© Irene Vallejo Moreu, 2019
First edition: September 2019 by Siruela
Published by arrangement with Casanovas & Lynch Literary Agency S.L.
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2025
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2025
Пролог
По дорогам Греции скачут отряды загадочных всадников. Земледельцы на полях и у порогов хижин провожают их настороженными взглядами. По опыту они знают: на месте не сидится только опасным людям – солдатам, наемникам, работорговцам. Они хмурятся и ворчат, покуда всадники не скрываются за горизонтом. Никто не любит вооруженных чужаков.
Всадникам же нет дела до земледельцев. Уже долгие месяцы они взбираются на горы, крадутся ущельями, пересекают долины, переходят вброд реки, плывут с острова на остров. У них прибавилось мышц и выносливости с тех пор, как им поручили эту странную миссию. Ради нее им приходится шнырять по неспокойным уголкам мира, почти непрерывно терзаемого войнами. Они охотятся за особой добычей. Добычей тихой, хитроумной, не оставляющей следов.
Если бы таинственные эмиссары уселись за стол в портовой таверне, навернули жареных осьминогов и накачались вином в компании незнакомцев (на деле они благоразумно избегают подобных поступков), то много чего поведали бы о путешествиях. Им доводилось бывать в краях, где свирепствовала чума. Ходить по выжженной земле, чувствовать под ногами горячий пепел разрушений, видеть жестокие стычки бунтовщиков и наемников. Еще не существует карт, охватывающих обширные регионы, поэтому они не раз сбивались с пути и дни напролет, под солнцем и ливнем брели не зная куда. Пили тухлую воду, после чего мучились ужасным поносом. Всякий раз, когда идет дождь, повозки и мулы увязают в лужах, а они с криками и руганью пытаются их вызволить, шлепаются на колени или сразу мордой в грязь. Если ночь застает вдалеке от всякого укрытия, лишь плащи защищают их от скорпионов. Им знакома незавидная участь обовшивевших; знаком и постоянный страх перед разбойниками, которыми кишат дороги. Не раз, когда они скакали по безлюдным просторам и представляли себе встречу с шайкой, у них перехватывало дыхание от ужаса: вот злоумышленники затаились за каким-нибудь поворотом, ждут, готовые напасть, хладнокровно умертвить, завладеть мешками и бросить трупы в кустах.
Их страх можно понять. Царь Египта, отправляя с поручением за море, вверил им огромные суммы денег. В ту пору, всего пару десятилетий спустя после смерти Александра, путешествовать, имея при себе целое состояние, было рискованно, почти равносильно самоубийству. Понимая, что кинжалы грабителей, заразные болезни и кораблекрушения могут помешать его дорогостоящим планам сбыться, фараон тем не менее настойчиво посылает своих людей далеко за рубежи нильского края, во все стороны света. Снедаемый нетерпением и болезненной жаждой обладания, он страстно желает добычи, за которой, подвергая себя неведомым напастям, гонятся его тайные охотники.
Следящие за ними крестьяне, наемники и разбойники повыкатывали бы глаза и пораскрывали рты, кабы узнали, что ищут заморские всадники.
Книги. Они ищут книги.
Вот она, самая ревностно хранимая тайна египетского двора. Властитель Обеих Земель (то есть Верхнего и Нижнего Египта), один из могущественнейших людей своего времени, не пожалел бы жизни (чужой, разумеется, – с правителями всегда так) – лишь бы заполучить все книги в мире для Великой Александрийской библиотеки. Его не оставляла мечта об абсолютном, идеальном хранилище, о собрании произведений всех авторов от начала времен.
Мне всегда страшно писать первые строчки, переступать порог новой книги. Я уже обошла все библиотеки, тетради пухнут от лихорадочных записей, не осталось ни одного благовидного (да и неблаговидного тоже) предлога откладывать начало работы, а я все равно тяну еще несколько дней, и за это время начинаю понимать, что значит быть трусливой. Я просто не нахожу в себе сил. Все должно быть под рукой – тон, чувство юмора, поэзия, ритм, надежды. Еще не написанные главы должны угадываться, проклевываться в выбранных для начала словах. Но как это происходит?! Все мое богатство в данную минуту – мои сомнения. Каждая новая книга возвращает меня в точку отправления, туда, где сердце трепещет, как в первый раз. Писать – значит пытаться понять, что́ мы написали бы, если бы писали, – так говорит Маргерит Дюрас, срываясь в сослагательное наклонение, будто во внезапно образовавшийся под ногами разлом.
По сути, письмо не так уж отличается от всего, что мы начинаем делать, не умея этого делать: от говорения на другом языке, вождения автомобиля, материнства. От жизни.
Изжив агонию сомнения, пустив в ход все отсрочки и отговорки, жарким июльским днем я оказываюсь наедине с белым листом. Решила начать с образа загадочных охотников, идущих по следу добычи. Я отождествляю себя с ними, мне нравится их терпеливость, их стойкость, их готовность выжидать, их медлительность и адреналин поиска. Долгие годы я занималась исследованиями, изучала источники, постигала документы, пыталась понять исторический материал. Но теперь, в час истины, открывающаяся мне реальная, документированная история оказывается столь удивительна, что наводняет мои сны и помимо моей воли обретает форму рассказа. Соблазнительно почувствовать себя в шкуре охотников за книгами на дорогах древней Европы, корчащейся в судорогах, страшной. А что, если и дальше следовать за их историей? Может, сработает. Но как отделить скелет исторических данных от мускулов и крови воображения?
На мой взгляд, путь всадников не менее фантастичен, чем поход к копям царя Соломона или поиски утраченного Ковчега, но документы подтверждают, что он имел место в истории и будоражил склонные к мании величия умы египетских правителей. Возможно, тогда, в III веке до нашей эры, в первый и последний раз сбылась мечта собрать все книги без исключения в одну всемирную библиотеку. Сегодня это напоминает нам сюжет захватывающего абстрактного борхесовского рассказа – или, может, сюжет величайшей эротической фантазии Борхеса.
В эпоху александрийского проекта не существовало ничего похожего на международную книготорговлю. Книги можно было купить в городах с давней культурной традицией, но не в юной Александрии. Из текстов мы знаем, как правители пользовались преимуществами неограниченной власти для пополнения своих собраний. Что не могли купить – изымали. Если ради желанной книги требовалось рубить головы или топтать посевы, они легко отдавали нужный приказ, убежденные, что слава страны важнее подобных пустяков.
Обман, разумеется, числился среди допустимых способов достижения цели. Птолемей III мечтал заполучить первоначальные версии трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида, хранившиеся в афинских архивах со дня премьеры каждой из них. Посланцы фараона попросили одолжить им драгоценные свитки, чтобы дотошные писцы могли их скопировать. Афинские власти назначили баснословный залог – пятнадцать талантов серебром, что сегодня равнялось бы нескольким миллионам долларов. Египтяне уплатили, витиевато поблагодарили афинян, торжественно поклялись вернуть взятое по прошествии двенадцати, скажем, лун, призвали на собственные головы ужасающие бедствия, если не смогут сохранить книги в отличном состоянии, – и, само собой, присвоили их, наплевав на залог. Афинянам оставалось только смириться с позором. Некогда горделивая Периклова столица стала провинциальным городком в царстве, не способном равняться с мощью Египта, заправлявшего торговлей зерном – нефтью Древнего мира.
Александрия была главным портом и новым центром жизни страны. Могучая экономическая держава всегда умеет изящно выходить за собственные границы. Все корабли, откуда бы они ни приплывали в александрийскую гавань, подвергались немедленному досмотру. Таможенники конфисковали все письменное, что могли найти, делали копии на новых папирусах, отдавали судовладельцам, а оригиналы оставляли себе. Эти взятые на абордаж книги поступали в Библиотеку и снабжались краткой запиской («корабельный фонд»).
Если ты на вершине мира, ты не стесняешься в просьбах. Говорили, Птолемей II отправил гонцов к монархам и правителям всех стран. В запечатанном послании он просил их не счесть за труд прислать в его собрание все что можно: произведения поэтов и прозаиков соответствующего царства, ораторов и философов, врачевателей и колдунов, историков и всех прочих.
Кроме того, – вот через какую дверь я подобралась к своей истории, – по приказу правителей в опасный путь по дорогам и морям изведанного мира пускались специально нанятые люди, снабженные немалыми средствами и строгими предписаниями: повсюду скупать как можно больше книг и разыскивать самые древние списки. Такой спрос на книги и высокая их цена привлекли уйму мошенников. Они продавали фальшивые свитки, состаривали папирус, сшивали несколько текстов в один, чтобы выглядел длиннее, и выдумывали другие искусные уловки. Некий не чуждый юмора мудрец развлекался вовсю, сочиняя подложные книги, специально рассчитанные на возбуждение алчности Птолемеев. Многообещающие заглавия и сегодня могли бы обеспечить неплохие продажи, например: «О чем умолчал Фукидид». Заменим Фукидида на Кафку или Джойса и представим себе, какой фурор произвел бы жулик, явившийся в Библиотеку с фальшивыми воспоминаниями и страшными тайнами писателя под мышкой.
Небезосновательно опасаясь мошенников, библиотекари все же больше боялись упустить ценную книгу и разъярить тем самым фараона. Он часто устраивал свиткам из собрания смотр, как своим военным частям, и так же гордился ими. Интересовался у Деметрия Фалерского, отвечавшего за порядок в Библиотеке, сколько у них книг. И Деметрий отчитывался: «Уже более двадцати десятков тысяч, о Царь, и я постараюсь в ближайшее время довести их число до пятисот тысяч». Книжный голод, проснувшийся в Александрии, начинал граничить с натуральным безумием.
В моей стране, в то время, когда мне выпало жить, книги достать легко. У меня дома книги повсюду. В периоды интенсивной работы, дюжинами принося книги из библиотек, стойко терпящих мои набеги, я складываю из них башни на стульях и прямо на полу. Или оставляю раскрытыми обложкой вверх. Так они похожи на двускатные крыши, которым не хватает дома. Чтобы до них не добрался мой двухлетний сын, любитель мять страницы, кладу на спинку дивана и, садясь, чувствую их углы затылком. Если сравнить стоимость книг со стоимостью аренды в моем городе, выходит, что они недешевые постояльцы. Но мне кажется, все они, от больших фотографических альбомов до старых, подклеенных, вечно норовящих захлопнуться, словно мидии, карманных изданий, придают дому уют.
История усилий, путешествий и тягот ради наполнения полок Александрийской библиотеки привлекает экзотичностью. Она соткана из странных событий, приключений, подобных легендарным плаваниям в Индию за пряностями. Здесь и сейчас книги так обыденны, так далеки от технологических новшеств, что многие предсказывают их скорое исчезновение. Мне, безутешной, часто приходится читать статьи, в которых книги обрекаются на замену электронными устройствами и оттеснение безграничными возможностями досуга. По самым пессимистичным пророчествам, мы переживаем конец эпохи, истинное светопреставление, после которого книжные лавки навечно накинут засовы, а библиотеки опустеют. Вскоре, как бы намекают они, книги можно будет увидеть разве что в краеведческих музеях, подле каких-нибудь доисторических наконечников. Перебирая в уме подобные образы, я обвожу взглядом бесконечные шеренги своих книг и виниловых пластинок и задаюсь вопросом: старый уютный мир вот-вот исчезнет?
Да неужто?
Книга прошла испытание временем, она – стайер. Всякий раз, очнувшись от морока революций, от кошмара наших человеческих катастроф, мы находили книгу на прежнем месте. Умберто Эко говорит, что она стоит в одном ряду с ложкой, молотком, колесом или ножницами. Единожды изобретенную вещь такого рода невозможно усовершенствовать.
Разумеется, технологии непобедимы и способны запросто сломать старую иерархию. И все же все мы тоскуем по чему-то – фотографиям, файлам, работам, воспоминаниям, – чего лишились из-за стремительной скорости устаревания технологических продуктов. Сначала были песни на кассетах, потом фильмы на VHS. Мы тратим кучу сил на собирание того, что технологии стремятся как можно быстрее вывести из моды. После появления DVD нам сказали, вот, отныне вопрос с хранением решен навсегда, но тут же начали соблазнять нас новыми, более мелкими носителями, неизменно требующими покупки новых устройств. Любопытно, что мы можем прочесть рукопись, терпеливо переписанную более десяти веков назад, но не можем посмотреть видеокассету или дискету, которым всего несколько лет от роду, – разве только если в кладовках у нас, словно в музеях устаревших вещей, припрятаны соответствующие компьютеры или видеомагнитофоны.
Не будем забывать: книга выступала нашей союзницей в многовековой войне, не отмеченной учебниками истории. В борьбе за удержание наших драгоценных созданий: слов, подобных дуновению ветра; выдумки, с помощью которой мы пытаемся придать смысл хаосу и выжить в нем; истинных, ложных и недолговечных знаний, долбящих твердый камень нашего невежества.
Вот почему я решилась на это исследование. В начале вопросы так и роились: когда появились книги? Как их пытались приумножать и уничтожать? Что было утрачено, а что удалось спасти? Почему некоторые книги стали классикой? В скольких потерях виновны время, огонь, вода? Какие книги сжигались в гневе, а какие любовно переписывались? Возможно ли, что одни и те же?
Это повествование – попытка подхватить и продолжить авантюру охотников за книгами. Я хотела попробовать напроситься им в попутчицы в погоне за утраченными рукописями, неведомыми историями, умолкающими голосами. Скорее всего, они были всего лишь ищейками на службе у правителей, мучимых бредом величия, не осознавали важности своей задачи, считали ее нелепой и ночами под открытым небом, когда в кострах догорали последние угли, ворчали, – мол, невмоготу больше рисковать жизнью ради грез безумца. Наверняка они предпочли бы отправиться на дела, обещавшие более легкое повышение: пресекать мятежи в Нубийской пустыне или проверять грузы на нильских баркасах. Но я подозреваю, что, гоняясь по свету за книгами, словно за частицами рассеянного клада, они, сами того не подозревая, закладывали фундамент нашего мира.
Часть I
Греция грезит будущим
Город наслаждений и книг
1
Юная жена купца спит одна и мается скукой. Десять месяцев назад муж отплыл с острова Кос в Египет, и с тех пор она не получила ни весточки из нильского края. Ей семнадцать, она еще не рожала и едва выносит нудную жизнь в гинекее (женских покоях, занимавших заднюю часть дома в Древней Греции), жаждет событий, но не выходит из дома, дабы избежать сплетен. Заняться нечем. Тиранить рабынь поначалу было весело, но одним тиранством дни не заполнишь. Поэтому ей нравится принимать визиты других женщин. Неважно, кто стучит в дверь, – ей отчаянно хочется отвлечься, сбросить свинцовую тяжесть часов.
Рабыня сообщает о приходе старухи Гиллис. Жена купца предвкушает интересную беседу: престарелая кормилица остра на язык и очень забавно пересыпает речь непристойностями.
– Матушка Гиллис! Сколько уж месяцев ты ко мне не заглядывала!
– Живу далеко, дочка, знаешь ведь. А сама-то слабее мухи стала.
– Ну, полно, – отвечает жена купца, – еще не одного молодца затискать у тебя силенок хватит.
– Смейся, смейся! – обижается Гиллис. – Это больше вам, молодухам, подобает.
С лукавыми усмешками и долгими присказками старуха, наконец, выкладывает, зачем пожаловала. Юный красавец-силач, дважды побеждавший в состязаниях борцов на Олимпийских играх, положил на купцову жену глаз, умирает от желания и мечтает стать ее любовником.
– Не сердись и выслушай предложение. Страсть терзает его плоть, будто шипами. Потешься с ним разок-другой. Или так и будешь сидеть тут сиднем? – заливается коварная Гиллис. – Не успеешь глазом моргнуть, как состаришься, и роскошная краса твоя обратится в прах.
– Молчи, Гиллис, молчи…
– Чем это твой муж так занят в Египте? Не пишет, забыл тебя. Надо думать, пригубил уже от другой чарки.
Стараясь сломить сопротивление соломенной вдовы, Гиллис живописует все то, что Египет и в особенности Александрия могут предложить неблагодарному далекому супругу: богатство, приятный теплый климат, будящий чувственность, гимнасии, зрелища, целые толпы философов, золото, вино, юношей и красавиц, числом превосходящих звезды в небе.
Это мой вольный перевод короткой греческой пьесы, написанной в III веке до нашей эры и пропитанной терпким ароматом повседневности. Подобные малые формы, вероятно, не ставились на сцене, разве что читались по ролям. Полные плутовского юмора, они приоткрывают нам вынесенный на задворки античной словесности мир высеченных рабов, жестоких хозяев, сводников, матерей, доведенных до нервного срыва сыновьями-подростками, и чувственных женщин. Гиллис – одна из первых сводниц в мировой литературе, искусно владеющая секретами мастерства: она безошибочно знает, как надавить на самое больное, – сыграть на неизбывном страхе жертвы перед старением. И все же недобрый талант Гиллис тратится попусту. Жена купца мягко корит ее. Она преданна отсутствующему мужу, а может, опасается рисков прелюбодеяния. «Или ты совсем разум потеряла, старая?» – говорит она Гиллис, но в утешение предлагает выпить вина.
Этот веселый и легкий текст интересен нам еще и потому, что показывает, какое представление имели простые люди о тогдашней Александрии: город наслаждений и книг, столица любви и слова.
2
Со временем Александрия становилась все легендарнее. Через два века после того, как был написан диалог Гиллис и искушаемой девушки, Александрия стала местом действия одного из величайших эротических мифов всех времен: о любви Клеопатры и Марка Антония.
Рим, столица самого мощного средиземноморского государства того времени, все еще оставался лабиринтом кривых, темных и грязных улочек, когда Марк Антоний впервые прибыл в Александрию. Внезапно перед ним раскинулся пленительный город, чьи дворцы, храмы, широкие проспекты и монументы излучали величие. Римляне полагались на свою военную силу и считали себя хозяевами будущего, но не могли тягаться с неотразимой притягательностью золотой старины и былой роскоши. На основе желания, гордости и тактических расчетов могущественный военачальник и последняя царица Египта выстроили политический и ceкcуальный союз, возмутивший порядочных римлян. В довершение безобразия, поговаривали, Марк Антоний намеревался перенести столицу из Рима в Александрию. Если бы любовники выиграли войну за Римскую империю, сегодня мы бы массово фотографировались на фоне Вечного города, Колизея и форумов в Египте.
Как и сам город, Клеопатра воплощает причудливую смесь культуры и чувственности. Плутарх пишет, что она не была красавицей. Люди на улицах не сворачивали шеи при виде нее. Но она притягивала шармом, умом и красноречием. Голос ее отличался столь сладостным тембром, что услышавший однажды уже не мог забыть его. И тембр этот, – продолжает историк, – по-разному звучал на разных языках, словно многострунный инструмент. Она могла без переводчика говорить с эфиопами, евреями, арабами, сирийцами, мидянами и парфянами. Хитрая царица, не упускавшая никаких важных сведений, победила во многих битвах за власть в своей стране и за ее пределами, но в решающей схватке потерпела поражение. Беда в том, что мы знаем только точку зрения ее врагов.
В этой бурной истории книги также играют важную роль. Марк Антоний, мнивший себя без пяти минут повелителем мира, захотел сразить Клеопатру великолепным подарком. Он знал, что от золота, драгоценных камней и пиров взор возлюбленной не засияет, ведь она привыкла ежедневно забавляться ими. Как-то раз, на исходе пьяной ночи, в порыве вызывающего бахвальства Клеопатра растворила в уксусе громадную жемчужину и выпила ее. И Марк Антоний выбрал подарок, который она не встретила бы с утомленно-презрительным видом: положил к ее ногам двести тысяч томов для Великой библиотеки. В Александрии страсти питались книгами.
Два писателя, скончавшиеся в XX веке, стали нашими проводниками по закоулкам этого города и нанесли пару слоев патины на александрийский миф. Грек Константинос Кавафис, незаметный чиновник, долгие годы проработал на одной должности в отделе орошения Министерства общественных работ британской администрации Египта. Ночами он погружался в мир наслаждений, приятелей со всего света и разврата международного масштаба. Как свои пять пальцев знал лабиринт александрийских борделей, единственного прибежища его страсти, «запретной и всеми глубоко презираемой», по его собственным словам. Кавафис взахлеб читал классиков и почти никому не показывал свои стихи.
В его самых знаменитых стихотворениях оживают исторические или вымышленные персонажи, населявшие Итаку, Трою, Афины, Византию. Другие тексты, более личные на первый взгляд, с надрывной иронией исследуют опыт зрелости: тоску по юным годам, постижение удовольствия, удручающее наблюдение за бегом времени. На деле разница в тематике искусственна. Вычитанное, воображаемое прошлое волновало Кавафиса не меньше собственных воспоминаний. Бродя по Александрии, он чувствовал, что под современным городом пульсирует другой, невидимый. Великая библиотека канула в небытие, но ее отголоски, шепотки, бормотания все еще слышатся в воздухе. Кавафис думал, что содружество призраков как раз и очеловечивает холодные улицы, по которым шагают одинокие и несчастные живые.
Герои «Александрийского квартета» – Жюстин, Дарли и в особенности Бальтазар, утверждающий, что был лично знаком с Кавафисом, – постоянно поминают этого «старого городского поэта». В свою очередь, четыре романа Лоренса Даррелла, англичанина, задыхавшегося в английском пуританстве и английском климате, подхватывают и продлевают эротический и литературный миф об Александрии. попал туда в смятенные годы Второй мировой, когда Египет был занят британскими войсками и город являл собой гнездо шпионов, заговорщиков и, как обычно, искателей наслаждения. Никому не удалось точнее Даррелла описать цвета Александрии, физические ощущения, пробуждаемые ею. Давящую тишину, высокое летнее небо. Огненные дни. Ослепительную синеву моря, волнорезы, желтый берег. В глубине берега озеро Мареотис (современное название – Марьют), подчас искрящееся, словно мираж. Между водами порта и озером – бесчисленные улицы, где вихрится пыль, роятся нищие и мухи. Пальмы, роскошные отели, гашиш, пьяный угар. Наэлектризованный сухой воздух. Лимонно-сиреневые закаты. Пять рас, пять языков, дюжина религий, отражения пяти флотов в масляной воде. В Александрии, пишет Даррелл, плоть просыпается и бьется о решетки темницы.
Вторая Мировая война разорила город. В последнем романе «Квартета» Клеа описывает печальный пейзаж. Танки, застрявшие в песках, словно скелеты динозавров; дула крупных орудий, как поваленные стволы окаменелого леса; бедуины, блуждающие по минным полям. Город, издревле развратный, теперь напоминает гигантский общественный писсуар, – подытоживает Клеа. В последний раз Лоренс Даррелл побывал в Александрии в 1952 году. Еврейская и греческая общины, тысячелетиями обживавшие город, бежали после Суэцкого кризиса, ознаменовавшего конец исторической эпохи на Ближнем Востоке. Возвращающиеся из Александрии путешественники рассказывают мне, что космополитичный сладострастный город остался только на страницах книг.
Александр
3
Александрий много. Цепочка городов с таким названием отмечает путь Александра Македонского от Турции до Инда. Разные языки исказили первоначальное звучание, но иногда его можно расслышать, как далекую мелодию. Александретта, по-турецки Искендерун. Александрия Карманская, ныне Керман, в Иране. Александрия Маргианская, теперь Мерв, в Туркменистане. Александрия Эсхата, что можно перевести как «Александрия на краю света», сегодня Худжанд, в Таджикистане. Александрия Букефала, основанная в честь коня, на котором Александр скакал с детства, позже названная Джалалпуром, в Пакистане. Война в Афганистане напомнила нам имена прочих древних Александрий: Баграм, Герат, Кандагар.
Плутарх рассказывает, что Александр основал семьдесят городов. Он желал оставить след после себя – вроде тех детишек, что пишут свои имена на дверях и стенах общественных туалетов («Я здесь был», «Я здесь победил»). Атлас – протяженная стена, на которой Александр не раз расписался на память.
Сила, двигавшая Александром, причина поразительной энергии, способной забросить его в завоевательный поход длиной в 25 000 километров, крылась в жажде славы и восхищения. Он истово верил в легенды о героях, более того – тягался с ними. Был одержим образом Ахилла, самого могучего и непобедимого воина греческой мифологии. Он выбрал Ахилла в детстве, когда стараниями учителя, Аристотеля, открыл гомеровские поэмы. Мечтал походить на него. Испытывал тот же страстный восторг, что нынешние мальчишки испытывают по отношению к звездам спорта. Рассказывают, что под подушкой у Александра всегда лежали экземпляр «Илиады» и кинжал. Трогательная картина: сразу представляешь себе мальчишку, заснувшего в обнимку с открытым альбомом спортивных карточек, а снится ему, как он под рев обезумевших трибун выигрывает чемпионат.
С той лишь разницей, что Александр воплотил в жизнь свои самые безумные мечты об успехе. История завоеваний, занявших всего восемь лет, – Анатолия, Персия, Египет, Центральная Азия, Индия, – сделала его чемпионом по военным подвигам. В сравнении с ним Ахилл, положивший жизнь на десятилетнюю осаду одного-единственного города, – жалкий салага.
Александрия Египетская родилась – могло ли быть иначе? – из литературных грез, нашептываний Гомера. Во сне Александр увидел, что к нему подошел седой старец. Приблизившись, таинственный незнакомец произнес несколько строк из «Одиссеи» – об острове под названием Фарос, омываемом звонким прибоем у побережья Египта. Остров такой и в самом деле нашелся близ намывной равнины, где воды дельты Нила вливаются в Средиземное море. Повинуясь логике своего времени, Александр решил, что сон вещий, и основал на упомянутом месте город.
Место показалось ему красивым. Песчаная пустыня сходится с пустыней водной – два безлюдных, неизмеримых, изменчивых ландшафта, вылепляемых ветром. Александр самолично насыпал мучную дорожку, обозначавшую внешний контур города в форме почти идеального прямоугольника, дал указания, где должна располагаться площадь, каким богам следует посвятить храмы и как лучше строить крепостную стену. Со временем маленький остров Фарос соединили с дельтой посредством мола, и на нем выросло одно из семи чудес света.
Когда строительство было запущено, Александр отправился дальше. Население будущего города состояло из греков, евреев и издревле живших в округе египтян-пастухов. Коренные жители, как водится при колонизации в любые времена, стали гражданами низшего статуса.
Александру больше не довелось увидеть этот город. Менее десяти лет спустя туда вернулся его труп. Но в 331 году до нашей эры, при основании Александрии, ему было двадцать четыре, и он чувствовал, что непобедим.
4
Он был молод и безжалостен. По пути в Египет он два раза подряд разгромил войско персидского «Царя царей». Завладел Турцией и Сирией, объявив, что освобождает их от персидского гнета. Завоевал Финикию и Палестину: все города сдались без сопротивления, за исключением Тира и Газы, павших после семи месяцев осады. Освободитель жестоко наказал немногочисленных выживших: распял вдоль побережья – представьте шеренгу из двух тысяч людей, агонизирующих у моря. Женщин и детей продали в рабство. Правителя злосчастной Газы Александр приказал привязать к колеснице и таскать до смерти, как таскали в «Илиаде» тело Гектора. Вероятно, ему доставляло удовольствие воображать, что он проживает свою собственную эпическую поэму, и время от времени он повторял какой-нибудь поступок, символический жест, легендарное зверство.
Иногда, наоборот, демонстративно проявлял милость к побежденным. Захватив в плен семейство персидского царя Дария, пощадил женщин и не стал использовать их в качестве заложниц. Приказал, чтобы им не препятствовали оставаться в их жилищах и не отбирали платье и драгоценности. А также позволил похоронить погибших в сражении близких.
Вступив в покои Дария, он узрел золото, серебро, алебастр, вдохнул вездесущий аромат мирры и прочих благовоний, увидел искусно вытканные ковры, столы и сундуки, – словом, ощутил богатство, которого не знал при родном провинциальном македонском дворе. Заметил друзьям: «Вот оно, значит, на что похоже – царствование». Тогда ему поднесли ларец, самый дорогой и великолепный предмет в поклаже Дария. «Какое же содержимое сравнится в ценности с таким вместилищем?» – спросил он у своих людей. Каждый высказал предположение: деньги, драгоценности, притирания, пряности, военные трофеи. Александр покачал головой, помолчал, а потом велел поместить в ларец свою «Илиаду», с которой никогда не расставался.
5
Он не проиграл ни одной битвы. Без поблажек выносил тяготы кампаний, как обычный воин. Через шесть лет после восшествия на македонский престол, в возрасте двадцати пяти лет разгромил самую сильную армию своего времени и завладел сокровищами Персидской империи. Но и этого ему было мало. Он дошел до Каспийского моря, пересек территории нынешних Афганистана, Туркменистана и Узбекистана, перевалил через снежные хребты Гиндукуша, преодолел зыбучие пески и вышел к реке Окс, которая сегодня называется Амударья. После чего углубился в земли, на которые прежде не ступала нога грека (Самарканд и Пенджаб). Блестящих побед больше не было, войска теряли силы в изнурительной борьбе против непокорного местного населения, совершавшего частые мелкие набеги.
В греческом есть особое слово для описания его одержимости: póthos. Это тяга к чему-то далекому или недоступному, желание, которое причиняет боль, поскольку неутолимо. Этим словом называют и смятение безответно влюбленных, и скорбь траура, когда мы невыносимо тоскуем по умершему. Александра снедало желание двигаться дальше и дальше, бежать от скуки и посредственности. Не давало ему покоя. Ему не исполнилось и тридцати, а он уже начал подозревать, что мир чересчур мал для него. А если в один прекрасный день все земли закончатся и нечего станет завоевывать?
Аристотель учил его, что конец мира лежит за Гиндукушем, и Александр намеревался добраться до самого края. Его влекло туда, словно магнитом. Увидит ли он там великий Внешний Океан, как рассказывал учитель? Или море будет срываться исполинским водопадом в бездонную пропасть? А может, предел мира и вовсе неразличим в густом тумане и разливающейся белизне?
Но люди Александра, расхворавшиеся и приунывшие от бесконечных дождей (стоял сезон муссонов), отказались идти дальше в Индию. Они прослышали об огромном неизведанном индийском царстве по ту сторону Ганга. Мир и не думал кончаться.
Один старый вояка заговорил от имени всех недовольных: подчиняясь приказам молодого царя, они преодолели тысячи километров и умертвили по пути никак не меньше семисот пятидесяти тысяч азиатов. Предали земле лучших друзей, павших в боях. Терпели голод, леденящий холод, жажду, долгие переходы по пустыне. Многие пали, словно скот, вследствие неизвестных болезней, другие оказались страшно изувечены. У немногих выживших не осталось прежних юных сил. Лошади охромели и обезумели от боли, подводы вязнут в слякоти на дорогах. Даже пряжки ремней проржавели, а пайки́ в сыром воздухе стремительно портятся. Люди ходят в годами не чиненных сапогах. Они хотят вернуться домой, обнять жен и детей, хоть те, надо думать, уж и не помнят их. Тоскуют по родному краю. Если Александр решит продолжить поход, на македонцев пусть не рассчитывает.
Александр пришел в бешенство и, подобно Ахиллу в начале «Илиады», удалился под угрожающие возгласы в шатер. Началось психологическое противостояние. Сперва солдаты молчали, потом осмелились освистать своего утратившего самообладание царя. Они не собирались терпеть унижение после того, как подарили ему лучшие годы жизни.
Напряжение не спадало два дня. А потом знаменитое войско повернуло обратно, на родину. Одну битву Александр все-таки проиграл.
Друг-македонец
6
Птолемей, близкий друг Александра, сопровождал его во всех походах. По происхождению он никак не был связан с Египтом. Отпрыск знатного, но непримечательного македонского рода не мог и помыслить, что однажды станет фараоном богатой страны на Ниле, куда он впервые попал в возрасте сорока лет, не зная местного языка, обычаев и сложноустроенной бюрократии. Однако завоевания Александра и их далеко идущие последствия как раз и относятся к таким историческим сюрпризам, какие ни один аналитик не в силах предсказать – по крайней мере, прежде, чем они случатся.
Македонцы гордились своей страной, но знали, что остальные народы считают ее отсталой, погрязшей в племенных дрязгах и незначительной. В причудливой иерархии греческих независимых государств они явно находились на несколько ступеней ниже благородных афинян или спартанцев. Они сохраняли традиционную монархию, в то время как большинство городов-государств Эллады заигрывало с самыми изощренными формами правления. К тому же на свою беду македонцы говорили на непонятном всем остальным диалекте. Когда один македонский царь захотел участвовать в Олимпийских играх, разрешение ему дали только после тщательной проверки. Словом, в греческом клубе их терпели с трудом. А для остального мира они попросту не существовали. В ту эпоху очагом цивилизации был Восток, Запад же считался темным диким краем, населенным варварами. В атласе географических представлений и предрассудков Македония находилась на периферии цивилизованного мира. Вероятно, не многие египтяне смогли бы найти на карте родину их будущего правителя.
Александр покончил с этим пренебрежительным отношением. Он был столь велик, что все греки приняли его как своего. И даже сделали национальным символом. Во время долгого османского господства греки слагали легенды о том, как могучий герой Александр восстанет из мертвых и избавит родину от турецкого гнета.
Наполеон ведь тоже постепенно превращался из провинциала-корсиканца во француза (без уточнений) по мере того, как завоевывал Европу: триумф – это паспорт, к которому никто не придерется.
Птолемей всегда находился рядом с Александром. В юные годы он служил оруженосцем будущего царя, участвовал во всех его блестящих походах в составе находившейся на особом положении конницы гетайров, как называлась конная гвардия войска македонского царя, и был одним из его личных телохранителей. После бунта на берегах Ганга познал все лишения обратного пути, превзошедшие самые худшие опасения: на войско одновременно и яростно обрушились малярия, дизентерия, тигры, ядовитые змеи и ядовитые насекомые. Мятежные народы, жившие на берегах Инда, нападали на людей Александра, изможденных долгими переходами во влажном тропическом климате. К зиме из всех прибывших с Александром в Индию в живых оставалась только четверть.
После стольких побед, страданий и смертей наступила радостная и печальная весна 324 года до нашей эры. Птолемей и прочие наслаждались коротким привалом в Сузах, на юго-востоке современного Ирана, когда непредсказуемый Александр решил закатить грандиозный пир, включавший в качестве сюрприза несколько свадеб – самого царя и его приближенных. В течение великолепного пятидневного празднества он женил восемьдесят военачальников и царедворцев на знатных персидских девушках, точнее, девочках. И сам добавил к своим женам – македонские обычаи допускали полигамию – старшую дочь Дария и еще одну девицу из могущес-твенного восточного клана. Широким театральным (и тщательно продуманным) жестом распространил брачную лихорадку на всю свою армию. Десять тысяч солдат получили от царя подъемные для женитьбы на местных жительницах. Единственная в своем роде акция по поощрению смешанных браков. В голове у Александра бурлили мысли о метисной империи.
Птолемей не остался в стороне от сузских свадеб. Ему досталась дочь богатого сатрапа, правителя области. Как и большинство товарищей по оружию, он, возможно, предпочел бы материальное вознаграждение и пять дней кутежа без лишних хлопот. Македонцам было вовсе не охота брататься – а уж тем более родниться – с персами, которых они недавно разили на поле боя. В новой империи зрел нарыв, которому вскоре предстояло прорваться на фоне национализма и слияния культур.
Александр не успел навязать империи свою волю. В начале следующего лета тридцатидвухлетний царь скончался в Вавилоне от лихорадки.
7
Пожилой Птолемей с лицом Энтони Хопкинса, диктуя в Александрии свои воспоминания, открывает писцу мучительную, не дающую ему покоя тайну: Александр умер не естественной смертью. Сам Птолемей и прочие военачальники отравили царя. Фильм – «Александр», снятый Оливером Стоуном в 2004 году, – показывает Птолемея человеком зловещим, этаким греческим Макбетом, вначале преданным Александру полководцем, а после цареубийцей. В конце персонаж срывает маску и открывает истинное темное лицо. Возможен ли такой ход событий? Или нам следует считать, что Оливер Стоун, как и в фильме «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», умело играет на любви зрителя к теориям заговора и историям про убитых лидеров?
Нечего и сомневаться, что в 323 году до нашей эры македонцы из Александрова войска тревожились и злились. К тому времени большинство частей составляли выходцы из Персии и Индии. Александр позволял варварам проникать даже в элитные подразделения, а некоторым давал привилегии знати. Верный гомеровскому культу доблести, он набирал лучших храбрецов вне зависимости от происхождения. Его бывших товарищей по оружию такая политика оскорбляла и возмущала. Но настолько ли, чтобы изменить долголетней преданности и пойти на огромный риск, с которым сопряжено уничтожение царя?
Мы никогда не узнаем наверняка, был ли Александр убит или умер от инфекционного заболевания (вроде малярии или простого гриппа), которого его истерзанное тело, получившее в ходе кампаний девять тяжелых ранений и подвергшееся нечеловеческому напряжению, не вынесло. Возможные преемники Александра беззастенчиво пользовались его внезапной кончиной как оружием в борьбе за власть, обвиняя друг друга в убийстве. Быстро распространился слух об отравлении – самая шокирующая и драматичная версия. Историкам не под силу продраться сквозь заросли пасквилей, обвинений и сталкивающихся интересов – им остается только взвешивать все за и против каждой из гипотез.
Фигура Птолемея, верного друга, а может, предателя, по-прежнему пребывает в сумраке.
8
Фродо и Сэм, хоббиты, добрались до страшного перевала Кирит Унгол в западных горах Мордора. Чтобы унять страх, они болтают о том, как внезапно на них свалились приключения. Дело происходит незадолго до окончания «Двух крепостей», второй части «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина. Сэмиус, который больше всего на свете любит вкусно поесть и послушать хорошую историю, говорит: «Но все-таки интересно, попадем ли мы когда-нибудь в песню или сказку? То есть, конечно, попасть-то мы в нее уже попали, но я хочу сказать, будет ли кто-нибудь через много-много лет рассказывать ее вечером у очага или читать в большой книге с черными и красными буквами? И чтобы дети говорили: “Да, эта сказка – моя самая любимая”».
Вот и Александр мечтал о том же: стать легендой, проникнуть в книги, чтобы жить в памяти людей. И добился своего. Его недолгая жизнь питает мифы на Востоке и Западе, он упоминается в Коране и в Библии. В Александрии веками после его смерти плелось фантастическое повествование о его путешествиях и приключениях; оно писалось по-гречески, а затем переводилось на латынь, сирийский, десятки других языков. Нам оно известно как «Роман об Александре» и дошло до наших дней со значительными искажениями и опущениями. Некоторые исследователи считают, что эта причудливая, полная выдумок книга была, за вычетом некоторых религиозных сочинений, самым читаемым текстом в мире до наступления Нового времени.
Во II веке римляне добавили к его имени прозвище «Великий». А вот зороастрийцы называли его Александром Прокля́тым. Они не простили ему поджог дворца в Персеполе, где сгорела, среди прочих книг царской библиотеки, священная Авеста, которую зороастрийцам пришлось восстанавливать по памяти.
Противоречивая натура Александра, его темные и светлые стороны отражены уже у историков античного мира, рисующих совершенно различные портреты. Арриан им восхищается, Курций Руф приводит неприглядные эпизоды, а Плутарх не может противиться захватывающим анекдотам, неважно – прославляют они героя или позорят. Все они фантазируют. Позволяют биографии Александра превратиться в литературу – так поступают все писатели, почуяв стоящую историю. Один путешественник и географ римского периода ехидно заметил, что пишущие об Александре предпочитают чудеса истине.
Видение же современных историков зависит от степени идеализма и от эпохи, в которую они пишут. В начале ХХ века герои древности пребывали в добром здравии; после Второй мировой войны, Холокоста, атомной бомбы и деколонизации у нас возникли подозрения на их счет. Сегодня многие авторы укладывают Александра на кушетку и диагностируют бред величия, патологическую склонность к жестокости и отсутствие эмпатии по отношению к жертвам. Некоторые сравнивают его с Гитлером. Полемика бурно развивается, обогащаясь все новыми и новыми нюансами.
Мне удивительно и отрадно видеть, что массовая культура не забывает про Александра, для нее он – не ископаемое. В самых неожиданных местах я сталкивалась с его горячими поклонниками, способными быстренько набросать на салфетке примерные маршруты всех походов. Его имя звучит и в музыке. Каэтану Велозу посвятил ему песню Alexandre в альбоме Livro, а Iron Maiden назвали одну из своих самых знаменитых композиций Alexander the Great. К этому шедевру хеви-метала принято относиться со священным трепетом: бунтари из Лейтона никогда не исполняют его вживую, и среди фанатов ходят слухи, будто прозвучит он только на последнем концерте. Почти по всему миру люди называют сыновей Александрами – или, к примеру, Скандарами, в арабском варианте, – в честь героя. Каждый год его лицо появляется на миллионах товаров, которых он бы и представить себе не мог: на футболках, галстуках, футлярах для мобильных телефонов, а также в видеоиграх.
Александру, охотнику за бессмертием, удалось породить желанную легенду. И все же, если бы меня, как во «Властелине колец», спросили, какая моя любимая история для рассказывания вечером у очага, я бы сказала: не про победы и путешествия, а про необычайное приключение с Александрийской библиотекой.
9
«Царь умер», – отметил на астрологической табличке вавилонский писец. По счастливой случайности табличка дошла до нас почти не поврежденной. Она относится к 10 июня 323 года до нашей эры: тогда и без гаданий по звездам несложно было понять, что грядут опасные времена. Наследников у Александра оставалось двое, оба – ненадежные: сводный брат, считавшийся умственно отсталым, и еще не рожденный ребенок в животе у Роксаны, одной из трех жен царя. Вавилонский писец, сведущий в истории и устройстве монархии, вероятно, задумался тем судьбоносным вечером о хаосе престолонаследия, перерастающем в беспорядочные кровавые войны. В те времена многие страшились подобных событий – каковые не замедлили случиться.
Кровь пролилась очень скоро. Роксана убила двух других вдов Александра, чтобы наверняка избавиться от возможных конкурентов ее сына. Македонские полководцы вступили в борьбу друг с другом. В течение нескольких лет они методично истребляли всех членов царской семьи: сводного брата-идиота, мать Александра, Роксану и ее сына, которому не исполнилось и двенадцати. Империя между тем разваливалась. Селевк, один из приближенных Александра, продал завоеванные в Индии земли местному правителю за баснословную цену в 500 боевых слонов, которых пустил в ход для дальнейшей войны с соперниками-македонцами. Десятилетиями целые армии наемников переходили от одного нанимателя к другому. Спустя годы сражений, зверств, мести и загубленных жизней в живых осталось трое диадохов: Селевк в Азии, Антигон в Македонии и Птолемей в Египте. Эти полководцы Александра Македонского после его смерти разделили империю в ходе войн. Насильственная смерть не настигла впоследствии только одного из трех – Птолемея.
Он поселился в Египте и провел там остаток жизни. Долгие годы ожесточенно бился с бывшими товарищами по оружию, пытаясь удержать власть. Когда гражданские войны давали ему минутную передышку, он знакомился с огромной страной, оказавшейся в его подчинении. Все в ней было удивительно: пирамиды; ибисы; песчаные бури; волнистые барханы; скачущие галопом верблюды; странные боги со звериными головами; евнухи; бритые наголо люди в париках; людские реки в дни больших празднеств; священные кошки, убивать которых – преступление; иероглифы; дворцовые церемонии; исполинские храмы; безграничная власть жрецов; черный илистый Нил, дельтой расползающийся к морю; крокодилы; равнины, где обильные урожаи питаются костями покойников; пиво; гиппопотамы; пустыня, в которой неизменно лишь разрушительное время; бальзамирование; мумии; ритуалы, пронизывающие все области жизни; любовь к прошлому; культ смерти.
Наверное, Птолемей был растерян, смятен, одинок. Он не понимал египетского языка, путался в церемониях и подозревал, что царедворцы над ним насмехаются. Однако у Александра он научился дерзновению. Если не разбираешься в символах, придумай новые. Если Египет тычет тебе в нос своим легендарным прошлым, перенеси столицу в Александрию – город без прошлого – и преврати ее в крупнейший центр Средиземноморья. Если твои подданные с опаской относятся к новшествам, стяни к себе в страну все самые смелые достижения мысли и науки.
Птолемей вложил огромные богатства в строительство Мусейона и библиотеки в Александрии.
Балансируя на краю пропасти
10
Свидетельств тому нет, но мне хочется думать, что идея создать универсальную библиотеку принадлежала Александру. Это начинание – под стать его тщеславию, в нем явственно чувствуется жажда всеохватности. «Землю, – объявил Александр в одном из первых указов, – я считаю своей». Собрать все существующие книги – еще один способ (символический, умозрительный, ненасильственный) завладеть миром.
Страсть собирателя книг подобна страсти путешественника. Всякая библиотека – путешествие, всякая книга – бессрочный паспорт. В Африке и Азии Александр не расставался со своим экземпляром «Илиады», в которую заглядывал, по свидетельствам историков, в поисках совета или вдохновения, подпитывая стремление к величию. Чтение, словно компас, вело его к неизведанному.
В хаотичном мире приобретение книг есть попытка удержать равновесие на краю пропасти. К такому выводу приходит Вальтер Беньямин в блестящем эссе под названием «Я распаковываю свою библиотеку»: «Обновление старого мира – это самое глубинное влечение, определяющее желание коллекционера заполучить что-то новое», – пишет он. Александрийская библиотека стала волшебной энциклопедией, собравшей знания и вымыслы древности, чтобы не дать им рассеяться и пропасть. Но она также являла собой новое пространство, откуда вели дороги в будущее.
Предшествовавшие ей библиотеки были частными и содержали тексты, полезные владельцам. Даже те, что принадлежали крупным профессиональным школам или сообществам, служили совершенно конкретным нуждам. Ближайшее подобие Александрийской – библиотека Ашшурбанапала в Ниневии, на севере нынешнего Ирака, – предназначалась для царя. Александрийская библиотека, разнообразная, исчерпывающая, включала книги на все темы, написанные во всех уголках знаемого мира. Ее двери были открыты любому жаждущему знания, всякому обладающему литературными наклонностями, ученым самого разного происхождения. Она была первой в своем роде и ближе всего подошла к цели заполучить все имевшиеся к тому времени книги на свете.
Кроме того, она отвечала идеалу смешения народов, о котором мечтал Александр для своей империи. Молодой царь, взявший в жены трех чужеземок, отец сыновей-полуварваров, планировал, пишет историк Диодор, заселить Азию европейцами, и наоборот, чтобы создать дружественный и семейственный союз между двумя континентами. Скоропостижная смерть помешала ему осуществить этот депортационный проект, замешанный на любопытном сочетании насилия и культа братских уз.
Библиотека открылась внешнему миру. В ней хранились греческие переводы важнейших иноязычных текстов. В одном византийском трактате сообщается: «Из каждого народа выбрали мудрецов, знавших в совершенстве и родной язык, и греческий; каждому сообществу мудрецов доверили разные книги, и таким образом все они были переведены». Именно тогда был создан греческий перевод Торы, известный как Септуагинта. Перевод иранских текстов, приписываемых Заратустре, – около двух миллионов стихов, – века́ спустя вспоминали как фантастический подвиг. Египетский жрец Манефон составил для библиотеки список династий фараонов и описал их деяния с незапамятных времен до Александрова завоевания. Чтобы создать эту хронику Египта на греческом языке, он разыскивал древние документы в десятках храмов, прочитывал и изымал. Другой двуязычный жрец, Берос, знаток клинописи, перевел на греческий описание вавилонских обычаев. Не обошлось и без трактата об Индии, написанного греческим посланником при дворе в Паталипутре, городе на берегах Ганга, на северо-востоке Индии. Никогда прежде переводческая работа не велась с таким размахом.
В библиотеке воплотилось все лучшее из мечтаний Александра: всемирность, жажда знаний, необычайная любовь к смешению. На библиотечных полках не существовало границ, и там наконец-то мирно зажили бок о бок слова греков, евреев, египтян, иранцев и индийцев. Эта территория разума стала для всех них, пожалуй, единственным гостеприимным домом.
11
Борхеса тоже завораживала идея исчерпывающего собрания книг. В рассказе «Вавилонская библиотека» перед нами предстает чудесный лабиринт, где обитают все слова и сны. Но мы сразу же чувствуем, что место это тревожное. Ощущаем, как наши фантазии окрашиваются в тона кошмара, становясь глашатаями современных страхов.
Вселенная, некоторые называют ее Библиотекой, – пишет Борхес, – своего рода чудовищный улей, существующий извечно. Она состоит из бесконечных одинаковых шестигранных галерей, соединенных винтовыми лестницами. В каждом шестиграннике есть лампы, полки и книги. Слева и справа от лестничной площадки – две комнатушки. В одной можно спать стоя, в другой – справлять нужду. В коридорах живут странные служащие, которых повествователь называет несовершенными библиотекарями. Каждый из них отвечает за определенное число галерей в бесконечном геометрическом пространстве.
В книгах Библиотеки содержатся все возможные сочетания двадцати трех букв и двух знаков препинания, то есть всё, что можно помыслить или выразить на любом языке, даже забытом. Следовательно, – говорит повествователь, – где-то на полке стоит и правдивый рассказ о твоей смерти. И подробнейшая история будущего. И автобиографии архангелов. И истинный каталог Библиотеки, и тысячи тысяч ложных каталогов. Обитатели улья так же ограниченны, как мы: они владеют от силы парой языков, и жизнь их коротка. Значит, статистическая вероятность, что кто-нибудь разыщет в неизмеримости туннелей нужную или хотя бы понятную ему книгу, ничтожна.
В этом и состоит великий парадокс. По шестигранникам улья снуют искатели книг, мистики, жаждущие разрушения фанатики, библиотекари-самоубийцы, пилигримы, идолопоклонники и прочие. Но никто не читает. В изнурительном сверхизобилии случайных страниц пропадает удовольствие от чтения. Все силы уходят на поиск и расшифровку.
Мы можем понимать этот рассказ как иронический, сплетенный на основе библейских и библиофильских мифов, упрятанных в архитектуру тюрем Пиранези и бесконечных лестниц Эшера. Но нас, сегодняшних читателей, Вавилонская библиотека поражает и как пророческая аллегория виртуального мира, необъятности интернета, этой гигантской информационной и текстовой сети, прореженной алгоритмами поисковиков, где мы теряемся, как призраки в лабиринте.
С помощью удивительно старого образа Борхес предсказывает современный мир. В рассказе интуитивно присутствует явление сегодняшнего дня: электронная сеть, то, что мы называем «паутиной», построена на принципе работы библиотеки. У истоков интернета лежала мечта о мировом общении. Требовалось построить маршруты, проспекты, воздушные пути для слов. Каждому тексту полагалась ссылка – линк, – по которой читатель мог найти его с любого компьютера в любом уголке мира. Тимоти Джон Бернерс-Ли, ученый-информатик, создатель Всемирной паутины, вдохновлялся упорядоченным и гибким пространством публичных библиотек. Подражая их механизмам, он придумал давать каждому виртуальному документу уникальный адрес, по которому к нему можно было получить доступ с другого компьютера. Этот универсальный локализатор – называемый в информатике URL – точный эквивалент библиотечного шифра. Потом Бернерс-Ли создал протокол переноса гипертекста – более известный по аббревиатуре http, – который действует как карточка, которую мы заполняем, чтобы заказать книгу у библиотекаря. Интернет есть преумноженная, обширная, эфирная эманация библиотек.
Мне кажется, человек, попадавший в Александрийскую библиотеку, испытывал примерно то же, что я, когда впервые вошла в интернет: изумление, головокружение от огромных пространств. Вот он, этот путник. Он высадился в порту Александрии и спешит к книжной твердыне. Как и я, он жаден до книг, его переполняет, едва ли не слепит предвкушение изобилия, различимого уже под колоннами портика библиотеки. Нам двоим, каждому в своей эпохе, приходит одна мысль: нигде еще не было собрано разом столько информации, столько всевозможных знаний, столько историй, в которых трепещет жизнь, пугающая и сладостная.
12
Но вернемся назад. Библиотеки еще не существует. Амбициозные мечты Птолемея о греческой столице Египта разбивались о грязную действительность. Через двадцать лет после основания Александрия была мелким строящимся городишкой, населенным солдатами, моряками, немногочисленными бюрократами, пытающимися справиться с хаосом, и своеобычной прослойкой хитрых торговцев, преступников, авантюристов и языкастых мошенников, всегда норовящих поживиться на новом месте. На прямых улицах, проложенных греческим зодчим, было грязно и воняло испражнениями. На спинах рабов не оставалось живого места от порки. Обстановка напоминала вестерн: насилие, энергия, хищнический дух. Смертоносный хамсин, восточный ветер, который века спустя будет терзать армии Наполеона и Роммеля, сотрясал город с наступлением весны. Надвигающийся хамсин напоминал гигантское кровавое пятно на далеком небосклоне. Потом тьма поглощала свет, и песок начинал вторжение, возводил удушливые, слепящие пыльные стены; пыль проникала в щели домов, высушивала глотки и носы, набивалась в глаза, вызывала приступы безумия, отчаяния, толкала на преступления. Через несколько часов воинственные вихри обрушивались в море под стоны жалящего ветра.
Птолемей решил непременно переселиться сюда со всем двором и созвать на этот малогостеприимный пятачок в пустыне лучших ученых и писателей своего времени.
Закипела работа. Выстроили канал, чтобы соединить Нил с озером Мареотис и морем. Птолемей начертил план огромного порта. И приказал возвести подле моря дворец, защищенный молом, огромную крепость, чтобы укрыться в случае осады, маленький запретный город, куда большинству ход был заказан, дом нечаянного правителя невероятного города.
Дабы облечь мечты в камень, Птолемей потратил много, очень много денег. Ему достался не самый большой, зато самый сочный кусок империи Александра. Слово «Египет» означало богатство. На плодородных берегах Нила вырастали прекрасные урожаи злаков – а именно этот товар, как впоследствии нефть, позволял контролировать мировые рынки. К тому же Египет торговал самым ходовым материалом для письма – папирусом.
Папирусная осока пьет корнями нильскую воду. Стебель – толщиной с мужскую руку, высота растения – от трех до шести метров. Из гибкого папирусного волокна простой люд делал веревки, циновки, сандалии и корзины. Древние предания помнят об этом: из папируса, скрепленного дегтем и смолой, была корзинка, в которой мать отпустила на волю нильских волн маленького Моисея. В третьем тысячелетии до нашей эры египтяне обнаружили, что из тростника получаются писчие листы, а к первому тысячелетию донесли это знание до всех народов Ближнего Востока. Веками евреи, греки, а потом и римляне писали на папирусных свитках. По мере того как средиземноморские общества становились более грамотными и усложнялись, потребность в папирусе возрастала и цены поднимались на фоне спроса. Папирус почти не произрастал за пределами Египта и, подобно минералу колтану для наших смартфонов, превратился в стратегическое сырье. Существовал обширный рынок; по торговым путям папирус отправлялся в Африку, Азию и Европу. Цари Египта монополизировали ремесленное производство и продажу; специалисты по древнеегипетскому языку полагают, что слова «папирус» и «фараон» – однокоренные.
Представим себе рабочее утро в фараоновых мастерских. Ранним утром рубщики отправляются на берег Нила; их шаги будят птиц, и те взлетают над тростниковыми зарослями. В рассветной прохладе работается споро; к полудню рубщики приносят в мастерские огромные охапки стеблей. Точными движениями снимают верхний слой и режут треугольный стебель на тонкие полоски в 30–40 сантиметров длиной. Выкладывают на плоскую доску слой полосок вертикально, а следующий – под прямым углом, горизонтально. Обстукивают деревянным молотком, чтобы выделившийся сок склеил слои. Выравнивают поверхность, ошкуривая пемзой или раковинами. Наконец, мучной болтушкой склеивают папирусные листы в длинную полосу, которую сворачивают в свиток. Чаще всего соединяют двадцать листов и тщательно полируют стыки, чтобы легче двигалась палочка писца. Купцы торгуют не отдельными листами, а свитками: кто пожелает написать письмо или какой другой короткий документ, сам отрежет нужный кусок. Свитки бывают от 13 до 30 сантиметров в ширину, а обычная длина колеблется от 3,2 до 3,6 метра. Однако протяженность может меняться, как количество страниц в наших книгах. Например, самый длинный свиток в коллекции Британского музея, папирус Харриса, первоначально имел длину 42 метра.
Свиток папируса стал огромным шагом вперед. Веками люди искали подходящий материал и писали на камне, глине, дереве или металле, и вот наконец язык нашел себе приют в живом материале. Первая книга в истории родилась, когда слова, знаки из воздуха, уютно устроились в сердце водной травы. И, в отличие от своих неподвижных жестких предков, книга с самого начала была гибкой, легкой, готовой к путешествиям и приключениям.
Папирусные свитки с длинными рукописными текстами, нанесенными каламом и краской, – так выглядели книги, прибывавшие в зарождающуюся Александрийскую библиотеку.
13
Образ Александра прямо-таки завораживал его полководцев, особенно после смерти царя. Они начали подражать его жестам, одеяниям, головным уборам, повороту головы. Устраивали пиры так, как ему нравилось, и чеканили его профиль на монетах. Один из гетайров отрастил волнистые кудри, чтобы рассыпались по плечам, как у Александра. Военачальник Эвмен утверждал, будто покойный царь является ему во снах и беседует с ним. Птолемей пустил слух, что приходится Александру братом по отцу. Однажды несколько соперничающих преемников собрались в шатре перед пустым троном и скипетром: во все время переговоров им казалось, что покойный руководит их спором.
Все тосковали по Александру и лелеяли его призрак, но в то же время бойко расколачивали на кусочки оставленную им мировую империю, убирая одного за другим царских родичей и предавая доверие самых близких. О такой любви, вероятно, думал Оскар Уайльд, когда написал в «Балладе Редингской тюрьмы»: «Каждый, кто на свете жил, любимых убивал».
В борьбе за память об Александре Птолемею удалось исхитриться и обыграть всех. Самый блестящий ход состоял в том, что он заполучил в свое распоряжение царский труп. Как никто другой, он понимал неоценимые возможности, крывшиеся в символическом выставлении напоказ бренных останков.
Осенью 322 года до нашей эры из Вавилона в Македонию отбыла похоронная процессия. Тело, бальзамированное медом и пряностями, везли в золотом гробу, на траурной колеснице, убранство которой источники описывают как трогательную китчевую мешанину из балдахинов, пурпурных занавесей, кистей, позолоченных статуй, шитья и венцов. Ранее Птолемей подружился с главой процессии. При его пособничестве добился, чтобы процессия сделала крюк в сторону Дамаска, после чего вышел наперерез с большим войском и похитил гроб. Генерал Диадох Пердикка, подготовивший в Македонии царскую могилу, чуть не задохнулся от ярости, прознав о похищении, и выступил в поход на Египет, однако в ходе провальной кампании был убит своими же воинами. Птолемей выиграл. Он перевез труп в Александрию и поместил в открытом для публики мавзолее, который превратился в притягательную достопримечательность для поклонников некротуризма. Попрощаться с Александром приехал, в частности, первый римский император Август. Он возложил на хрустальную крышку саркофага венок и попросил разрешения дотронуться до тела. Злые языки утверждают, что, целуя Александра, он сломал ему нос. Во время одного из народных бунтов саркофаг был разрушен, и до сих пор археологи безуспешно ищут место, где он находился. Некоторые полагают, что тело постиг конец, достойный космополита Александра: его растащили по кусочкам, понаделали амулетов и развезли по всему неизмеримому, некогда им завоеванному миру.
Говорят, когда Август почтил память Александра в мавзолее, его спросили, не желает ли он посмотреть усыпальницу Птолемеев. «Я пришел увидеть царя, а не мертвецов», – отвечал он. В этих словах отражена драма диадохов, преемников Александра: все считали их шайкой посредственных заместителей, жалким довеском к легенде. Им недоставало царской харизмы, и лишь присоседившись к образу покойного государя, они могли рассчитывать на уважение. Потому они и рядились в Александра изо всех сил, желая, чтобы люди их путали, – как в наши дни делают неутомимые подражатели Элвиса.
Следуя этой игре подобий и аналогий, царь Птолемей захотел нанять в учителя своим детям Аристотеля, некогда воспитавшего Александра. Но философ умер в 322 году, всего несколько месяцев спустя после кончины знаменитого ученика. Слегка разочарованный Птолемей вынужден был снизить планку и послал гонцов в школу Аристотеля в Афинах, Ликей, чтобы предложить щедро оплачиваемую должность самым прославленным мудрецам эпохи. Двое приняли предложение: один должен был заняться воспитанием царских отпрысков, второй – обустраивать Великую библиотеку.
Нового ответственного за приобретение и упорядочивание книг звали Деметрий Фалерский. Он изобрел ремесло библиотекаря, ранее не существовавшее. Молодые годы подготовили его к интеллектуальным задачам и умению управлять. Отучившись в Ликее, он на целое десятилетие нырнул в водоворот политики. В Афинах познакомился с первой библиотекой, построенной на принципах разума, – коллекцией самого Аристотеля, прозванного Читателем. В более чем двухстах трактатах Аристотель стремился познать структуру мира и разделил ее на части (физика, биология, астрономия, логика, этика, эстетика, риторика, политика, метафизика). Там, среди книжных полок учителя, успокаиваемый его строгими классификациями, Деметрий, вероятно, и понял, что владение книгами – все равно что балансирование на канате. Попытка соединить разрозненные фрагменты вселенной, пока не получится наделенное смыслом целое. Гармоничная архитектура, противостоящая хаосу. Песчаная скульптура. Берлога, куда мы тащим все, что страшимся забыть. Память мира. Волнорез, о который разбивается цунами времени.
Деметрий перенес в Египет аристотелевскую модель мышления, венчавшую в ту пору западную науку. Говорили, что Аристотель научил александрийцев устройству библиотеки. Это нельзя понимать буквально, ведь он никогда не бывал в Египте. Зато оказал влияние косвенно, через своего удачливого ученика, бежавшего в юный город от превратностей афинской политики. Однако, несмотря на добрые намерения, Деметрий не смог противиться соблазну и пустился в интриги при дворе Птолемея. Участвовал в заговорах, впал в немилость, был арестован. И все же его пребывание в Александрии оставило ощутимый след. Благодаря ему в Библиотеке поселился благожелательный призрак, дух Аристотеля, страстного любителя книг.
14
Деметрий должен был регулярно посылать Птолемею отчет о том, как продвигается работа. Начинал он так: «Великому царю от Деметрия. Повинуясь царскому приказу добавить к собранию Библиотеки недостающие книги и сделать ее полной, а равно и восстановить должным образом книги, которых не пощадила изменчивая фортуна, я взялся за дело со всем тщанием и теперь отчитываюсь».
Дело не отличалось простотой. Греческих текстов было почти не раздобыть, не преодолевая огромных расстояний. В храмах, дворцах и богатых домах свитки имелись в изобилии, но на египетском, а Птолемей не снизошел бы до изучения языка своих подданных. Одна только Клеопатра, последняя в роду, обладавшая, по свидетельствам, поразительными способностями к языкам, умела говорить и читать по-египетски.
Деметрий выбрал людей, вооружил, снабдил деньгами – и отправил в Анатолию, на острова Эгейского моря и в Грецию, в погоню за греческими текстами. В то же время, как я упоминала, таможенников обязали обыскивать все прибывавшие суда и изымать все найденные на борту книги. Вновь купленные или конфискованные произведения отправлялись в хранилища, где подручные Деметрия описывали их и составляли каталог. Те книги представляли собой папирусные цилиндры без всяких обложек и корешков – не говоря уже о суперобложках, в том числе изготовленных к случаю, призванных дать нам понять, какой знаменитый потрясающий шедевр скрывается под ними. Тогда догадаться о содержании книги с первого взгляда было трудно, а если у кого-то имелась дюжина книг и он желал частенько в них заглядывать, начинался настоящий кавардак. Для библиотеки это и подавно не годилось, и решение нашли – но не идеальное. Заполняя полки, у краешка каждого свитка помещали табличку – так и норовившую упасть – с указанием автора, названия и происхождения текста.
Рассказывают, во время очередного царского визита в библиотеку Деметрий предложил пополнить коллекцию книгами иудейского закона, тщательно выверенными. «Что же тебе мешает?» – удивился царь. Он давно дал библиотекарю карт-бланш. «Нужен перевод. Они написаны по-еврейски».
Мало кто понимал тогда по-еврейски даже в Иерусалиме, где большинство населения говорило на арамейском, – на этом же языке несколько веков спустя проповедовал Иисус. Александрийские евреи – могущественная община, занимавшая целый квартал города, – начали потихоньку переводить свои священные книги на греческий, но дело двигалось медленно и урывками, поскольку наиболее ортодоксальные сопротивлялись новшествам. В синагогах шли ожесточенные споры, как позже у католиков в связи с прекращением месс на латыни. Следовательно, если главный библиотекарь намеревался заиметь полную и точную версию Торы, ее требовалось заказать.
Предание гласит, что Деметрий написал письмо первосвященнику Елеазару в Иерусалим. От имени Птолемея он попросил прислать в Александрию лучших знатоков Закона, способных перевести его. Елеазар с радостью ответил на письмо и принял прилагавшиеся к письму дары. Через месяц, проделав долгий путь по обжигающим синайским пескам, в Египет прибыли семьдесят два иудейских мудреца, по шести от каждого колена, лучшие из лучших среди раввинов. Их поселили у самого моря, в доме на острове Фарос, «погруженном в глубокий покой». Деметрий с помощниками часто навещал их и проверял, как двигается работа. Считается, что в спокойствии и уединении они закончили перевод Пятикнижия за семьдесят два дня, а потом вернулись в Иерусалим. В память об этой истории греческий перевод Библии называется «Библией семидесяти толковников».
Тот, кто поведал нам об этих событиях, некий Аристей, утверждает, что видел все своими глазами. Сегодня мы знаем, что текст Аристея – фальсификация, но сквозь хитросплетенные выдумки в нем проглядывают исторические факты. Мир менялся, и Александрия не отставала от него. Греческий язык превращался в новый лингва франка, язык-посредник. То был, разумеется, не греческий Еврипида или Платона, а доступная разновидность, называемая койне, нечто наподобие корявого английского, на котором мы изъясняемся в отелях и аэропортах, когда едем в отпуск. Македонские цари решили насадить греческий по всей империи как символ политической силы и культурного превосходства, не оставляя ближнему выбора: хочешь чего-то добиться – учи язык. И все же универсальное мышление Александра и Аристотеля нашло некоторый отклик в их неподатливых шовинистических умах. Новых подданных, соображали они, для лучшего управления тоже нужно понимать. В этом свете легко объяснимы экономические и интеллектуальные усилия по переводу иноязычных книг, особенно религиозных текстов, каковые суть карты душ человеческих. Александрийская библиотека появилась не только чтобы дать приют прошлому и его наследию. Она подгоняла создание общества, которое мы можем считать – как и наше – глобализованным.
15
Эту первоначальную глобализацию принято называть «эллинизмом». Общие обычаи, верования и образ жизни укоренились на завоеванных Александром территориях – от Анатолии до Пенджаба. Греческой архитектуре подражали в далекой Ливии и даже на острове Ява. На греческом языке африканцы могли общаться с азиатами. Плутарх утверждает, что в Вавилоне читали Гомера, а дети в Персии, Сузах и Гедросии – ныне эта территория разделена между Пакистаном, Афганистаном и Ираном – изучали на уроках трагедии Софокла и Еврипида. Благодаря торговле, образованию и смешению народов огромная часть мира оказалась подвержена культурной ассимиляции. От Европы до Индии то тут, то там попадались узнаваемые города: пересекающиеся под прямым углом широкие улицы – по гипподамовой системе, агоры (площади для торговли и народных собраний), театры, гимнасии, надписи на греческом, храмы с разукрашенными фронтонами. Это были отличительные знаки тогдашнего империализма, какими сегодня являются кока-кола, Макдоналдс, неоновая реклама, торговые центры, голливудское кино и продукты Apple, причесывающие мир под одну гребенку.
Как и в наши дни, недовольных хватало. Среди завоеванных народов многие сопротивлялись колонизации. Но и между греками встречались брюзги, вспоминавшие времена аристократической независимости и неспособные вжиться в новое космополитичное общество. О святая чистота былого! Внезапно повсюду стало полно вшивых иноземцев. Мир расширял горизонты, люди перебирались с места на место, свободные работники не могли конкурировать с восточными рабами. Рос cтрaх перед другим, иным. Грамматик по имени Апион возмущался, что евреи занимают лучший квартал в городе, прямо у царского дворца, а Гекатей, грек, посетивший Египет при Птолемеях, сетовал на ксенофобию со стороны иудеев. Случались стычки, иногда кровопролитные, между общинами. Историк Диодор сообщает, что однажды толпа взбешенных египтян разорвала на куски чужеземца, убившего священное животное – кошку.
Перемены давались тяжело. Многие греки, веками жившие в маленьких городах, где управление осуществляли местные граждане, вдруг оказались подданными огромных царств. Им казалось, будто их вырвали с корнем, переместили, будто они затеряны в необъятной вселенной и зависят от далеких сил, к которым не подступишься. Восторжествовал индивидуализм, обострилось чувство одиночества.
Эллинистическая цивилизация – тревожная, легкомысленная, театральная, смятенная, сбитая с толку стремительными изменениями – порождала противоречивые устремления. Словно по Диккенсу, «это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен». Процветали разом скептицизм и суеверия, любопытство и предрассудки, терпимость и нетерпимость. Некоторые люди начинали считать себя гражданами мира, другие впадали в крайний национализм. Идеи перекликались, преодолевали границы, с легкостью смешивались. Царил эклектизм. Стоическая мысль, которой отмечены вся эпоха эллинизма и времена Римской империи, учила избегать страдания через спокойствие, отсутствие желаний и укрепление духа. Буддисты с востока могли бы подписаться под такой программой самопомощи.
Несостоятельность идеалов прошлого породила у греков острую ностальгию по иным временам, но также и новую забаву: пародирование старинных героических сказаний. Александр завоевал мир, не выпуская из рук «Илиады», а вскоре неизвестный поэт высмеял его подвиги в комической эпопее «Батрахомиомахия», рассказывавшей о битве армий Щекодува, царя лягушек, и Крохобора, царевича мышей. Вера в богов и мифы истончалась, уступая место непочтительности, растерянности и тоске. Через несколько десятилетий увлеченный прошлым александрийский библиотекарь Аполлоний Родосский воздал почести древнему эпосу в поэме о приключениях Ясона и аргонавтов. Современные синефилы обнаружат подобный тон в закатном вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный», а иконоборческий ироничный смех – у Тарантино, во взрывающем жанр «Джанго освобожденном». Ехидство и меланхолия образовывали сплав, очень близкий нашей эпохе.
16
Птолемей добился своего. Покуда Рим не затмил ее, Александрия оставалась главным центром цивилизации в мире. А также экономической столицей. Новый маяк, одно из чудес света, выполнял ту же символическую функцию, что башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
К югу от Александрии линию горизонта ломали гигантские темные зернохранилища. Там ждали своего часа богатые урожаи, собранные с питаемой Нилом намывной равнины. Тысячи мешков отправлялись к пристаням по системе каналов. Забитые до отказа египетские корабли отплывали к крупнейшим портовым городам того времени, где их груз встречали ликованием: призрак голода отступал. Большие города Древности переросли возможности близлежащих сельскохозяйственных зон. Александрия поставляла хлеб – то есть стабильность и необходимое условие власти. Если египтяне поднимали цены или сокращали поставки, целая страна могла разом погрузиться в пучину насилия и мятежей.
Александрия молода и могуча, однако зиждется на ностальгии. Царь печалится о былом, которого сам не застал, но любит всем сердцем, – о золотом веке Афин, о кипучих днях Перикла, философах, великих историках, театре, софистах, речах, необычайном скоплении необычайных личностей в гордой маленькой столице, объявившей себя «школой Греции». Веками македонцы в своем почти варварском северном краю слышали рассказы о великолепии Афин и трепетали. Они пригласили престарелого Еврипида провести в Македонии последние годы, а еще им удалось привлечь ко двору Аристотеля. Они возлагали большие надежды на этих знаменитостей. Старались подражать афинской утонченности, желали чувствовать себя образованными и избавиться от унизительного клейма недогреков. Македонцы восторженно наблюдали миф со стороны, и в их глазах он обретал новое величие.
Мне вспоминается сад Финци-Контини из романа Джорджо Бассани. Я много раз его перечитывала; думаю, это одна из моих любимых книг. Описанный там особняк богатых евреев в Ферраре с садом и теннисным кортом, окруженный высокими стенами, – место, куда ты стремишься, но, когда тебя приглашают, чувствуешь себя там неуклюжим самозванцем. Ты чужой в этом мире, как бы сильно ты ни любил его. Тебя впустят на одно волшебное лето, ты будешь играть долгие матчи в теннис, исследовать сад, попадешь в сети желания, но двери вновь закроются. И это пространство навсегда будет связано с печалью. Почти все мы в ту или иную минуту жизни заглядывали с улицы в сад Финци-Контини. Для Птолемея таким садом были Афины. Кровоточащее воспоминание о недосягаемом городе заставило его основать в Александрии Мусейон.
У греков слово «мусейон», или «музей», означало место, посвященное музам, дочерям Мнемосины-Памяти, богиням вдохновения. Платоновская Академия и позже аристотелевский Ликей находились в рощах, представляших своего рода храмы муз, поскольку умственные упражнения и образование могли метафорически рассматриваться как отправление культа девяти богинь. Мусейон Птолемея шагнул дальше: это был один из самых амбициозных проектов эллинизма, предтеча наших исследовательских центров, университетов и творческих лабораторий. В Мусейон приглашали лучших писателей, поэтов, ученых и философов. Избранные получали пожизненную должность, избавлявшую от всех денежных трудностей, с тем, чтобы силы их уходили исключительно на размышления и творчество. Птолемей назначал им жалованье, предоставлял бесплатное жилище и место в роскошной общей трапезной. Они также освобождались от уплаты налогов – едва ли не самый дорогой подарок, учитывая прожорливость царской казны.
За несколько столетий Мусейон, как и мечтал Птолемей, собрал ослепительную плеяду имен. Там работали: математик Евклид, сформулировавший геометрические теоремы; Стратон, лучший физик своего времени; астроном Аристарх; Эратосфен, высчитавший радиус Земли с удивительной точностью; Герофил, основоположник анатомии; Архимед, открывший законы гидростатики; Дионисий Фракийский, автор первого грамматического трактата; поэты Каллимах и Аполлоний Родосский. В Александрии зародились важнейшие теории, например гелиоцентрическая модель Солнечной системы, которая позже, в XVI веке, привела к коперниканской революции и суду над Галилеем. Был снят запрет на препарирование трупов – и даже, по утверждениям некоторых, живых заключенных в александрийских темницах, – благодаря чему медицинская наука шагнула далеко вперед. Развивались новые области знания, такие как тригонометрия, грамматика и консервация рукописей. Зародился филологический анализ текста. Были сделаны великие изобретения, вроде бесконечного винта, по сей день используемого для вычерпывания жидкостей. И за семнадцать веков до Ватта, введшего понятие лошадиной силы, Герон Александрийский описал паровую турбину, с помощью которой, правда, перемещал только механических кукол. Считается, что его труды по автоматическим устройствам предвосхитили робототехнику.
Библиотека занимала особое место в этом ученом городке. Не так уж часто в мировой истории сознательно и преднамеренно совершались подобные усилия ради того, чтобы собрать в одном месте лучшие умы эпохи. И никогда прежде величайшие мыслители не имели доступа к такому числу книг, ко всему накопленному цивилизацией знанию, подсказкам из прошлого, помогавшим учиться мыслить.
Мусейон и Библиотека входили в дворцовый комплекс, находились внутри крепостных стен. Жизнь первых профессиональных исследователей протекала в уединении укрепленного пространства. Они читали лекции, давали уроки, устраивали публичные обсуждения, но превыше всех этих дел ценилась молчаливая работа мысли. Глава Библиотеки был также учителем царских отпрысков. На закате все ужинали вместе в зале, куда иногда заглядывал и Птолемей послушать их разговоры, подивиться словесным дуэлям, находкам, планам. Возможно, он думал, что ему удалось создать собственные Афины, сад-цитадель.
Из сатирического сочинения мы узнаем об обычаях ученых Мусейона, умиротворенных, избавленных от земных забот, защищенных от напастей своего времени. «В многолюдном краю египетском, – пишет поэт-сатирик, – откармливают мудрецов-книгочеев; они знай себе едят да поклевывают друг дружку в клетке, охраняемой музами». В другой поэме писатель возвращается из царства мертвых, чтобы дать обитателям Мусейона совет: не портить себе и другим жизнь взаимными обидами. По-видимому, удаленные от мирской суеты, наслаждавшиеся беззаботной жизнью мудрецы и в самом деле друг дружку поклевывали. Исторические источники упоминают о разногласиях, зависти, обидах, соперничестве и злословии. Ничего такого, что не было бы знакомо нам по современным университетским кафедрам с их мелкими нескончаемыми дрязгами.
17
В наши дни развернулось азартное состязание по постройке самого высокого небоскреба в мире. От состязания своего времени Александрия не осталась в стороне: городской маяк оставался на протяжении веков одним из высочайших сооружений в мире. Он представлял собой эмблему царского тщеславия, знаковое сооружение вроде Сиднейской оперы или музея Гуггенхайма в Бильбао, эротический сон всякого правителя. Но, помимо всего прочего, он являлся символом золотого века науки.
«Фарос», слово, приобретшее в греческом значение «маяк», – топоним. Так назывался остров в дельте Нила, на котором, увидев его во сне, Александр решил основать город. В Балтийском море есть маленький остров Форё. Там Ингмар Бергман снял «Сквозь тусклое стекло» и другие фильмы, туда удалился, чтобы жить вдали от мира. Но нам трудно судить о первоначальном замысле: сооружение завладело географическим названием, и унаследованное из греческого слово сохраняется во многих языках.
До начала строительства Птолемей велел инженеру-греку соединить остров Фарос с пристанями молом, который одновременно разделил порт на две гавани – торговую и военную. Прямо из скопления кораблей вырастала высокая белая башня. Средневековые арабские авторы, заставшие маяк, описывают структуру из трех ярусов – квадратного, восьмиугольного и круглого в основании, – соединенных пандусами. На вершине, вознесенной на высоту примерно в сто двадцать метров, было зеркало, отражавшее солнечные лучи днем и свет костра ночью. В ночной тиши рабы поднимали по пандусам горючее, чтобы поддерживать огонь.
Зеркало Фаросского маяка овеяно легендами. В те времена зеркала относились к области высоких технологий, поражали своими свойствами. Среди ученых Мусейона, стремившихся к всеохватному знанию, числились и знатоки оптики: под их контролем, вероятно, и было изготовлено исполинское зеркало. Мы не можем точно представить себе, чего они добились, но арабские путешественники видели зеркало много веков спустя и утверждали, что оно позволяло на огромном расстоянии отслеживать корабли, идущие к Александрии. Рассказывали, что с вершины маяка можно было увидеть отраженный в зеркале город Константинополь. Судя по этим зыбким воспоминаниям – отчасти правдивым, отчасти приукрашенным, – Фаросский маяк может считаться далеким предком телескопа, зоркого глаза, способного обозревать морскую и звездную даль.
Маяк был последним и самым новаторским из семи чудес Древнего мира. Он символизировал все, чем хотела быть Александрия: манящий город, точку пересечения координат, столицу раздвинувшегося вширь мира, путеводный светильник для всех мореходов. Частые в X–XIV веках землетрясения разрушили его, но мы видим его очертания во всех последующих маяках, выстроенных по его архитектурной модели.
А вот Библиотеку, тоже своего рода маяк, нам не описывает ни один древний автор. Во всех текстах подробности распределения пространств, залов и двориков, пустот и закоулков размыты. Мы видим их как бы сквозь тусклое стекло.
18
Чтение – это ритуал, предполагающий особые жесты, позы, предметы, пространства, материи, движения, колебания света. Чтобы вообразить, как читали наши предки, нам нужно разведать, какой в каждую эпоху была цепь обстоятельств, сопутствующих столь интимному процессу.
Со свитком обращались не так, как с книгой, у которой есть страницы. Когда свиток раскрывался, глазам представала череда столбцов текста, идущих слева направо по внутренней стороне папируса. Продвигаясь, читатель развертывал его правой рукой, а левой сворачивал уже прочитанные столбцы. Размеренное, ритмичное, сосредоточенное движение – медленный танец. Прочитанная книга оказывалась свернута наоборот, от конца к началу, и по правилам учтивости полагалось перемотать ее – словно аудиокассету – для следующего читателя. Керамика, скульптура, рельефы изображают увлеченных чтением мужчин и женщин, совершающих описанные действия. Они стоят или сидят с книгой на коленях. Обе руки заняты – одной свиток развернуть невозможно. Позы, жесты, движения отличаются от наших, но и напоминают их: спина слегка сутулится, тело съеживается над словами, читатель на миг исчезает из своего мира и пускается в путешествие силой одного только горизонтального движения зрачков.
Александрийская библиотека принимала множество таких неподвижных путешественников, но мы не знаем, какие пространства и условия предлагала она для чтения. Описаний совсем мало, да и те на удивление расплывчатые. Нам остается лишь гадать, что́ скрывается за недомолвками. Самые полные сведения находим у автора, родившегося на территории современной Турции, Страбона. В 24 году до нашей эры он прибыл из Рима в Александрию работать над географическим трактатом, которым хотел дополнить свои сочинения по истории. Описывая пребывание в городе – где он увидел маяк, главный мол, порт, сходящиеся под прямым углом улицы, разные кварталы, озеро Мареотис и нильские каналы, – Страбон говорит, что Мусейон составляет часть огромного царского дворца. Дворец постоянно расширялся, поскольку каждый правитель дополнял его пристройками и новыми зданиями. Ко времени Страбона он занимал треть городской территории. В этой огромной запретной крепости, куда попадали лишь избранные, историку предстал суетливый микрокосм. Окинув его цепким взором, Страбон дал описание Мусейона и мавзолея Александра – и ни словом не обмолвился о библиотеке.
Мусейон, пишет он, состоит из перипата (крытой галереи с колоннами), экседры (полукруглого пространства с сидениями на свежем воздухе) и большого зала, где мудрецы вместе обедают. Имущество у них общее, а управляет ими жрец, глава Мусейона, которого прежде выбирали местные цари, а теперь Август.
