Случай Ландрю в свете психоанализа
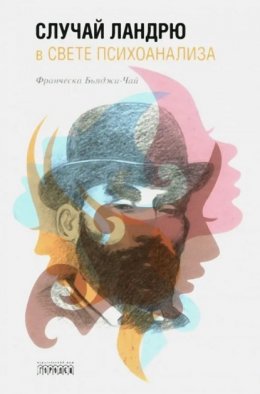
Благодарности
Я благодарю Паскаль Барре за значительную помощь в работе с документами, в исследованиях и в издании этой книги, которая без нее не появилась бы на свет.
Также я благодарю Кристиану Альберти, Жана-Франсиса Бенкемуна, Сержа Коттета, Паскаль Фари, Паскаля Фента, Натали Жорж-Ламбриш, Винсента Люка, коллег и друзей, которые сопровождали эту работу с самого начала и до конца, историка Винсента Чай и философа Жан-Поля Пандольфи за их мудрые советы и Сильвию Липа-Лакарьер за дружеское и внимательное чтение.
Предисловие Жака-Алена Миллера
Serial killer. Это новое понятие. Оно датируется концом 1970-х годов, и оно американское, что логично, ведь Соединенные Штаты издалека кажутся нам землей, наиболее богатой на серийных убийц. Мнения о том, кто его автор, расходятся (между двумя Робертами, Ресслером, агентом ФБР, и Кеппелем, доктором медицины). Оно проникло в язык благодаря резонансу, который вызвали преступления Теда Банди1 в прессе и в обществе.
Он был прекрасным рассказчиком с очаровательными манерами, способным, как говорят, менять облик подобно хамелеону; у него были дипломы по психологии и праву; начал он убивать с 14 лет, а в 29 был арестован. Он признался в тридцати убийствах: все жертвы были женщины, белые, представительницы среднего класса, большей частью от 15 до 20 лет, в основном студентки, с длинными темными волосами. Он проводил долгие часы рядом с трупами. Если он не отрезал им головы, то наносил им макияж и имел с ними сексуальные контакты, пока они не начинали разлагаться.
С тех пор серийным убийцам было посвящено огромное количество литературы, в которой имеет место не только нездоровый интерес, но также и интерес общественный: какие важные черты следует запомнить, чтобы описать идентичность неизвестного подозреваемого? какими индикаторами определяется принадлежность единичного убийства к текущей серии? как обнаружить серийного убийцу, пока он не перешел к действию? можно ли предсказать, что ребенок станет серийным убийцей? Это лишь некоторые из вопросов, поиску ответов на которые уже с десяток лет посвящаются научные исследования. На них пытаются ответить эксперты – полицейские и психологи; в последнее время были привлечены биохимия, нейронауки, магнитно-резонансная томография.
Поле исследований быстро расширяется, полученные результаты заметные, но еще не окончательные, и криминологи пытаются их обобщить.
Полицейские вносят свой вклад знаниями о месте преступления: серийный убийца имеет свой modus operandi, МО, присущий только ему, который, однако, может изменяться, и «подпись», «визитную карточку», которая остается неизменной.
Теоретические разработки на основе опыта, который психологи приобретают в своих беседах с преступниками, страдают противоречиями, сталкивающими различные подходы и многочисленные течения в этой области. Их открытия всегда вызывают споры: так, например, работа Хелен Моррисон, судебного медика и психиатра, «Моя жизнь среди серийных убийц: в умах самых печально известных убийц в мире»2, основанная на интервью с восемьюдесятью личностями, критиковалась с момента ее выхода в 2004 году. Напротив, самое раннее открытие, «триада МакДональда»3, успешно противостояло испытанию временем: будущий серийный убийца в ранней юности будет показывать три связанных друг с другом симптоматических маркера – энурез, пироманию и жестокость к животным, особенно домашним. Хеллман и Блэкман4 рекомендовали брать под наблюдение всех детей, демонстрирующих пресловутую триаду, но не нашли отклика. Беседы со многими серийными убийцами, арестованными с того времени, тем не менее, позволили выявить другую деталь, увидеть связь между рецидивами нарушений и отношениями с матерью, зачастую инцестуозными, несущими отпечаток садизма, с такой матерью, которую можно было бы назвать ужасной. Биохимические исследования в 1980-е годы выявили ненормально низкую концентрацию 5-гидроксииндолуксусной кислоты в спинномозговой жидкости мужчин, характеризующихся постоянной агрессией и антисоциальным поведением, хотя при этом и не была сформулирована причинно-следственная связь5.
Наконец, в результате самых последних неврологических исследований, были описаны две зоны мозга: комплекс амигдалы, вовлеченный в распознавание эмоций, особенно эмпатии, страха и агрессии, и непосредственно связанная с ним префронтальная кора, средоточие многих высших когнитивных функций. Ослабление первой оказывает влияние на социальное поведение; сокращение серого вещества во второй на 22,3 % отмечается у преступников, так называемых психопатов-неудачников, то есть находящихся в тюрьме6, хотя признание этого сокращения позволяет сделать заключение о психопатии.
Наиболее достоверные сведения о серийных убийцах – это, по сути, знания определительного и типологического порядка. Это описательные и классификационные знания, накопленные в основном полицией и судопроизводством, отвечающие нормам Академии ФБР в Квантико, штат Вирджиния, и принадлежащего ей Национального центра анализа насильственных преступлений (NCAVC), а также Бюро юридической статистики США.
Чтобы быть признанным серийным убийцей в понимании ФБР, надо убить, по меньшей мере, трех человек в ходе как минимум трех эпизодов, растянутых во времени. Акцент ставится на временные промежутки, которые должны отделить одно событие от другого. Понятно, что концепт серии требует, чтобы данные преступные акты, точнее, каждый из них, представляли бы собой то, что можно назвать целостным актом, то есть дискретный элемент акта в лингвистическом смысле должен быть выделяем. Предполагается, что временной интервал определяется cooling-off (охлаждением), прерывающим эмоциональный континуум акта7.
Когда нет временнóй и эмоциональной прерывистости, это не serial killing, а spree killing или mass murder. Разница здесь огромная: spree killer (в настоящий момент нет официального перевода на французский язык: быть on the spree – это значит участвовать в кутеже, быть на вечеринке, в загуле) убивает по меньшей мере в двух местах без какого-либо перерыва между убийствами; mass murderer, собственно говоря, убивает как минимум четырех человек в одном месте в одно время, или за короткий промежуток времени, таким образом убийство представляет собой одно-единственное событие; частота таких mass murders с 1980-х годов постоянно увеличивается в мире, особенно в Соединенных Штатах8. Можно добавить, что spree killer убивает случайным образом, не выбирая жертв, в то время как выбор объекта serial killer’а строго определен, как показывает случай Теда Банди; что же касается mass murder’а, то он действует, как правило, в детерминированной зоне, внутри которой жертвы остаются безликими, за исключением расправ, организованных мафией.
Предлагаемые классификации серийных убийц многочисленны9: организованные они или нет? географически стабильны в заданном пространстве или мобильны, или же непосредственно привязаны к месту, например, к месту жительства или работы? их мотив бредовый или галлюцинаторный (visionary)? хотят ли они истребить совокупность данных людей, например проституток (missionary)?; ищут ли они удовольствия (hedonistic) или же власти и контроля над своими жертвами? речь идет о профессиональных убийцах или о закоренелых преступниках, использующих убийства лишь как средство для достижения своих целей, таких как перевозка наркотиков, или же они просто любители?
Из них только любитель является серийным убийцей stricto sensu.
Эти классификации не являются теоретическими построениями: они создаются для того, чтобы немедленно стать рабочими инструментами.
Полиция использует их в profiling (создании профиля) для задержания серийного убийцы. Речь идет о том, чтобы создать как можно быстрее «психологический профиль» преступника, исходя из важных особенностей его поведения во время преступления. Эта задача поручается психологам и психиатрам10.
Эта методика появилась в середине 1950-х годов, благодаря достойной Шерлока Холмса изобретательности одного психиатра, составившего профиль, исключительная точность которого позволила задержать преступника по кличке the Mad Bomber of New York11. В течение почти восьми лет он заложил не менее 32 пакетов со взрывчаткой по всему городу, прежде всего в кинотеатрах. Изучив досье, фотографии и письма, отправленные этим человеком между 1940 и 1956 годами, доктор Джеймс Брасселс смог сообщить следователям: «Крупный мужчина. Среднего возраста. Родился за границей. Католик. Холост. Живет с братом или сестрой». Он утверждал, что это параноик, который ненавидит своего отца, что он был обсессивным объектом любви для своей матери, а теперь живет в Коннектикуте. При этом он добавил: «Когда вы его найдете, возможно, он будет одет в двубортный костюм, застегнутый на все пуговицы». Все это оказалось верным. Доктор Брасселс вновь отличился в деле Boston Strangler в 1960-х годах.
Начиная с 1970 года, этот метод был формализован и усовершенствован в Behavioral Sciences Unit (BSU) при Академии ФБР, и сейчас он самый распространенный в мире.
Тем не менее, английская криминология в лице Дэвида Кантера12 в свою очередь развивает с 1980-х годов Investigative Psychology, но роль, которую здесь играет использование статистики, будет ограничивать ее применение в пределах Соединенного Королевства. Наконец, калифорнийский эксперт Брент Турвей13 изобрел Bеhavior Evidence Analysis (BEA), без сомнения, слишком сложный для полицейской практики.
Криминологические обобщения по серийным убийцам остаются не очень убедительными.
Когда спекулируют на общественных и культурных фактах, которые способствуют появлению этого феномена – окружающее нас насилие, его историческая традиция, его изображение в литературе и медиа, – то подходят нему слишком обобщенно. Когда заявляют об «интегрированной модели», как, например, в диссертации Эдварда Митчелла14 из Института криминологии Кембриджского университета, то не выходят за рамки компиляции. Последний вклад, известный нам, – статья Ребекки Тэйлор15 из Бостонского колледжа в журнале Brief Treatment and Crisis Intervention обещает описать этиологию серийного убийцы психопата. О чем же эта статья?
Ее единственный вклад состоит в том, что она выступает против терминологической синонимии в исследованиях по ASPD и психопатии. ASPD – это категория, введенная Американской психиатрической ассоциацией (American Psychiartic Association) в четвертом издании DSM, которая касается субъектов безответственных, импульсивных, нетерпимых к любой фрустрации, лишенных эмпатии, неэмоциональных, манипуляторов, презирающих и нарушающих правила общественной жизни, социальные нормы, культурный код, права и чувства окружающих. Психопаты, отвечающие критериям Psychopathy Checklist-Revised Хейра16, удовлетворяют почти всем критериям ASPD. Тем не менее, настаивает Ребекка Тейлор, большая часть лиц с ASPD не является психопатами. Мы по-прежнему остаемся очень далеко от заявленной этиологии.
Что же касается лечения, то подсчет, сделанный Харрисом, Райсом и Кормьером17 в 1994 году, по-видимому, отметил точку невозврата: из 292 преступников мужского пола, совершивших насильственное преступление, половина проходила лечение в течение двух лет, со средним присутствием в пятилетней программе реабилитации, и показала увеличение рецидивов насилия на треть по сравнению с той половиной, которая не лечилась, а находилась в тюрьме. Эта неудача объясняется тем, что исследователи возлагают большие надежды на предупреждение правонарушений, выявляя серийных убийц в детстве и подростковом возрасте18. Но что обнаруживается? По сути, триада МакДональда, которую мы уже упоминали, была предложена сорок три года назад. К тому же совсем недавно Моффитт установил, что если антисоциальное поведение проявляется рано и преобладает в предподростковом возрасте, то прогноз будет плохим. Согласимся, что этот вывод лежит на поверхности.
Относительно offender profiling, о котором мы говорили чуть выше, недовольные исследователи досадуют, что «нынешние методы покоятся на наивном и устаревшем понимании личности»19.
Серийное убийство, так же, как и spree killing и mass murder, все еще очень мало исследовано в нашей стране, для того чтобы французские исследования имели большой вес. Вполне возможно, что запрограммированное разрушение «французской социальной модели» и одновременное принятие ценностей American Way of Life позволит нам в ближайшее время устранить это отставание.
Hate crimes, «убийства из ненависти», касающиеся членов этнических, религиозных, сексуальных, национальных сообществ, в которых социолог Дени Дюкло20 видел десять лет назад «симптомы фрагментированного американского социума» из-за ослабления позиций государства, больше уже не являются исключением.
Вместе со случаем Ландрю мы покидаем настоящее время, поворачиваемся спиной к будущему и занимаем места в машине времени.
Забудьте Америку и ее монстров21, 22. Вы находитесь в Прекрасной эпохе, во времена великой войны, в безумные годы. Это время Арсена Люпена (Ландрю родился в 1868 году, Люпен – в 1875-м).
Нет profiling, нет ФБР, BSU, DSM, ASPD, IRM*.
Есть замечательный комиссар Белен из Сюрте Насьональ (Службы национальной безопасности), который спотыкается на «значении взгляда» «этого загадочного человека».
Есть Колетт, которая, описывая процесс, не спотыкается: «…если он наполовину опускает веки, пишет она, долгий взгляд выражает немое презрение, как у диких зверей в клетке».
Есть Жюль Ромэн, который встречает его в начале фатальной серии убийств в 1913 году в его маленьком гараже, выкрашенном в красный цвет, в порту Шатильона, он рассказывает, что это был «господин», ухоженный, с хорошими манерами, обходительный, больше «похожий <…> на дипломированного фармацевта, доктора, юриста», чем на автомеханика; он назвал его «джентльмен-механик», и этим сказано все.
Это Шарль Трене, который весело пел: «Ландрю, Ландрю / Гадкий бородач / Тебя боятся дети / Ты обольщаешь мамаш / Ландрю, Ландрю, твоя добродетель лишила тебя / головы и шевелюры / Ландрю, Ландрю, сколько дров ты сжег?..»
Он вдохновил Чарли Чаплина на Месье Верду. Он изобрел мотоцикл Landru: он надеялся, что это сделает его счастливым.
Его любовница хранила до последнего дня его фото в рамке, рядом с фотографией своей матери.
Что касается плиты, юморист Лоран Рюкье был убежден, что он ею пользовался, но полной уверенности в этом нет**.
Чтобы определить место этого случая, отойдем в сторону от классификаций наших охотников за убийцами и просто разделим убийства на убийства ради пользы и убийства ради наслаждения.
Первые имеют абсолютно определенный финал, который находится вне этих преступлений: уничтожение Другого здесь только средство для достижения этого финала, представляющего собой пользу, которая будет личной (всегда находится рациональный, то есть всем понятный, мотив) или общественной (власть убивает, чтобы не допустить преступления). Преступление ради наслаждения одновременно обескураживает и возбуждает, потому что его финал находится в нем самом. Оно вызывает в субъекте удовлетворение, которое принадлежит только ему и не может быть ни с кем разделено: никем не постижимое, неподдающееся универсальному, по определению непроизносимое; никакая психологическая беседа не заставит говорить о нем, никакая статистика не уничтожит его своеобразия.
Преступления для общей пользы требуют расчета: это верно как для Беккариа, Бентама, Бадинтера***, реформаторов, так и для Жозефа де Местра, расчет которого консервативен. Преступление для личной пользы активизирует рассудок, причинно-следственную связь, дедукцию, в то время как удовольствие ничего не значит в неизменном успехе Шерлока Холмса, Рулетабилля, Эркюля Пуаро, Мегрэ. Но преступление для преступления, то есть для наслаждения, заставляет вибрировать другую струну. Это больше не свободная игра общей для мыслящего человечества способности рассуждать, но самый тайный театр импульса («жестокости», как говорил Антонен Арто), который изолирует каждого из говорящих людей в его неотчуждаемой негуманной части.
Можно было бы считать убийство одним из Прекрасных искусств, согласно бессмертной формуле Томаса Квинси. Бессмертной, но созданной лишь для того, чтобы сбить с толку: она очень хорошо показывает, что убийство ради наслаждения, murder of pure voluptuousness, в эстетическом плане скорее расположено в сфере возвышенного в понимании Канта. Воображение здесь является доказательством его бессилия23. Такое не встречается в произведениях искусства, говорит Кант, но только в дикой природе. Его аксиомы мешают ему принять, что возвышенное встречается в бесформенном нечеловеческом, которое есть составляющая «parlêtre» (Лакан) и без которого оно не принадлежит человеческому.
Тем не менее, Кант знал, что удивление здесь граничит со «страхом, ужасом и священным трепетом» (Критика чистого разума, § 29). Но гораздо более проницателен Сад, напомнивший о «естественных преступлениях».
Как мы увидели, настоящий серийный убийца – любитель, а не профессионал, работающий на криминальную организацию. Как правило, он совершает убийства только ради наслаждения. Хотя истинная природа этого наслаждения остается в тени, серийное повторение выдает его присутствие, которое всегда подтверждается признанием.
И в этом необычность случая Ландрю.
Здесь нет признания и нет жертв, я имею в виду, нет трупов. Конечно, серия здесь налицо, выбор объекта тоже: одинокие женщины, которым недостает любви. Профиль напоминает о ASPD, почему нет? Жалкий мошенник-хамелеон, обольститель, хорошо изученный тип после Теда Банди. Преступление было организовано и привязано к месту (деревенский дом в Вернуйе, а затем в Гамбэ).
И вдобавок никаких признаков удовольствия.
Нет никаких заметных отклонений у этого грубого сластолюбца, который рисовал себя тщедушным типом с огромным пенисом.
Ландрю – это парадоксальный убийца.
Эти серийные убийства выглядят как убийства сугубо утилитарные.
У них был рациональный мотив, наиболее рациональный и наиболее понятный, какой только может быть, самая сильная карта: забота о благосостоянии семьи.
Между систематическим обольщением женщин (контакты с 283 женщинами), что напоминает Дон Жуана, и бесследным уничтожением жертв, что больше похоже на Синюю Бороду, уменьшенного предшественника преступников из Ванзее****, не стоит ничего. Ничего другого, кроме его слов, и того, что принимают за чистую монету: семья, ее благополучие, тревога отца семейства, выполняющего свой долг до конца, даже если это направлено против социума.
Надо ли в это верить? Надо ли ему верить?
Ответ в этой книге.
Психиатр, психоаналитик лакановской ориентации, известный клиницист Франческа Бьяджи-Чай не могла встречаться с Ландрю, но она заинтересовалась его следственным делом, хранящимся в префектуре полиции, проконсультировалась в государственных архивах Ивелина и прочла много популярной литературы, посвященной этой личности. Не забывая о том, что расстояние, которое отделяет нас от этого случая, не позволяет, к сожалению, создать обоснованную теорию на его счет, она виртуозно рассказывает его историю, обращая особое внимание на «достоверные факты», которые заставляют читателя увидеть Ландрю в абсолютно новом свете. И тогда станут понятны его мотивы «со своеобразным акцентом» (Поль Гиро), который проливает свет на подлинное содержание и который не был обнаружен ранее.
Жил-был один человек, который привозил своих дам в деревню. Каждый раз он брал на вокзале два билета туда и один обратно…
Жак-Ален Миллер
1 октября 2007 года.
Примечания
1. Wikipedia, Serial killer, Spree killer, Ted Bundy, Internet, 2007.
2. Morrison, H., MD, Goldberg, H., My Life Among the Serial Killers, Inside the Minds of the World’s Most Notorious Murderers, New York, Harper Collins, 2004.
3. MacDonald, J.M., «The threat to kill», American Journal of Psychiatry, 120, 1963, pp. 125–130.
4. Hellman, D., Blackman, N. «Enuresis, firesetting, and cruelty to animals», American Journal of Psychiatry, 122, 1966, pp. 1431–1435.
5. Dorfman, A. «The criminal mind, body chemistry and nutrition may lie at the roots of crime», Science Digest, 92, 1984, pp. 44–49.
6. Yang, Y., Raine, A., Lencz, T., Bihrle, S., LaCasse, L., Colletti, P., «Volume reduction in prefrontal gray matter in unsuc-cessful criminal psychopaths», Biological Psychiatry, 57, 2005, pp. 1103–1108.
7. Holmes, R.M., DeBurger, J., Serial murder, Thousand Oaks, Sage Publications, 1988; Egger, S., The killer among us: An examination of serial murder and its investigation, New Jersey, Prentice Hall, 1998.
8. Holmes, R.M., Holmes, S.T., «Understanding Mass Murder: A Starting Point», Federal Probation, 56, 1992, pp. 53–61.
9. Douglas J. E., Burgess A. W., Burgess A. G., Ressler R. K., Crime classification manual: A standard system for investigating and classifying violent crimes, Simon and Schuster, 1992.
10. Holmes, R.M., Holmes, S.T., Profiling violent crimes (2 ed.), Thousand Oaks, Sage Publications, 1996; Wilson, P.R., Lincoln, R., Kocsis, R., «Validity, Utility and Ethics of Criminal Profiling for Serial Violent and Sexual Offenders», Psychiatry, Psychology and the Law, 4 (1), 1997, pp. 1–2.
11. Petherick, Wayne (s. d.), «Criminal Profiling: How it got started and how it is used», Court TV’s Crime Library, Internet.
12. Canter, D., Criminal shadows: Inside the mind of serial killer, London, Harper Collins, 1995.
13. Turvey, B.E., Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis, London, Academic Press, 1999.
14. Mitchell, Edward W., The aetiology of serial murder: towards an integrated model, Internet, 1996–1997.
15. Taylor LaBrode Rebecca, «Etiology of the Psychopatic Serial Killer: An Analysis of Antisocial Personality Disorder, Psychopathy, and Serial Killer Personality and Crime Scene Characteristics», Brief Treatment and Crisis Intervention, 7 (2), 2007, pp. 151–160.
16. Hare, R.D., The Hare Psychopathy Checklist-revised, Toronto, Multi-Health Systems, 1991.
17. Harris G. T., Rice M. E., Cormier C. A., «Psychopaths: Is a therapeutic community therapeutic?», Therapeutic Communities, 15, 1994, pp. 283–289.
18. Moffitt, T.E., «The new look of behavioral genetics on developmental psychology: Gene-environment interplay in antisocial behaviors», Psychological Bulletin, 131, 2005, pp. 533–535.
19. Alison L., Bennell C., Mokros A., Ormerod D., «The personality paradox in offender profiling: A theoretical review of the process involved in deriving background characteristics from crime scene actions», Psychology, Public Policy and Law, 8, 2002, pp. 115–135.
20. Duclos, Denis, «Les „crimes de haine“, symptômes d’une société américaine fragmentée», Le Monde diplomatique, janvier 1998, pp. 16–17; du même auteur, Le Complexe du loup-garou. La fascination de la violence dans la culture américaine, Paris, La Découverte, 1994.
21. Ressler, R.K., Shachtman, T., Whoever Fights Monsters, London, Pocket Books, 1992.
22. Wikipédia, Landru, Internet, 2007.
23. Нам импонирует в литературе юмористическое обращение с этой беспомощностью, так, как это делает Квинси, а не так, как Джонатан Литтелл, который принимает невозможное чеканкой кратких форм. Помещаю между ними двумя Трумена Капоте и его знаменитое Хладнокровное убийство.
N.B.: В то ограниченное время, которым мы располагали для написания этого предисловия, мы не смогли собственноручно познакомиться со всеми упомянутыми источниками; тем не менее, мы решили включить их в список в интересах последующих исследований.
* BSU – Behavioral Sciences Unit; ASPD – Antisocial Personality Disorder; IRM – imagérie par resonance magnétique (МРТ – магнитно-резонансная томография).
** Лоран Рюкье – французский теле- и радиоведущий, юморист, продюсер. Купил плиту, стоявшую на кухне виллы Гамбэ. Вдохновленный делом Ландрю, в 2005 году написал о нем пьесу.
*** Чезаре Беккариа Бонесано (итал. Beccaria Bonesana Cesare, 15 марта 1738 года, Милан – 28 ноября 1794 года, там же) – итальянский мыслитель, публицист, правовед и общественный деятель, деятель Просвещения.
Иеремия Бентам (англ. Jeremy Bentham; 15 февраля 1748 года, Лондон – 6 июня 1832 года, там же) – английский философ-моралист и правовед, социолог, юрист, один из крупнейших теоретиков политического либерализма, родоначальник одного из направлений в английской философии – утилитаризма.
Роберт Бадинтер (30 марта 1928 года) – французский адвокат, председатель Конституционного суда в 1985–1986 годах.
Жозеф-Мари, граф де Местр (1 апреля 1753 года – 26 февраля 1821 года) – франкоязычный (подданный Сардинии) католический философ, литератор, политик и дипломат, основоположник политического консерватизма.
**** Ванзейская конференция – совещание представителей правительства и руководителей нацистской партии Германии, состоявшееся 20 января 1942 года на озере Ванзее на вилле «Марлир» в Берлине. На Ванзейской конференции были определены пути и средства «окончательного решения еврейского вопроса» – программы геноцида еврейского населения Европы (в настоящее время используется термин «Холокост»).
Введение
Загадка серийных убийц
Раскрытое в 1919 году сразу же после войны дело Ландрю стало одним из наиболее громких криминальных дел ХХ века. Впервые в истории общественное мнение столкнулось со способом убийства, неизвестным ранее. Женатый человек, отец четверых детей, влюбленный в певицу, поклонником которой он был, человек внешне, безусловно, нормальный со всех точек зрения, оказался убийцей, которого все знают и сегодня, и который на протяжении четырех лет убил десять женщин и одного юношу. Разумеется, до него был Жозеф Ваше, преступник конца XIX века, по кличке Юго-Восточный Потрошитель, который совершил многочисленные преступления в состоянии болезненного бродяжничества. Но его сначала признали больным, затем выздоровевшим, сначала недееспособным, потом дееспособным, и, так или иначе, его процесс дал повод экспертам поспорить относительно проблемы сумасшествия. В случае Ландрю было не так. Ему, с его невероятным двуличием и мнимой нормальностью, предстояло внести в историю французской юридической практики новую загадку серийных убийц.
До сих пор многочисленные работы, посвященные Ландрю, позволяют увидеть в этом убийце женщин только лишь профиль алчного преступника, действующего по собственной воле. Вопрос о его вменяемости никогда не становился предметом исследования. Тем не менее, именно этот вопрос был у всех на устах и во всех газетах с момента его ареста и до дня казни. Все серьезные авторы согласны с тем, что при чтении следственного дела обнаруживаются некоторые факты, которые, кажется, остались вовсе не объясненными, поскольку не подчиняются никакой логике. Почему Ландрю, изобретатель и механик до того, как стать мошенником, а потом и убийцей, не сумел продать свои изобретения, которые, как мы увидим, имели право на существование? Почему Ландрю, который, как считалось, убивал из-за денег, не выбрал себе жертв побогаче, что обеспечило бы ему то благосостояние, которого в реальности он так и не достиг? Почему он не убил свою любовницу? Вот вопросы, на которые может дать ответ предлагаемый нами психоаналитический подход, который придаст описанию личности знаменитого преступника логическую обоснованность. Ту логическую обоснованность, которую отказывались видеть и которая есть не что иное, как его безумие.
При изучении случая Ландрю встает вопрос о соотношении безумия и мнимой нормальности, и спрашивается, достаточно ли понятия приступа или вспышки, чтобы отразить то, что мы знаем сегодня о безумии. Мы утверждаем, что безумие может дойти до имитации максимального соответствия требованиям, до надевания маски обыденности и повседневности. Оно может принимать эти формы, и не в романе, а в реальности, о чем нам повествует известный миф о докторе Джекиле и мистере Хайде. Оно отказывается от форм, о которых много говорят, но которые так трудно воспринять и считать, что они существуют на самом деле. В этой радикальной двойственности есть что-то, строго говоря, во что невозможно поверить. И все же с этим невероятным – тем, что называют «реальным», которое является стеной, разрывом, бессмыслицей, дырой в общечеловеческом смысле – мы постоянно сталкиваемся в нашей практике психоаналитиков и психиатров. Реальное – это то, что разрывает нить истории субъектов и последовательность их рассуждений. И поэтому наша практика – это не просто доброжелательная, понимающая и даже сочувственная беседа; в плане последствий она касается понимания того, может ли субъект занимать достойное место в обществе среди других или же он сорвется вновь и перейдет к акту (passage à l’acte). И мы желаем читателю, чтобы эта работа позволила ему понять, иначе говоря, ощутить, что есть реальное для Ландрю в его устройстве реальности.
Реальное не есть реальность, это ее модификация, ее субъективное воспроизведение. Оно есть интерпретация смысла жизни, всего того, что каждый субъект узнал через свои первые ощущения, через первые слова и первые взгляды, которые сопровождали его приход в мир, туда, где он постиг сокровенный смысл жизни, превратившийся для него в радость или боль, туда, где через связь с родителями ему было передано то, что приводит к любви и желанию, к партнеру, и однажды, когда придет срок, к материнству или отцовству. Связь с Другим, связь, которая приобщает к культуре, устанавливается в этом сплетении первых идентификаций, однако надо знать, что иногда этого связывания не происходит. Как раз это и случается при психозе.
В психозе субъект находится в социальной связи, но особым образом – странным, хрупким, трудным для понимания, необычным в некотором роде. Но каково бы ни было место, которое занимает психотический субъект в этой связи – будь оно более прочное, более изолированное, более свободное, более опасное, – этот субъект не может быть освобожден от связи с Другим, даже когда он освободится от нее в результате перехода к акту. Переход к акту нельзя понять и интерпретировать вне зависимости от субъекта, привязанного к своему семейному, культурному и социальному контексту. Никакой субъект не может быть исключен из человеческого сообщества. Наше исследование покажет, как Ландрю опирался именно на свое время, и как преступления, которые он совершил, несут на себе отпечаток той сумасшедшей эпохи. Кроме того, случай Ландрю открывает путь к пониманию двух других известных нам случаев. Мы пересмотрим дело Пьера Ривьера, хорошо известное убийство членов семьи XIX века, а затем дело Донато Биланчиа, современного итальянского серийного убийцы, которого считают «случайным убийцей» и который сейчас находится в тюрьме.
Такой подход к реальному в его отношениях с субъектом изменяет понятие ответственности, но не аннулирует ее. Если характеристику реального наложить на субъекта как ограничение, его ответ на это ограничение останется в некотором роде присущим только ему, то есть индивидуальным, личностным, неструктурированным. И в этом ответе обнажается отношение субъекта к реальности его жизни и к реальному его преступлений. Степень ответственности соразмерна этому соотношению. Это то, к чему мы приходим в заключении, посвященном «колебаниям» ответственности в понятиях уголовного права, так как этот момент, как нам кажется, ведет к началу диалога между психиатрией, ориентированной на психоанализ, и правосудием.
Преступление и отсутствие мотивации
Преступление всегда рассматривается людьми как загадка. Как человек может избавиться от связи с Другим, вплоть до желания его исчезновения, то есть окончательно и бесповоротно? Даже сегодня этот вопрос остается открытым, и пересматривать его – значит исключить преступление и преступника из человеческого сообщества. Предполагая, что чаще всего в основе преступности лежит абсолютное Зло, неопределенное, поскольку неопределяемое, и поэтому о нем ничего не известно, уделяем ли мы достаточно внимания самим жертвам? Об этом говорят семьи, когда они хотят восстановить ход этих трагедий и понять сокровенные причины таких страшных деяний. Не для того ли они интересуются этими фактами, чтобы найти нечто другое, кроме быстрого и простого генетического объяснения? Не потому ли общество, используя средства массовой информации, живо интересуется убийствами, мотивацию которых оно не понимает? Когда человек убивает из ревности, страсти, мести, подлости или интереса, есть смутная иллюзия понимания, благодаря тому что его мотивы прочитываются на уровне сознания. Когда человек убивает без явной мотивации, но в состоянии кризиса, ярости, бешенства, это придает смысл его действию и приписывается приступу безумия. Хотя никогда не известно, чем маскируется безумие, узнаваемо лишь безумное поведение.
Но остаются убийства, которые совершаются без видимой мотивации, которые нельзя соотнести ни с припадком, ни с приступом бреда. Тогда мы сталкиваемся с чем-то странным, с загадкой бессмыслицы. Если смысл, принося удовлетворение, проявляется с очевидностью и все оказывается взаимосвязанным, то бессмыслица вызывает и поддерживает ощущение неустойчивости и неудовлетворенности. Бессмыслица – это не противоположность смыслу, она обязательно вызывает стремление к прояснению, желание понять, предвкушение разгадки. И это предвкушение обычно длится, пока детали объяснения не сложатся в неопровержимую логическую последовательность. Иначе говоря, пока предложенные прояснения не сложатся в путь, который приведет к безоговорочному утверждению, к «впечатлению правды».
И потому люди обращаются к специалистам, чтобы те разъяснили то, что непостижимо. Их спрашивают, понимал ли преступник, что он делал, в момент совершения преступления, и в какой степени он способен на повторение этого поступка. В особенности когда речь идет о предположительно беспричинных убийствах. Ведь кажущееся отсутствие причины открывает крайне неприятную перспективу: каковы бы ни были связи и обстоятельства, преступления могут повториться в любой момент, как действия из чистой прихоти. Убийство, называемое «немотивированным»1, заставляет испытывать наиболее сильный страх, потому что несет в себе сильный потенциал повторения. Считалось, что этими необъяснимыми убийствами достигнут предел загадочности преступлений. Но серийные убийцы породили еще большую загадку, ведь в повторяющихся убийствах воспроизводится отсутствие мотивации и смысла.
Здесь мы сталкиваемся с преступниками, у которых первое преступление, первый переход к акту не вызвали никакого шока, никакого ретроактивного эффекта. Они забыли? Стерли из памяти этот акт? Но как? Кажется, что для этих индивидуумов преступление становится ординарным событием странной психопатологии обычной жизни. Обыкновенный человек, хороший приятель, отец семейства, не выделяясь ничем из своего социального, семейного и культурного окружения, может быть в то же время тем убийцей, который равнодушно повторяет свои убийства2. Загадка серийных убийц, считающихся настоящим бедствием в Соединенных Штатах, занимает большое место в средствах массовой информации, а многие фильмы и романы пытаются дать психологическое объяснение этому недоступному пониманию феномену, который распространяется все шире. В Европе единичные случаи не менее «серийны», и за последние несколько лет их список существенно удлинился. Серийные убийцы занимают первые полосы газет, дают материал для телепередач и многочисленных работ с описанием психики индивидуума, который стремится пробить брешь в социальной структуре и добиться объединения тех стран, которые считают себя богатыми и развитыми. Но остается без внимания то, о чем мало известно, а именно реальное в смысле его отличия от реальности, хотя именно оно является активизирующим ядром при переходах к акту.
У серийных убийц не бывает безрассудных поступков, припадков, приступов безумия. К их действиям надо подходить по-другому: или преступник перверт, совершающий преступления осознанно и по своей воле, и надо идентифицировать это наслаждение, рассмотреть эту перверсию за рамками простого предположения; или преступник сумасшедший, и в этом случае признаки безумия – его грани, нюансы, сложность – находятся далеко за пределами очевидного.
Переосмысление случая Ландрю
Случай Анри-Дезире Ландрю оставался загадкой до сегодняшнего дня. Наша цель состояла в том, чтобы недвусмысленно отделить сумасшествие от перверсии, и описать это сумасшествие ясно и понятно без всяких околичностей и неточностей. Мы предполагаем провести исследование на основе психоаналитических концептов, которые были разработаны Зигмундом Фрейдом, продолжены Жаком Лаканом и на сегодняшний день Жаком-Аленом Миллером в «Лакановской ориентации»3. О Ландрю много говорили и писали, и с тех пор все думают, что знают Синюю Бороду нашего времени, который сжигал женщин в кухонной плите. Тем не менее тайна, окутывающая громкий случай, продолжает сгущать тень над серийными убийцами и безоговорочно оправдывает все возможные измышления. Она обращает нас к гораздо большей тайне, той, которая относится к судьбе, к суду Божьей воли или, как говорится, к абсолютной случайности, и к тому, что приписывают сегодня, надо сказать, достаточно легко, немедленному удовлетворению желания, нетерпимости к фрустрации или импульсам «охоты». Эти псевдопричины суть не что иное, как современные образы античного fatum. В то же время этот пробел в знаниях появляется из легенд в завораживающем согласии, которое похоже на обскурантизм.
Прежде чем развеять мрак вокруг случая Ландрю, мы вновь открыли многотомное досье этого дела, чтобы изучить каждую его часть, каждую деталь. Для этого мы наводили справки во множестве архивов, внимательно изучали многочисленные статьи в газетах и журналах, которые, как было принято в то время, освещали процесс во всех подробностях. В этой работе мы использовали все, что относилось к делу и что можно было бы вписать в историю субъекта, которая бы нас удовлетворила. Как того требует практика монографии, мы приняли во внимание все эти детали, даже самые странные и абсурдные. Это позволило нам найти и восстановить, используя каждую деталь и каждое предположение, лейтмотив жизни Ландрю и его личность.
Биография в свете психоанализа
Результат наших исследований позволил нам предложить концепт «биографии в свете психоанализа». Такая биография – это не чисто хронологический рассказ, и тем более не готовое объяснение. Построение данной монографии подобно структуре реального, принадлежащего бессознательному, которая в нем, в реальном, раскрывается, это биография, где реальное связывается с историей. Она позволяет увидеть, чем может быть субъект в своем развитии, начиная с внешнего вида и далее, то есть что скрывается за гордой осанкой и даже за его красноречием. «Биография в свете психоанализа» характеризуется соединением универсального и уникального, она позволяет обнаружить константу в сплетении, которое образуют слова и поступки субъекта. Эта константа проявляется уже с самого начала в том способе, которым субъект входит в реальность. Она становится отпечатком означающего, когда слово Другого, которое преломляется между содержанием и формой высказывания, обретает тело. Проще говоря, сказанные слова возбуждают субъекта, потому что ими движет любовь и желание Другого, направленные на него, Другого, который обращается к нему. Субъект вместе со своими первыми переживаниями познает Другого, одновременно познавая себя. Это отношение к Другому, как и сам субъект, создано в поле языка и речи, в поле, которое Лакан описывал как Другого (Autre, с большой буквы А). Это то, что делает отношения не просто соперничеством, но соперничеством, опосредованным законом.
Нельзя не сказать о том, что такое закон. Это не то, что записано в гражданском или уголовном кодексе, но это символический пакт, который объединяет людей и который запрещает инцест и отцеубийство. Функция отца, как исключение, придает смысл этой способности, которая укореняется в человеке и позволяет ему при помощи ролевой игры мысленно представить себя на месте Другого; это то, что называют Воображением. Поле Другого означает, что посредством речи дискурс накладывается на реальность, и что создается внутренняя реальность, реальное, и что при этом возникает ощущение наслаждения. Вслед за Фрейдом Лакан может сказать, что одна часть наслаждения определенно потеряна для человека, так как он способен говорить. И поэтому Лакан впоследствии зачеркнет А, Другой тоже перечеркнут. В самом деле, наслаждение возникает в том же душевном порыве, что и ограничение наслаждения. Иначе говоря, полного наслаждения не существует. Это объясняет двойной лакановский афоризм, который может быть понят как противоречивый: любая речь имеет своим следствием наслаждение, и наслаждение как таковое запрещено говорящему. Это другой способ сказать, что у людей нет инстинктов, а лишь импульсы, проходящие непосредственно через «щель означающего», в то время как механизм инстинкта лежит вне означающего и оказывается вне отношений с человеческим. Причина этого в том, что общественное мнение относится к этому предчувствию импульса как к чему-то «биологическому» – однако во взаимосвязи с трансцедентной функцией речи, – что человеческий долг заключается в том, чтобы обязать преступника раскрыть тайную мотивацию своих преступлений, их причину. И здесь мы касаемся границы, где иногда встречаемся с молчанием и невозмутимостью обвиняемого. Каким образом в таком случае совместить и тем самым понять отсутствие слов и необходимость их присутствия?
Стена непонимания
Почти век отделяет преступника Патриса Алегра от Анри-Дезире Ландрю. Патрис Алегр был осужден и приговорен к пожизненному заключению за убийство пяти женщин и шесть изнасилований. Известно ли об этом больше, чем во времена Ландрю? Изменилось ли что-то? Сделала ли психиатрия с тех пор какие-то открытия, касающиеся преступности и безумия? Кажется, ничего не изменилось. В момент процесса Алегра газеты пестрели заголовками: «Патрис Алегр, тайны остаются»4. Раньше писали: «В Версальской тюрьме Ландрю остается загадочным и таинственным»5.
И далее: «Тем не менее, девять дней процесса не позволяют ни понять личность и мотивацию этого необычного преступника (Патриса Алегра), ни узнать, замешан ли он в других убийствах»6. «Я считаю, что мы никогда ничего не поймем про Ландрю, даже если он не убивал»7.
«Почему Патрис Алегр совершил пять убийств с актами варварства? Как он стал серийным убийцей?»8 «Почему обвиняемый Ландрю, интеллигентный, имеющий хорошую научную подготовку, стал самым ужасным преступником?»9
Тишина и молчание следуют за этими вопросами. Патрис Алегр, замурованный в невыносимой тишине, повторяет: «Я не знаю». Лейтмотивом Ландрю было: «Стена закрыта, месье президент, я больше не скажу ничего».
Стена, на самом деле, создает препятствие для слов, которые идут от преступника к другим, судьям, адвокатам, семьям жертв. Стена останавливает и поглощает и те слова, которые адресованы ему. Эта стена поглощает все слова, даже те, которые чреваты для преступника серьезными последствиями. Не значит ли это, что стена аннулирует все значения и изолирует его от любой связи? «Приговоренный к максимальному наказанию, Патрис Алегр слушал за решеткой объявление приговора, не шелохнувшись»10. При объявлении вердикта «Ландрю, загадочный тип, не шелохнулся, ни один мускул на его лице не дрогнул»11.
По прошествии времени кажется, что в обоих случаях стена молчания имеет одну и ту же структуру и воплощает неуловимую модальность невозможного в человеке, того, что не поддается пониманию. Эта непроницаемая стена или ее обратная сторона, пропасть без дна, рождает общее непреодолимое влечение к преступникам. Влечение, которое мешает любому проникновению в поле понимания. Бьемся об заклад, что это влечение могло бы быть преодолено, и что кто-то – общественность, журналисты, адвокаты, следователи, комиссары полиции, психологи и психиатры – отбросив его, присоединился бы к нашему желанию прояснить все по-настоящему.
Это желание проявляется в удивлении, которое можно найти, например, в записях комиссара Белена, человека, который арестовал Ландрю. Удивительно, что он хранил их всю жизнь, описал в своих мемуарах, и что это дошло сегодня до нас. Он пишет:
«Я не могу разгадать значение его взгляда. Иногда мне кажется, что я читаю в нем спокойствие, а иногда мне также кажется, что никто больше не сможет контролировать этого человека-загадку»12.
Далее он пишет:
«Я не психиатр (…) Я всегда считал, и те из моих коллег, которые занимались Ландрю, думали так же, как и я, что этот преступник проявляет все признаки раздвоения личности, достаточно необычные и очень интересные для психолога. Но, что самое интересное, когда он совершал воровство или убийство, он записывал их наравне со всем остальным»13.
Ландрю, как и многие, записывал свои доходы и расходы, но комиссар Белен был очень удивлен, увидев, что в каком-то тяжелом раздвоении личности он записывал то, что в здравом уме хотят держать в секрете и даже уничтожают. Комиссар Белен не ошибается. В этой детали содержатся неоценимые данные для клинической картины. В свою очередь, Пьер Альфор, адвокат Патриса Алегра, пишет, какой поразительной была встреча с преступником:
«Я был готов ко всему, но не к этому: существо, сразу сражающее своей улыбкой (…) Я уже встречал преступников. Но в этот раз меня ошеломил поразительный контраст между индивидуумом и поступками, в которых его обвиняли»14.
Пьер Альфор в этом не ошибается, этот парадокс тоже является существенным вкладом в клиническую картину. Способность удивляться – это необходимый шаг для психоанализа в направлении поиска истины. В самом деле, что такое удивление? Это то, что вас беспокоит, возбуждает и оставляет на теле и в сознании след укола, подобно какой-то вещи, которая, как симптом, вас заставляет внезапно остановиться. Способность удивляться, которая присуща большинству людей, неизменна, она проходит через века, она требует и ждет подходящего ответа. Ответа, который позволит прийти к согласию вне зависимости от различий в интерпретации и в дискурсе.
Психиатрическая экспертиза сегодня
Вопросы, которые поднял комиссар Белен, не нашли отклика у экспертов-психиатров, в то время обследовавших Ландрю. В 1919 году психиатрия исследовала вопрос сумасшествия и преступности косвенно; не обращаясь к личности преступника, психиатры перечисляли то, чем преступник не является: «У Ландрю нет никаких следов психоза, патологической вспыльчивости или навязчивых идей. Нет ослабления интеллектуальной деятельности, нет состояния спутанности сознания». Они исследовали то, что они называли «умственными способностями» Ландрю «за пределами любых вопросов преступности». С этой точки зрения его способности могли быть «признаны нормальными по всем пунктам». Заключение гласит: «Ландрю не страдает никаким психическим заболеванием»15.
Сегодня больше никто не смог бы написать, что преступника изучали вне какой-либо «связи с преступлением». Но что предлагает психиатрия в ответ на вопросы, которые ставит правосудие? Действительно ли она хочет знать, кто16 есть субъект, совершивший преступление, или, как и прежде, встречаясь с необходимостью ответить на социальный или юридический вопрос ответственности, она дает ответ в обтекаемой бессодержательной формулировке? Известные психиатры в области криминологической экспертизы предлагают «общую модель, равноудаленную от трех полюсов: психопатическое расстройство, нарциссическая перверсия и страх уничтожения»17. Новая нозологическая форма, названная «состоянием патологической жестокости», допускает такие колебания, которые позволяют поместить «серийных убийц» «между психозом и нарциссическим расстройством»18. У этих убийц, как они утверждают, преобладает нарциссическое расстройство. Ничтожность жертвы и безразличие к ней означают для этих клиницистов «нарциссическое всемогущество».
Ведь когда врачи спрашивали Патриса Алегра о его преступлениях, что он им отвечал? «Это пустяки». Он предложил им сценарий a minima, который он повторит и на скамье подсудимых: «Я хотел их поцеловать, а они не хотели, это меня нервировало, я их душил и насиловал»19.
Некоторые психиатры отмечают у этих преступников молчание и отрывистую речь20 – стену – но это, напротив, не мешает приписывать им «всепоглощающее переживание, которое сопровождает переход к акту». В понятие «всепоглощающее» психиатры вкладывают «всемогущество, триумф, внезапный беспорядок, нарциссическую оргию», в то время как субъект ничего такого не проявляет, нет никаких видимых следов этого21. Они доходят до того, что приписывают этим преступникам всемогущество демиурга. И пренебрегая тем фактом, что Гитлер, величайший преступник в истории человечества, строил такие ужасные планы, они делают акцент на торжествующем характере «сцены из фильма Диктатор, в которой Чарли Чаплин в одиночестве жонглирует глобусом в грандиозный момент ликования и опьянения властью»22.
Тем не менее, эти психиатры-практики сами свидетельствуют, что когда после долгих часов допросов Патрис Алегр потерял, наконец, способность вести беседу, то они встретились с пустотой. «Это в основном замешательство, которое проявляется в его ответах, паузах и мимике»23, отмечают они. На чем они могут основываться, говоря о демиурге? Эта гипотеза не подтверждается и несколькими строками книги Пьера Альфора из той главы, где он рассказывает о заключениях экспертов. Напротив, в случае Патриса Алегра недостаточность, кажется, превалирует над избыточностью. Каким методологическим арсеналом пользуются эти психиатры? Ведь нельзя приписывать субъекту то, что он не сможет принять в своей субъектности. Коль скоро она оказывается несостоятельной, можно точно определить ее координаты и обозначить место, которое она не занимает, но нельзя заменить ее другой субъектностью.
Недавно введенная категория «нарциссического расстройства» могла бы показаться специально созданной для серийных убийц. Она не имеет никакой другой внешней исходной точки для понимания субъекта. Чтобы описать притворное всемогущество, она с легкостью выходит за свои границы. Но под предлогом того, чтобы сделать нарциссическое расстройство понятным, она лишь создает китайский портрет, который устраняет все противоречия и обосновывает любые описания и процессы как допустимые.
Понимание и причинность
Всемогущество – это не новый концепт. Психотический субъект, в своей мегаломании, в своей самоуверенности или в своей бредовой идее на самом деле никому ничего не должен и ни от кого ничего не ждет. Это то, что составляет его свободу. Но эта свобода может принимать тысячу и одну форму – столько форм, сколько существует людей. Она может едва ощущаться в легкой странности, цениться как симпатичная экстравагантность, скрываться за крайним конформизмом. Когда эти формы дестабилизированы, слабые связи, объединяющие субъекта с Другими, обрываются, и свобода проявляет себя. Эта свобода не в обыденном, но в буквальном смысле слова видится как освобождение. Возможно, это то, что некоторые называют «всемогуществом»? Следовало бы придать этому понятию вариативность, так как «всемогущество» принимает множественные формы у каждого конкретного субъекта. Оно простирается от трудно контролируемого возбуждения к полной прострации, которая для него не менее характерна. Этот концепт сам по себе недостаточен, чтобы обосновать переход к акту, каков бы он ни был, и не может быть выдвинут как модель сумасшествия, поскольку стоящий перед нами вопрос состоит в другом.
На самом деле речь идет о том, чтобы знать, как эта свобода проявляется в субъекте24. Между тем это тот вопрос, ответа на который избегают как при помощи изобретения новых особых категорий, так и благодаря появлению на медиасцене новых профессионалов от криминологии. Преподаватели факультетов права, медики, специализирующиеся на истории психики и поведения, посвященные в проблемы социологии, соседствуют с профайлером – представителем новой профессии, которая приобретается, очевидно, в новейших институтах профайлинга (profilage)! Все изучают преступный феномен как таковой и разрабатывают профиль серийного убийцы, который они определяют как «такой, каков он есть». Они говорят: «Перверсивный тип совершает свои действия, полностью осознавая их последствия. Речь идет не о монстре (психотике), – утверждают они мимоходом, – но о субъекте ответственном, который совершает ужасные поступки вследствие моральной перверсии (психопат)»25, то есть они объясняют феномен через него самого. Таким образом, они предъявляют нам отдельные случаи, которые они выводят из психоза, идентифицируя психотического субъекта с монстром. Они нисколько не сомневаются, что серийный убийца – это перверсивный тип, который отлично управляет своими действиями. Эти теоретики всемогущества видят лишь одну-единственную причинную связь, связь невротическую, которая всему придает смысл. И поэтому в случаях немотивированных убийств они сами создают отсутствующий смысл – всемогущество.
В 1950-х годах другие исследователи поступали подобным же образом. В частности, психиатр и криминолог Анджело Хеснард подчеркивал, что в «болезненном пространстве проступка» «перверсивный» акт должен означать для преступника облегчение. Так он объяснял отсутствие угрызений совести и «что-то вроде смутного триумфа», который, как он считал, сопровождает любое освобождение, каким бы парадоксальным оно ни было. Его концепция придала всему криминальному акту смысл самонаказания. Согласно его теории, человек обязательно находится между двух страстей – любви и ненависти – и ощущает тяжесть вины, которая порождается последней. Ничто другое не мыслимо. В частности, Хеснард не мог представить себе клиническую картину «вне-смысла» (hors-sens), действительно очень сложную для концептуализации, поскольку она полностью неразделимая, то есть неидентифицируемая.
Другие дисциплины старались установить связь, которая могла бы существовать между личностью и преступлением, но так как они базировались на общей теории внешней обусловленности субъекта, они не могли принимать в расчет индивидуальную обусловленность и тем самым восстановить нить, которая привела к преступлению.
Психология в своем общем исследовании типов психики и поведения не использует каузальный уровень, который она охотно оставляет в поле якобы инстинктивном и тем самым недоступном объяснению через конкретные детали. Но при помощи психологии можно понять рождение криминологии в качестве узаконенной дисциплины, поскольку она пытается приблизиться к феномену преступника при помощи методов наблюдения, тестов, статистики, биологических и социологических исследований – иначе говоря, всего, кроме конституирующей функции речи. Одно лишь накопление статистических данных, расщепляющих субъекта на якобы объективные составляющие, не может выделить, в отличие от данного исследования, то, что в нем повторяется и проявляется как постоянная характеристика его личности.
