Красная земля. Египетские пустыни в эпоху Древнего царства
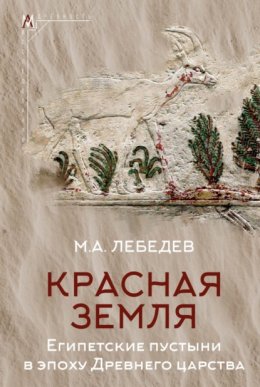
© Лебедев М.А., 2025
© ФГБУН ИВ РАН, 2025
© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет, оформление, 2025
© Издательство «Альма Матер», 2025
Алле и маленькой Кире с любовью и благодарностью
Предисловие
Я очень хорошо помню, как в свою первую поездку в Египет четверть века назад лежал на палубе прогулочного судна и разглядывал огромные звезды над головой. Внизу тихо плескались нильские волны, от реки пахло тиной и одновременно свежестью. Это была Долина. И ее суть для меня с тех пор вполне определилась: жизнью в Долине управляет Река. А пустыня – это совсем другое. Самые яркие впечатления от пустыни – это всегда контраст. Раскаленное солнце и холодные ночи, сухость, которая буквально выпивает волю, и блестящие после дождя, напоминающие бока гиппопотама скалы. И еще более яркие, чем в Долине, звезды. Гораздо ярче.
За 17 лет работы в Египте и Судане я много жил и в Долине, и на границе с пустыней, ездил по барханам, бродил по каменистым вади[1], скрывался от палящего солнца в тени скальных навесов, ночевал под Млечным Путем, слушал шакалов и ночных сов. «Красная земля» – так говорили о пустыне древние египтяне. Да, это так. «Земля бога» – добавляли они. И это правда: в пустыне, как в горах, другое время, другие ценности и другие люди. По мере накопления опыта жизни и раскопок в Африке меня все больше удивляло, почему тема пустынь так редко проникает в область интересов египтологов? Ведь в Египте она повсюду: в воздухе, на горизонте, в камнях зданий.
Примерный план этой книги сложился три года назад, когда я шел пешком из Дахшура в Саккару: правая нога шагала по траве, левая – по песку. Трава, песок. В одном месте с бархана на картонках катались дети, съезжавшие на них прямо к первым финиковым пальмам, шумевшим под напором весеннего ветра. Этот шелест и крики ребятни создавали разительный контраст с тишиной у пирамиды Пепи II, где я только что бродил. И зелено-бежевая граница, убегавшая вдаль прямо к пирамиде Джосера, казалась такой четкой и при этом такой эфемерной, такой важной и при этом такой незначительной, что вопросов больше не оставалось: о том, как пустыня выглядит из Долины, а Долина из пустыни, надо написать книгу.
Ее бы не случилось, если бы мне не повезло оказаться на археологических раскопках в Египте и Судане. Я благодарен Элеоноре Ефимовне Кормышевой, Павлу Вольфу, Тиму Кендаллу, Эль-Хассану Мохамеду, Массимилиано Нуццоло, Камилу Курашкевичу и Александре Ридель, в чьих экспедициях я участвовал. Отдельно выражаю большую благодарность Павлу Вольфу, Мохамеду Осману и Сами эль-Амину за беседы об археологии и пустынях, а Мартину Одлеру – за доброе общение на некоторые темы, затронутые в данной работе. Я признателен Дмитрию Борисовичу Прусакову и Сергею Вячеславовичу Ветохову за ценные отзывы и комментарии к этой работе, Эдуарду Вагифовичу Мычко за консультацию по геологии, а Алексею Юрьевичу Сергееву за помощь с текстом по древней флоре. Все возможные ошибки, конечно, остаются при этом на моей совести.
Хочу поблагодарить также всех, кто в разные годы помогал нашим проектам в Египте и Судане и продолжает поддерживать работы в Гебель Баркале и Гебель эль-Нуре своим трудом, талантами, средствами или вниманием. Друзья, эта книга посвящается и вам тоже.
Введение
Никто в Египте не может избежать присутствия пустынь.
Pick 1991
- Слепцы, числом их было пять,
- В Бомбей явились изучать
- Индийского слона.
«Ученый спор», С. Я. Маршак
В 2021 году мне неоднократно приходилось подниматься по утрам на пирамиду Униса в Саккаре. С ее вершины, где находился нужный для измерений геодезический знак, открывался замечательный вид: на север и на юг до горизонта возвышались пирамиды Гизы, Абусира, Саккары и Дахшура, на западе были бескрайние пески и галечники Сахары, на востоке – некрополь представителей египетской знати, зеленая полоса Нильской долины, а затем – величественное известняковое плато Восточной пустыни. Это и был весь Египет – страна, которую можно охватить одним взглядом. Как справедливо заметил в одной из статей Дэвид Джефрис, «очень немногие представители древних цивилизаций были столь же осведомлены об окружающем их ландшафте, как жители долины Нила»[2]. Кажется, что география Египта (илл. 1) не могла не породить крайне своеобразного мировосприятия, пронизанного тесной связью с родными речными берегами и постоянным ощущением близости пустынь. Переход от обрабатываемых полей к Сахаре в Египте может быть очень резким. Увидев его своими глазами, сложно отделаться от мысли, что эта очевидная граница и была рубежом цивилизации[3].
Однако это было не так. Или не совсем так. Во-первых, сразу на запад и восток, в те самые пески, простирается обширный монументальный ландшафт, созданный египтянами – некрополи. Во-вторых, еще дальше в пустыне находились многочисленные египетские памятники и целые поселения, как в оазисе Дахла. Там, в ныне пустынных областях, располагалась кладовая жителей Нильской долины – рудники и каменоломни, без которых древнеегипетская культура никогда не стала бы тем, чем является сегодня.
Со времен Геродота Египет принято называть «даром Нила». Так оно в значительной степени и было, и есть. Таково естественное первое впечатление. Но это не вся правда. Египет – это дар реки, протекающей через пустыню, долгое время бывшую саванной. Одно из самых ярких впечатлений, которые может получить египтолог, оказавшийся на памятниках где-нибудь южнее Гебель Баркала, – это отсутствие столь привычной резкой границы между зеленью и песками. В зоне Сахеля ее нет. И очень вероятно, что ее не было в начале египетской истории.
Что такое пустыня? Определений в современном русском языке очень много. Их можно встретить во всевозможных общих и специализированных – геологических, биологических, экологических, научно-технических – энциклопедиях, словарях и справочниках. Объединяют эти определения обычно следующие утверждения: 1) пустыня – это район с сухим климатом; 2) там либо скудная растительность, либо ее нет вовсе; 3) там нет или почти нет людей. Пустыни – районы с аридным и гипераридным климатом[4] – покрывают сегодня примерно 20 % земной суши и, очевидно, сыграли большую роль в истории человечества. Полупустыни занимают еще порядка 17,5 %[5]. Пустынные территории имели и имеют не только географическое, климатическое или экологическое измерения, но и являются самостоятельными и крайне интересными историко-культурными регионами.
В этой книге речь пойдет о ныне пустынных и полупустынных областях за пределами Нильской долины и дельты (современные Восточная и Западная пустыни, а также Синай и зона Сахеля). Я буду называть их Пустыней (с заглавной буквы) в тех случаях, когда важно связать данные территории с древнеегипетским термином хасет (прочая земля, пустынная земля, чужеземное нагорье), т. е. когда дело будет касаться мировосприятия древних египтян и политики древнеегипетского государства.
Контакты Древнего Египта с окружающими территориями – тема для историографии традиционная, хотя и не очень популярная. Долгое время она рассматривалась преимущественно через призму государственных войн и экспедиций, а с начала 1990-х гг. внимание ученых в значительной степени переключилось на социальные и культурные последствия этих взаимодействий, проблемы этничности и самоопределения[6]. Заметное влияние на постановку современных исследовательских вопросов оказали процессы деколонизации, глобализации и последовавший затем кризис идентичности во многих современных развитых обществах.
Долгое время области за пределами Нильской долины и дельты (илл. 1) оставались на периферии крупных исследований. Даже сегодня в египтологических словарях и энциклопедиях, задача которых состоит, в частности, в разъяснении профессиональной терминологии и проблематики нашей науки, отдельные главы о пустынях не всегда встречаются[7], а там, где они есть, речь, как правило, идет преимущественно лишь о климате и географии пустынь[8] или восприятии этих пространств древним населением Нильской долины[9].
Так как пустыни явственно занимают бóльшую часть современного Египта, а в древности, как и сегодня, там располагались основные источники полезных ископаемых[10] и важные торговые пути[11], краткие описания пустынных областей и оазисов можно встретить во многих обобщающих работах о Древнем Египте[12]. В них прослеживаются две основные тенденции: пустыни описываются либо как естественные стены, которые отделяли долину Нила от вторжений и культурных влияний[13], либо как вполне проницаемые пространства, которые способствовали перемещению товаров, людей и идей[14]. Обе эти точки зрения на самом деле не противоречат друг другу, но найти баланс между ними непросто.
Хотя египтология была и остается преимущественно «нилоцентричной» наукой, исследования последних десятилетий убедительно показывают, что опыт жизни, работы, перемещений в ныне пустынных областях и взаимодействия с местными кочевниками влиял на древних египтян значительно сложнее и многообразнее, чем это казалось еще каких-нибудь полвека назад[15]. Все больше египтологов ежегодно отправляются за пределы Нильской долины и дельты, участвуя в археологических и эпиграфических проектах. Тем не менее до полноценного понимания значения пустынных областей, их ландшафтов, природных ресурсов и населения в политической и социальной истории, экономике, культуре и религии нильских цивилизаций нам, очевидно, предстоит пройти еще долгий путь. Главная причина имеющихся трудностей видится в том, что роль ныне пустынных областей в истории Египта и Куша (Древнего Судана) не была в действительности статичной и постоянно менялась в зависимости от природных условий, демографии, экономических потребностей как жителей Долины и Дельты, так и кочевых скотоводов за их пределами, а также политических процессов и технологических инноваций.
Настоящая книга – попытка нащупать пульс этих изменений в эпоху расцвета первого египетского централизованного государства, в период Древнего царства (ок. 2686–2160 гг. до н. э.). Из ее названия следует, что перспектива у данного исследования вполне определенная: я буду заниматься местом Пустыни в истории Древнего Египта, а не Древнего Египта в истории Пустыни. Поскольку даже такая тема слишком сложна и многообразна, я выношу за рамки настоящей работы обсуждение важных вопросов, связанных с изучением населения Пустыни, лишь в самых общих чертах касаюсь восприятия пустынь древними египтянами или места этих земель в царской идеологии. В центре внимания книги один главный сюжет – богатства ныне пустынных областей, факторы, влиявшие на их доступность для древних египтян, способы их получения и, наконец, роль в истории и экономике Древнего царства. Основное внимание в силу специфики имеющихся источников так или иначе будет приковано к древнеегипетскому государству, но я постараюсь не обойти вниманием и других акторов, которые могли участвовать в добыче и распределении богатств Пустыни.
В 2015 году у меня выходила монография, посвященная египетским экспедициям, которые отправлялись за пределы Нильской долины во времена Древнего и Среднего царств[16]. Тогда была проделана первоначальная работа по анализу текстов, реконструкции состава конкретных предприятий и судеб их участников. С тех пор появились новые данные, информация и свидетельства[17], новые источники, ряд чтений, формулировок и интерпретаций я бы сегодня изменил. Но цель настоящей книги совсем не в этом. У нее принципиально иная задача – ввести изученные раннее письменные источники в контекст археологии и ландшафтов, которые осваивали древние египтяне.
«Деньги – это кровь государства». Данная метафора очень распространена в современном мире, но в несколько измененном виде ее можно встретить и у средневековых схоластов, и у физиократов Нового и Новейшего времени. Следуя за Аристотелем, они уподобляли государство живому организму и предостерегали от диспропорции в его членах, которая может возникнуть из-за концентрации питательных соков в одной из частей в ущерб остальным. Для тела государства, указывали они, одинаково опасны и чрезмерный отлив жидкостей на периферию, в руки или ноги, и бесконтрольное увеличение управляющей всем головы, которая может оказаться слишком тяжелой для иссохшего и ослабевшего организма[18]. Если перенести приведенную выше метафору на безденежные общества, то она могла бы звучать так: «Ресурсы – это кровь государства».
Доступные ресурсы – основа развития любой цивилизации и важный фактор, влияющий на формирование экономических отношений и социальных институтов. Египетское государство эпохи Древнего царства участвовало в получении и распределении сразу нескольких видов ресурсов, которые ныне принято называть ресурсами государственного управления. Некоторые из них были материальными (людские ресурсы, подати, сырье и пр.), другие – нематериальными (идеи и информация, культурные ценности, легитимность, право на принуждение и пр.). Многое необходимое для жизни египтяне могли получить в самой Долине: плодородные почвы, вода, дерево, аллювий для кирпичей и керамики, богатая растительность, речная живность, птица. Что-то было доступно на границе Долины с пустынными плато – пастбища, дичь, кремень, мергельные глины для керамики. Но металлы, многие твердые породы камня и другие минералы приходилось добывать в Пустыне. Через Пустыню проходили и важные караванные пути (илл. 1, 11а), по которым в Долину и Дельту поступали благовония, металлы, дерево, шкуры, ценные камни, раковины и кораллы, страусиные яйца, перья и пр. Это материальные ресурсы. Но черпали египтяне в Пустыне и ресурсы нематериальные – людей с их навыками, знаниями и контактами, военную силу и даже основания для легитимности отдельных лиц и институтов.
Если ресурсы в целом считать «кровью» египетского государства, то ресурсы, поступавшие в Нильскую долину и дельту из Пустыни, были важным элементом в ее составе. Настолько важным, что без него «кровь» не выполняла бы своих функций: именно из соседних областей египтяне получали бóльшую часть сырья для престижного потребления, внешне оформлявшего структуру их общества, а сам факт существования Пустыни был одним из столпов царской идеологии.
В эпиграф к предисловию я вынес первые строки стихотворения С. Я. Маршака, повествующего о пяти ученых мужах, попытавшихся составить представление о слоне, описав отдельные его части. Кто-то изучал бок, кто-то хобот, остальные взялись за бивни, колени и хвост. В итоге они ожидаемо пришли к совершенно разным выводам: для одного слон оказался чем-то шершавым, для другого – огромным, но безопасным змеем, третий посчитал, что слон небольшой и верткий и т. д. Отсылка к этой притче, восходящей в европейской культуре к образу пещеры Платона, встречается в заключении к книге М. Одлера, посвященной меди и медным орудиям в Древнем Египте[19]. Образ этот кажется весьма удачным для демонстрации важности комплексных междисциплинарных исследований. Отдельные работы в области анализа исключительно письменных источников, иконографии, археологических свидетельств или данных палеоклиматологии способны, конечно, создать самостоятельную и непротиворечивую картину, но как бы ни был при этом талантлив и кропотлив исследователь, велика вероятность того, что реконструированная им древняя реальность будет чем угодно, но только не слоном. Это в полной мере касается, конечно, и пустынь с их ролью в истории Древнего Египта.
Взаимодействие жителей Нильской долины с ныне пустынными областями, безусловно, не ограничивалось только лишь добычей или приобретением там ресурсов. Но если на примере этой весьма ограниченной темы мне удастся продемонстрировать читателям, в том числе неегиптологам, весь спектр и сложность имеющихся источников о роли пустынь в жизни древних египтян, их ограничения и преимущества, я буду считать свою задачу выполненной. Ведь это будет пусть небольшой, но еще один шаг в сторону согласования разнородных свидетельств в поисках их общего контекста – той самой древней реальности, к постижению которой мы все так стремимся, но которая постоянно от нас ускользает.
Терминология
В настоящей работе будут использоваться некоторые общие термины, которые для точности восприятия текста лучше сразу же пояснить.
Древнеегипетское государство. Государству, сформировавшемуся на рубеже IV–III тыс. до н. э. в нижнем течении Нила, его характеристикам и особенностям в последние годы посвящено немало работ, в том числе монографий[20]. В науке пока нет и, видимо, уже не появится общепринятого определения государства. Многое зависит от того, как к исторической роли государства относится автор определения: видит в нем важнейший шаг в культурной эволюции или считает преимущественно репрессивной силой[21]. Соответственно, предложенные теории возникновения государства тоже можно разделить на две группы: те, что отдают приоритет изначально добровольному объединению отдельных коллективов, и те, что видят истоки государства в преимущественно насильственном объединении. Предлагаемые развернутые определения государства часто состоят из перечислений свойственных государству институтов, а вне их часто сводятся к тезису о том, что государство – это специальный институт управления обществом. Нередко также указывается, что в его основе лежит претензия на монополию (или приоритет) на насилие в границах определенной территории[22].
Природа первых государственных образований – проблема неисчерпаемая и одновременно несколько умозрительная, так как слишком часто обсуждается в рамках игры терминами[23]. В контексте настоящей работы одним из главных отличий государства от вождества мне видится способность к географическому расширению за счет делегирования власти через систему управления, для которой характерны разделение обязанностей и полномочий в рамках вертикальной иерархии, т. е. через чиновничество[24].
Вслед за Б. Андерсоном, я буду рассматривать государство как один из вариантов представленных (воображенных) сообществ (imagined community). Не в том смысле, конечно, что государства не существует за пределами воображения, а в том, что для существования государства воображение необходимо. «На самом деле, – отмечает автор концепции, – все сообщества крупнее первобытных деревень с прямым контактом лицом к лицу (а может быть, даже и они), – воображаемые. Сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются»[25].
Как формируются государства – вопрос, далеко выходящий за рамки настоящей работы. Но существуют они вокруг представляемого общего. В центре египетского государства как воображенного сообщества находилось представление о царе как существе, способном поддерживать во вселенной должный порядок вещей (Маат)[26]. При этом легитимность правителя и его места происходила не от египетского населения, а от богов. Таким образом, предлагаю считать, что египетское государство эпохи Древнего царства – это представление о центральной роли правителя в поддержании верного порядка вещей и воспринявшие его люди, которые управлялись царем через делегирование властных полномочий с привлечением бюрократии. Царь находился в центре государственной идеологии, но не был тождествен государству. Население Нильской долины и окружающих областей было для государства объектом. А вот администраторов и формы их кооперации можно было бы отождествить с государством. Таким образом, ниже термин «государство» будет использоваться в широком значении для обозначения воображенного сообщества и в узком – для обозначения совокупности государственных институтов.
Как в этом случае отделить государственную деятельность и ресурсы от негосударственных? Под государственной деятельностью я понимаю ту деятельность, которая была направлена на поддержание и развитие воображенного сообщества подданных египетского царя. Привлекаемые для этого ресурсы можно считать ресурсами государственного управления. Соответственно, та деятельность и те ресурсы, которые для этого не использовались, к государству отношения не имели.
Современная теория знает немало классификаций древнейших государств. Структурно династический Египет часто относят к так называемым «ранним государствам»[27], а морфологически – к «территориальным государствам»[28]. Их характеристики и особенности постоянно обсуждаются. Для темы данной работы, как мне кажется, важнее другое – то, что Египет III тыс. до н. э. являлся одним из шести государств первого порядка[29], т. е. государством, которое возникло естественным образом и не имело предшественников, из-за чего египетские администраторы долгое время не могли воспользоваться чужим опытом. Этим же, пожалуй, определяется и важность Древнего Египта для истории человеческой цивилизации.
Бюрократия. Термин «бюрократия» широко используется в египтологии, но часто без обсуждения его значения. В недавней крупной коллективной монографии, посвященной египетской администрации, это понятие используется в большинстве авторских глав и ни разу пространно не поясняется, будто смысл его очевиден[30]. Это же парадоксальным образом касается многих работ, посвященных непосредственно древнеегипетской бюрократии[31]. Одни авторы находят бюрократов уже в Додинастическом периоде, отождествляя их, подобно Дж. Гуди[32], с управленцами, которые использовали письменность[33], другие доказывают их отсутствие даже в эпоху Нового царства, считая основными характеристиками бюрократии ее рациональность и деперсонализированность[34]. В настоящей работе я следую за М. Вебером, который в самом общем виде определял бюрократию как систему управления (администрации), характеризующуюся вертикальной иерархией и специализацией[35]. Не следует путать современную деперсонализированную рациональную бюрократию с бюрократией в обществах с традиционным типом господства, который опирался на веру подданных в священность издавна утвержденного порядка. Египетская администрация эпохи Древнего царства выстраивалась по иерархическому принципу, где верхние эшелоны определяли политику, а нижние ставили и выполняли конкретные задачи, и подразумевала некоторую подготовку чиновников и их специализацию. На этом ее сходства с современной бюрократией, похоже, заканчивались. М. Вебер считал, что по мере разделения функций и рационализации (т. е. возрастания роли письменной документации и формирования упорядоченной череды инстанций) патримониальное чиновничество могло принимать бюрократические черты и поэтому допускал для определения древнеегипетской администрации и других подобных систем термин «патримониальная бюрократия»[36]. Главные отличия патримониальной бюрократии от истинной бюрократии заключались, по его мнению, в несвободе чиновников (их прямой зависимости от правителя), слабой профессиональной отраслевой специализации и отсутствии разделения частного и служебного[37].
В целом, это не противоречит доступным нам сведениям о египетской администрации эпохи Древнего царства. Хотя сохранившаяся терминология свидетельствует о стремлении администраторов классифицировать должности[38], сама система управления – судя по чрезмерно большому числу известных титулов[39] – не имела достаточно четкой структуры сколько-нибудь продолжительное время. Большýю роль в функционировании древнеегипетской администрации должны были играть передача положения родственникам (непотизм), патронатные отношения, неформальные связи и авторитет, близость к царю, дарообмен[40] и только затем, вероятно, сами занимаемые формальные должности. Все это, накладываясь на несовершенные методы и средства сбора, хранения и передачи информации, могло делать древнеегипетскую бюрократию значительно менее эффективной, чем деперсонализированные бюрократии Новейшего времени[41]. Одновременно есть мнение, что раз семьи чиновников имели стабильные источники доходов со своих хозяйств, коррупция со взяточничеством долгое время не существовали в классическом виде или, по крайней мере, не осознавались как серьезные проблемы[42].
Развитие бюрократии имеет определенную внутреннюю логику. Прежде всего она стремится увеличивать специализацию (которая не равнозначна профессионализму), количество параллельных структур и объем контролируемых ресурсов. Рост числа бюрократов является естественным процессом и не зависит напрямую ни от изменения количества или сложности задач, ни от изменения объема доступных ресурсов. Последнее наглядно можно видеть на примере позднего Древнего царства.
Некоторые исследователи полагают, что в древнейших государствах социальная реальность долгое время осмысливалась исключительно в рамках иерархии домохозяйств, на вершине которой находилось расширенное домашнее хозяйство властителя. Для описания управленческих практик в таких обществах, державшихся на личных связях между властителем и его администраторами, используется предложенный М. Вебером термин «патримониализм». Такие авторы предполагают, что патримониализм не мог уступить место патримониальной бюрократии (бюрократии с отдельными элементами патримониальных отношений) ранее I тыс. до н. э.[43] В египтологии сравнение древнеегипетского государственного управления с иерархией патримониальных домашних хозяйств, где более крупные хозяйства выполняли функции администрирования и распределения для более мелких[44], появляется на контекстуальном этапе[45]. Такой взгляд противопоставляется более традиционному образу всеохватной, четко структурированной и деперсонализированной древнеегипетской бюрократии[46].
Египетскую администрацию эпохи Древнего царства можно разделить на центральную (связанную с решением общегосударственных вопросов) и местную, или провинциальную. В какой момент бóльшая часть решений, связанных с функционированием государства, стала приниматься не в рамках института царской семьи или неформальных связей, а через бюрократию – сказать сложно. Скорее всего, бюрократия отвоевывала командные высоты на всем протяжении египетской истории. М. Барданова полагает, что патримониальная бюрократия могла существовать параллельно с более древней иерархичной системой патримониальных домашних хозяйств[47]. Значение бюрократии в таком случае на протяжении египетской истории не было постоянным и менялось в зависимости от эпохи и конкретной сферы деятельности. Изначально администраторы должны были набираться из среды родственников царя, а затем личных слуг и зависимых людей, которые декларировали преданность правителю и веру в его особый божественный статус. Такая модель не подразумевала существования политического и экономического разделения на частное и служебное, наличия структурных или символических альтернатив правящему классу и возможности функционирования государства в отрыве от личности правителя. C рубежа IV–V династий в число администраторов начинают попадать люди из-за пределов большой царской семьи (за счет экспатримониального рекрутирования)[48]. На протяжении V династии этот процесс становится все более заметным и значимым. К концу V династии начинают быстро развиваться провинциальные центры, в них фиксируется появление стабильных служебных элит с собственными традициями преемственности.
Древнеегипетская администрация выступала гарантом социального порядка в интересах правящего класса. При этом явных свидетельств ее заинтересованности в глубоком проникновении в жизнь локальных сообществ, за исключением сфер сбора податей и контроля повинностей, в эпоху Древнего царства не наблюдается. Р. Буссманн предлагает рассматривать III тыс. до н. э. как время постепенного роста масштаба древнеегипетского государства, происходившего за счет переформатирования «традиционного» Египта в соответствии с абстрактными моделями, которые транслировались из царской резиденции. Среди таких моделей, унифицировавших жизнь по всей стране, он называет представление о Египте как единстве «двух земель»[49], а также деление территории страны на номы и владения отдельных богов. По мнению Р. Буссманна, государство настойчиво продвигало эти модели в жизнь, в том числе за счет внутренней колонизации и монументального строительства, пока к началу Нового царства, т. е. спустя примерно полторы тысячи лет, они не стали наконец соответствовать реальной практике на местах[50]. Как в Древнем царстве управлялись жители многочисленных селений, а также всевозможные скотоводы, охотники и собиратели, занимавшие окраины культурного ландшафта Нильской долины и дельты, практически не известно. Вероятно, в этой среде была велика роль неформальных (с точки зрения государственной администрации) лидеров, но как их власть или авторитет реализовывались в конкретных исторических условиях далеко не всегда ясно[51].
Институты. Когда речь заходит о деятельности государства, то обычно имеются в виду институты, посредством которых правящий класс стремится достигать своих целей. В романо-германских языках, которые, собственно, преимущественно и используются для изучения Древнего Египта, существует разделение между терминами «институт» (организация с определенными задачами) и «институция» (может обозначать как организацию, так и обычаи, практики или законы, например, брак, семью, частную собственность). В отечественной науке второй термин используется редко. Это создает ловушку и нарушает однозначность научного языка. Привычные отечественным коллегам словосочетания вроде «социальный институт» или «экономический институт», обозначающие формы совместной деятельности людей, для большинства иностранных коллег, по сути, имеют смысл только в названиях каких-либо организаций[52].
Осознавая сложившуюся ситуацию как данность, я буду использовать термин «институт» в привычном для отечественной историографии расширенном значении. То есть буду понимать под ним и совокупности формальных и неформальных норм, такие как царская власть, правосудие, семья или наследование, и организации – совокупности людей, объединенных для решения каких-либо задач на основе разделения обязанностей. Организации возникают в уже существующих институциональных рамках, но затем начинают выступать в качестве агентов институциональных изменений. Связанные с государством организации я буду делить на органы, занимавшиеся преимущественно реализацией государственной власти, и учреждения, занимавшиеся преимущественно производством, хранением и распределением. Оговорка про преимущественную функцию не случайна. Поскольку деление это условное и весьма модернизационное, оно, по всей видимости, не вполне соответствует древнеегипетским практикам, в условиях которых одна и та же организация, вероятно, вполне могла выполнять несколько указанных функций одновременно. Поскольку о реалиях управления в III тыс. до н. э. мы все еще осведомлены довольно слабо, то под термином «государственный институт» в большинстве случаев вряд ли получится описать что-то более конкретное, чем сфера деятельности.
Правящий класс. Под правящим, или господствующим, классом будет пониматься совокупность людей, которые получали в структуре древнеегипетского общества максимальные блага. Внутри правящего класса принимались основные управленческие решения, из него рекрутировались все или почти все кадры для институтов государственной власти и его следует отличать от остальных – более широких – слоев (страт) общества. Иногда, особенно при рассмотрении культурной роли правящего класса, в качестве синонима будет использоваться термин элита [53].
Экономика и хозяйство. Под экономикой в настоящей работе будет пониматься комплекс отношений между людьми и институтами в сферах производства, обмена и распределения продукции, а под хозяйством – совокупность естественных и созданных человеком благ, которые использовались для обеспечения жизнедеятельности и улучшения существования людей.
Глава 1
Исторические исследования и египтология
D'où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?
Название работы Поля Гогена
1.1. Как мы познаем прошлое?
Из-за своей малочисленности египтологи по всему миру часто заняты большим объемом рутинной работы по сбору, переводу, описанию и базовому анализу источников, а потому, как отметил Дж. Бэйнс, «не очень-то открыты к вопросам теории и методологии», а «на уровне интерпретации нередко работают без осознания управляющих ими предпосылок»[54]. С этим можно соглашаться или спорить, но, вне зависимости от склонности конкретных исследователей к рефлексии, следует помнить, что каждая историческая эпоха рождает свои доминирующие способы приобретения знания. В отечественной египтологической литературе обсуждать их не принято, поэтому, возможно, стороннему читателю будет интересно, если я остановлюсь на данном сюжете чуть подробнее. Итак, как мы узнаем то, что мы знаем?
Египтология – историческая наука, зарождение и развитие которой пришлось на Новое и Новейшее время. Соответственно, в ней представлены те модели исторического исследования, которые были предложены в XVIII–XXI вв.: классическая, неклассическая, неоклассическая и даже частично постмодернистская[55]. Эти модели можно отнести к первому, философскому уровню методологии исторического исследования. Они по-разному определяют предметную область исторического познания, его когнитивную стратегию, основные познавательные средства и, наконец, роль ученого в получении нового исторического знания. Внутри каждой модели конкурируют различные парадигмы, которые определяют постановку и решение исследовательских задач – это второй уровень. Внутри парадигм, на третьем уровне, такая же конкуренция наблюдается между историческими теориями с конкретной предметной привязкой – здесь мы впервые оказываемся непосредственно в области египтологии. Наконец, на четвертом уровне в рамках теорий конкурируют отдельные методы[56].
Классическая модель исторического исследования – это порождение рационалистической культуры эпохи Просвещения с характерной для нее верой в познавательные возможности человеческого разума и критикой здравого смысла и обыденного опыта. Окончательно классическая модель сложилась в рамках позитивизма XIX в. Это была первая попытка создания исторической теории, которая будет столь же доказательной и общезначимой, как и теории в естественных науках. Исторический позитивизм развивался под лозунгом объективизма (принципиальной возможности познания исторического прошлого таким, каким оно в действительности было) и подразумевал существование общих закономерностей исторического процесса. Поскольку предметом классической модели исторического исследования выступала надындивидуальная реальность прошлого, сторонников этой философской позиции в первую очередь интересовали социальные отношения, процессы и структуры. А в силу того, что в исторической науке описание фактов (обязательное условие накопления эмпирического знания) неразрывно связано с повествованием, традиционной формой классической модели исторического исследования стал событийный нарратив. Так в египтологии появились большие истории Древнего Египта, охватившие, в частности, описание прошлого прилегающих к Нильской долине областей[57]. Классическая модель породила целый набор теорий, из которых при изучении Древнего мира оказались востребованы преимущественно формационный подход, стадиальная теория цивилизаций и миросистемный подход.
Уже к рубежу XIX–XX вв. идеалы Просвещения перестали устраивать часть исследователей прошлого. Расширялась реакция на кризис позитивизма, который никак не мог превратить историческую науку в аналог естествознания. Трагические события первой четверти XX в. сформировали в Европе острое ощущение ценности жизни и убеждение в важности каждого конкретного человека как источника творческого начала. Новый тип рациональности требовал искать не только типичное, надындивидуальное, но и видеть индивидуальное. Это привело к изменению представлений о предмете исторической науки: от поиска общей логики исторического процесса исследователи стали переходить к поиску неповторимого и личного. Если для позитивистов работа историка – это взаимодействие нейтрального исследователя (субъекта) и совершенно внешнего по отношению к нему исторического объекта, то в неклассической модели человек из иной эпохи тоже начинает восприниматься субъектом со своей мотивацией и внутренним миром. Монолог исследователя о прошлом заменяется на диалог с прошлым[58], который по сути есть еще и диалог культур. Представление о том, что в прошлом люди базово обладали той же рациональностью, что и наши современники, способствовало реабилитации индивидуального здравого смысла в науке при одновременном отступлении теории. Потенциально это делало правдоподобие чуть ли не главным критерием научности, что таило в себе определенные опасности. К неклассическим направлениям в исторических исследованиях относятся, например, цивилизационный подход, история повседневности и микроистория. Все они в той или иной степени нашли применение в египтологии.
Во второй половине XX в. был предложен еще один ответ на кризис ценностей и идеалов Просвещения – постмодернизм. В его рамках отвергается самое базовое положение классической модели исторического исследования – принципиальная возможность получения объективного истинного знания о прошлом. Постмодернисты полагают, что так называемые исторические факты, которыми оперируют историки, – это суть конструкты, создаваемые самими исследователями под влиянием собственной личности, опыта и задаваемых источникам вопросов. Иными словами, историческая реальность недоступна, доступны лишь представления историков о ней, зависящие от точки зрения и инструментария исследователя: при их изменении будет изменено и представление о прошлом. Указывалось, что никакой уровень мастерства историка не способен преодолеть исследовательскую субъективность и помочь специалисту перейти от конструирования прошлого к его реконструкции. Поэтому самым продуктивным для историков будет поиск в прошлом чего-то единичного и уникального, а при изучении конкретного предмета – свободное комбинирование максимально большого числа методологических подходов. В XXI в. в своем наиболее вульгарном виде постмодернизм проник в сознание отдельных политиков, которые в своем увлечении прошлым стерли грань между изучением истории и пропагандой. Нет нужды говорить, что постмодернизм не нашел среди египтологов, как и среди других представителей исторических наук, значительной поддержки. Однако некоторое воздействие идеи постмодернизма на археологию Нильской долины все же оказали в рамках постпроцессуализма; кроме того, иногда влияние постмодернизма можно углядеть в проникновении в египтологические исследования неолиберальных идей и концепций (хотя это далеко не единственная причина данного явления).
Естественной реакцией на распространение постмодернизма, угрожающего самому статусу истории как науки, стало появление в конце XX в. неоклассической модели исторического исследования. В ее основе, как и в случае с классической моделью, лежат историзм (признание важности изучения объектов в связи с конкретно-историческими условиями их существования), объективизм (уверенность в возможности объективного познания прошлого) и холизм (признание приоритета целого над его частями). Однако неоклассики учли критику со стороны представителей неклассической модели и постмодернистов, отказавшись от наиболее уязвимых положений. Многие их них отошли от сущностного отождествления исторической науки и естествознания, признали важность изучения – помимо общих закономерностей – индивидуальной исторической реальности, единичного и уникального, подвергли критике представление о неизбежности прогрессивного движения в истории, признали принципиальную недостижимость абсолютной нейтральности ученого по отношению к объекту своего исследования и зависимость содержания научных фактов не только от исторической реальности, но и от представлений историков. Кроме того, неоклассический подход критикует стремление к созданию универсальных теорий исторического развития и практику заимствования теорий из общественных и социальных наук. Многие положения неоклассической модели нашли реализацию в египтологии, которая на современном этапе в теоретическом плане демонстрирует фрагментарность и разорванность, свойственную, впрочем, и другим историческим дисциплинам. Можно предположить, что рост консервативных настроений, правого и левого популизма и политической напряженности по всему миру вернет в обозримой перспективе интерес историков к большим теориям в духе классических моделей исторических исследований.
Отечественная египтология развивалась своим особым путем. Оставаясь значительную часть XX в. довольно оторванными от мировой науки и проходивших там дискуссий, советские и затем российские египтологи продолжали разрабатывать методы, присущие в основном классической модели исторического исследования. В этом можно увидеть как очевидные минусы, так и плюсы. К последним можно отнести готовность отечественных специалистов заниматься фундаментальными вопросами[59]. Те же политические обстоятельства привели к тому, что археология и, шире, полевые исследования стали неотъемлемой частью отечественной египтологии только в последние два десятилетия[60], а до этого фактически отсутствовали[61]. Это существенно отличало специалистов из СССР даже от их коллег в других социалистических странах и привело к тому, что археологическая теория фактически не оказала на отечественную египтологию никакого влияния, а ее достижения не учитывались. Поэтому сейчас самое время присмотреться к египетской археологии чуть пристальнее.
1.2. Изучение Древнего Египта через призму археологии
Изучение человеческой деятельности в египетских и суданских пустынях и саваннах (илл. 8а-б, 9а-б) имеет длительную историю, которая началась задолго до рождения собственно египтологии и кушитских исследований и уходит своими корнями в античную традицию. А современная история изучения окружающих Нильскую долину областей начинается с Египетского похода Наполеона Бонапарта (1798–1801 гг.), когда в стране пирамид вместе с солдатами революционной Франции оказалась первая по-настоящему комплексная научная экспедиция, воплотившая идеалы и достижения эпохи Просвещения. Хотя в 1822 г. египтология родилась как наука, занимающаяся прежде всего работой с текстами, этому рождению предшествовал длительный «внутриутробный» период, наполненный не чтением оригинальных письменных источников, а многочисленными раскопками и работой с оригинальными памятниками материальной культуры. С тех пор, если выражаться словами С. Кёрка, «египтология занимает необычное положение в академическом ландшафте, где-то между археологией и историей»[62]. Это наблюдение справедливо для многих национальных школ, хотя в отечественной египтологии археология только становится самостоятельным полюсом притяжения.
Если взять археологическую составляющую египтологии, то историю нашей науки можно с некоторыми оговорками разделить на три этапа: эпоху антикварианизма, типологический этап и этап контекстуальный. Подобно любой простой модели, это деление не отражает, конечно, всей сложности происходивших в науке процессов и разнонаправленных движений, однако результирующие векторы движения она определяет, как мне кажется, верно. За это время в центре сущностных дискуссий попеременно оказывались предмет, тип и контекст. А если настроить оптику на историю изучения пустынных областей, то в центре внимания на этих этапах мы увидим поочередно поиск надписей, группировку надписей и помещение их в археологический контекст.
Эпоха антикварианизма характеризуется интересом к древностям как таковым, а также стремлением обладать ими. После похода Наполеона широкий круг европейцев, в том числе ученых, впервые познакомился с египетскими природными ландшафтами и отдельными, наиболее яркими категориями древних памятников. В результате Египет стал популярен среди широкой публики, египетские древности нашли свое место в крупнейших музейных и частных коллекциях, а иероглифическое письмо в итоге было расшифровано, что положило начало египтологии как науке. Продолжающиеся раскопки накапливали свидетельства разнообразия древнеегипетской материальной культуры, что создало предпосылки для перехода к следующему этапу.
Господствовавшая тогда классическая парадигма исторического исследования в своем стремлении к целостности неизбежно выводила на представление о египетской истории как единстве, имеющем определенную логику развития. Для выявления этой логики требовалась систематизация имевшихся данных. Новый, типологический, этап начался в конце XIX в. благодаря активной деятельности Флиндерса Питри и его современников. Основным вкладом археологии в исторические исследования в это время стала относительная хронология предметов материальной культуры. Именно тогда были описаны и обоснованы главные типологические последовательности, которыми египтологи пользуются по сей день – от архитектуры до керамики. Составление типологий требовало продолжительных раскопок большими площадями и крупных региональных исследований. Археологи типологического этапа работали преимущественно в рамках культурной истории, отвечая на три главных вопроса: «Что? Где? Когда?». А в основе классификаций тех времен лежали в основном форма, материал и стиль. К концу этого этапа исследователи уже многое знали о памятниках в пустынях – в особенности о надписях, доисторических петроглифах и архитектуре, – их датировке, содержании и типах.
На контекстуальном этапе добываемые археологами памятники и свидетельства стали широко привлекаться для изучения культурных и исторических процессов, а в типологии стали учитывать функциональное назначение, роль и даже агентность (способность вещей воздействовать на людей и другие вещи)[63]. Основные актуальные вопросы предыдущего этапа была заменены на «Как?» и «Почему?». В немалой степени началу этого этапа способствовало появление так называемой новой, или процессуальной, археологии, развивавшейся с 1960-х гг. в странах Запада (прежде всего в США и Великобритании)[64].
Процессуализм – это попытка приблизить археологию к социальным и точным наукам в плане методологии и качества данных. В этом случае, как считалось, археология сможет перейти от простого описания прошлого к его объяснению. Процессуальный подход подразумевает, что главной задачей археолога является изучение динамики развития древних культур и происходивших там процессов[65]. Это предполагает наличие у культуры определенных законов развития, которые можно изучить. Необходимым условием достижения поставленной цели процессуальные археологи считают получение как можно большего количества и разнообразия данных. Эти данные должны быть надежными, т. е. добытыми с использованием корректных научных подходов и методов, и пригодными для последующего дедуктивного анализа с целью получения информации и свидетельств[66].
Процессуальный подход развивался в парадигме позитивизма и затем постпозитивизма. Поэтому неудивительно, что «новые археологи» стремились как можно активнее привлекать к своим работам естественно-научных специалистов. Кроме того, они полагали, что значительную помощь им может оказать опыт современных этнологов (антропологов)[67]. Соответственно, в качестве отдельного направления в археологической науке появилась этноархеология[68], задачей которой является реконструкция образа жизни древних обществ, исходя из материальной и нематериальной культуры более поздних, но хорошо описанных обществ. Она была дополнена экспериментальной археологией[69].
Интерес к кросскультурным исследованиям для выявления общих и особенных характеристик ранних государств – еще одна важная черта процессуальной археологии. Вероятно, не в последнюю очередь он зародился как следствие набиравшего обороты процесса глобализации. С конца 1970-х гг. в таких сравнительных исследованиях стал появляться и Египет[70], в результате чего были получены многие неочевидные наблюдения[71]. Главная проблема, пожалуй, заключалась в том, что работающие в данной сфере исследователи не выработали пока общепринятого мнения о том, какие категории свидетельств могут использоваться в сопоставлениях эффективно, а какие нет. Кроме того, поскольку у исследователей обычно нет возможности сравнивать данные напрямую, сравниваются традиционно интерпретации коллег[72], изменения в которых сложно порой отследить. Впрочем, интерес к кросскультурным исследованиям сохраняется, и представление о том, что если специалист знает лишь одну цивилизацию, то он в действительности не знает и ее, регулярно озвучиваются в литературе[73].
Работая в рамках позитивисткой парадигмы, процессуалисты не могли со временем не подвергнуться критике за механизацию культуры, чрезмерное внимание к природным факторам и игнорирование в исследованиях тех аспектов человеческой деятельности, которые сложно представить в виде простых данных – например, моральные ценности, религиозность или эстетические вкусы. На волне критики процессуализма возникла так называемая постпроцессуальная археология[74]. Как и во многих других случаях, приставка пост-, по большому счету, означает лишь то, что направление это еще полноценно не сложилось и не имеет достаточной теоретической базы, а следовательно, не может быть более точно определено терминологически.
Один из основателей постпроцессуализма британец Иэн Ходдер оказал большое влияние на методику ведения раскопок и документацию американской экспедиции в Гизе под руководством Марка Ленера[75], а через нее – на десятки специалистов, прошедших там практику и ведущих сегодня раскопки по всему Египту. По сути, представители постпроцессуальной археологии, разочарованные в процессуализме, структурализме и марксизме, встали на сторону релятивизма как альтернативы рационализму, предложив две вполне ожидаемые в рамках неклассической и затем постмодернистской науки инновации. Во-первых, они расширили понимание археологического контекста, добавив в него еще один элемент – самого археолога, который этот контекст выявляет и интерпретирует, его опыт, мировоззрение, интересы и убеждения. Во-вторых, они изменили приоритеты, перейдя от исследования культурных процессов к преимущественному изучению акторов, агентов[76] и их индивидуальных характеристик (гендер, идентичность, этничность, агентность, идеология и т. д.)[77].
Даже самые профессиональные исследователи во время работы вряд ли могут быть абсолютно свободны от общества, в котором они сформировались, институциональной организации науки в тех странах, где они трудятся, системы обучения или собственного социального статуса и личных воззрений. Впрочем, следует помнить, что научно доказать можно только наличие влияния внешних факторов на выводы ученого, а вот его отсутствие доказать нельзя. Размышляя над собственной работой, а также наблюдая за профессиональным развитием своих коллег, я должен согласиться с тем, что исследователи в среднем склонны более критично относиться к тем гипотезам, моделям и теориям, которые в наименьшей степени соответствуют их жизненному опыту и воззрениям, а принимать и развивать те из них, которые с ними согласуются[78].
Убежденный коммунист, пострадавший от нацистского преследования и перешедший после известий о сталинских репрессиях на антикоммунистические позиции, К. Виттфогель получил травмирующий опыт взаимодействия с тоталитарными системами. Его перу принадлежит, пожалуй, один из самых нелицеприятных для многих наших современников образов древнеегипетского государства – основанной на всепроникающем контроле, страхе и насилии восточной деспотии, в центре генезиса которой лежала задача централизованного регулирования ирригации[79]. Совершенно другая модель предложена А. Е. Демидчиком, имеющим продолжительный опыт жизни в стране с ярко выраженным делением регионов на «доноров» и «реципиентов». Он полагает, что существование древнеегипетского территориального централизованного государства было в первую очередь вызвано потребностью населения отдельных номов в периодической продовольственной помощи извне[80]. А живущий в испытывающей кризис идентичности и демократических институтов Западной Европе Р. Буссман считает, что древнеегипетскому государству была совершенно чужда забота о благополучии населения, поскольку главной его задачей было простое сохранение царской власти[81]. Изучив аргументацию данных авторов и подбор ими свидетельств, рискну допустить, что каждый из этих подходов отразил в той или иной степени личный жизненный опыт ученого, наложившийся на конкретные научные интересы и, соответственно, используемые источники. Если это так, то в рамках классической модели исторического исследования это будет слабость, а в рамках неклассической и неоклассической моделей в этом можно увидеть силу и ценность, ведь предложенные взгляды могут дополнять друг друга, а не исключать.
Сегодня процессуализм и постпроцессуализм, по сути, соседствуют на передовой археологической науки, где продолжают существовать и другие направления мысли, такие как классический марксизм, неомарксизм, бихевиоризм (потеснивший классический процессуализм)[82], эволюционизм (дарвинизм) и др.[83], которые здесь не рассматривались лишь потому, что оказали пока несравненно меньшее влияние конкретно на египетскую и суданскую археологию. Впрочем, одна из современных теорий в области эволюции живых организмов все же проникла в египтологию последних десятилетий. Речь идет о теории прерывистого равновесия, которая была приспособлена историками и археологами к анализу развития социальных систем. Наиболее видным ее сторонником является крупный исследователь Древнего царства М. Барта. Согласно этой теории, развитие социальных систем протекает не равномерно, а сочетает длительные периоды без значительных изменений (периоды равновесия) с короткими периодами фундаментальных изменений, на основе которых устанавливается новое равновесие, учитывающее изменившиеся внешние и внутренние условия. Радикальный характер преобразований в периоды нестабильности связан с инерцией социальных систем, которые могут долго сохранять устойчивость, сопротивляясь изменениям за счет внутренних ресурсов, но слишком тесно связаны между собой, из-за чего изменения в одной области неизбежно вскоре перекидываются на другие. В истории Древнего царства М. Барта насчитывает четыре периода быстрых изменений: правление Нечерихета (Джосера) в начале III династии, правление Снофру в начале IV династии, рубеж IV и V династий и правление Ниусерра в середине V династии. После Ниусерра, по его мнению, наступило время значительно более частых изменений, закончившееся гибелью централизованного государства[84].
Современная египетская археология продолжает двигаться в сторону теоретического синтеза, где процессуализм и постпроцессуализм (как наиболее влиятельные пока направления, воплощающие идеи рационализма и релятивизма, модернизма и постмодернизма) начинают дополнять друг друга. Одновременно некоторые египтологи выказывают интерес к проблематике школы «Анналов», изучая как структуры большой длительности, существовавшие в социальных связях, культуре, религии, политике, экономике и палеоэкологии на протяжении столетий, так и краткосрочные процессы или индивидуальные события. Нередко они отстаивают использование в египетской археологии междисциплинарного подхода[85].
Как и любая другая наука, археология консервативна и не склонна избавляться от однажды возникших теорий полностью[86], поэтому разнообразие в ней теоретических подходов сегодня не просто велико, но и продолжает расти. Все чаще появляются работы, посвященные относительно новым темам – проблемам пространственного измерения древнеегипетской цивилизации, взаимодействия людей прошлого с природными и культурными ландшафтами, идентификации и самоидентификации, мировоззрения, восприятия собственного тела и возраста, гендерных границ и взаимодействий, диахронических тенденций в культуре и пр.[87] Все большее значение приобретает постколониальная теоретическая повестка, в том числе в изучении взаимодействия древних египтян с населением ныне пустынных областей[88]. Конечно, историография по каждому из этих вопросов уходит своими корнями в XIX в., однако сегодня в распоряжении специалистов оказываются не только традиционные письменные и изобразительные источники, но и более качественные археологические данные, а также новые возможности, которые дают цифровые и естественно-научные методы.
Два последних крупных обзора археологии Древнего и Среднего царств написаны специалистами с ярко выраженным интересом к социальной истории и истории простых людей (истории снизу), но исповедующими разные подходы – антропологический[89] и социологический[90]. Это кажется вовсе не случайным: одна работа отражает тренд на сближение археологии с антропологией и написана под влиянием проблематики школы «Анналов», а другая испытывает сильное влияние марксистской методологии и является одним из вариантов неоклассического ответа на проникновение в египтологию постмодернизма. Объективно говоря, современная историческая наука в целом все теснее сближается с антропологией и дрейфует в сторону социальных наук (хотя остается при этом и наукой гуманитарной). Тенденция эта закономерна, поскольку с момента своего зарождения историческая наука стремится использовать любые новые возможности для того, чтобы как можно более полно реконструировать прошлую действительность. Кроме того, на фоне общемировой тенденции к падению авторитета науки и экспертной оценки, только социальные науки, стремящиеся использовать эмпирические методы познания и формализацию знания, могут пока еще претендовать на тот же статус и влияние на общество, что сохраняют до определенной степени науки точные. По двум указанным причинам у историков древности проявился интерес к социальной географии, экологии, наукам о поведении и пр., а в качестве мостиков между гуманитарной и социальной опорами истории стали перекидывать не только археологию с ее традиционным вниманием к естественно-научным методам[91], но и другие дисциплины, например, социоестественную историю[92]. Последняя нашла значительное развитие в отечественной египтологии в работах Д. Б. Прусакова[93].
Один из главных вопросов, стоящих перед социальными науками, можно сформулировать следующим образом: как и в какой степени на общества влияют универсальные и специфические факторы? Он актуален и для этой работы. С одной стороны, если сильно огрублять, на чаше весов находятся биологическая сторона нашего вида и биологические инструменты адаптации, с другой – культурное многообразие и культурные инструменты адаптации. По сути, по данному «водоразделу» (с одной стороны примат универсальных факторов, с другой – специфических) проходят границы между материализмом и идеализмом, рационализмом и релятивизмом, процессуализмом и постпроцессуализмом или, что будет ближе некоторым отечественным исследователям, классическим марксизмом и неомарксизмом[94].
О последнем стоит сказать отдельно. Интерес исследователей Древнего мира к историческому материализму за пределами стран бывшего социалистического блока (где он имел и продолжает иметь бóльшую укорененность в теории исторических исследований) демонстрирует некоторую закономерность. Времена экономических кризисов или обострения противоречий между Западом и Востоком (а сегодня – скорее между Севером и Югом) традиционно активизировали интерес западных исследователей к марксистскому подходу в истории[95] и археологии[96]. Это кажется логичным, если предположить, что крупные кризисы часто стимулируют поиск общих закономерностей и надындивидуальных объяснений, а спокойные времена порождают интерес к индивидуальным особенностям и недоверие к общим моделям ввиду того, что они неизбежно упрощают рассматриваемый объект.
К началу XXI в. классическая марксистская теория исторического процесса, безусловно, безнадежно устарела[97], как устарела и классическая модель исторического исследования в целом. Однако это не отменяет того, что исторический материализм все так же предлагает ряд эффективных базовых инструментов и методов для критического исторического анализа в рамках неоклассической модели. В этом он напоминает современную себе эволюционную теорию Ч. Дарвина. Наилучшим образом исторический материализм применим к тем древним обществам, от которых в достаточном количестве сохранились источники, позволяющие тестировать традиционные марксистские модели (происхождения государства, взаимоотношения классов, соотношения базиса и надстройки, нарастания противоречий как движущей силы развития общества и др.). Иными словами, он вполне подходит для изучения Древнего Египта[98].
Сближение классического марксизма со структурной антропологией обновило его теоретическую базу. Современный неомарксизм уделяет значительное внимание сложному разнообразию способов производства, признает важную роль идеологии и может объяснять изменения в обществах не только борьбой за власть и контроль над ресурсами, но и, например, противоречиями между родственными, возрастными или гендерными группами. Что неомарксизм продолжает отрицать, так это способность внешних факторов спровоцировать социальные изменения, хотя иногда рассматривается их сдерживающее или активизирующее влияние.
Последнее, о чем следует здесь сказать, – это теоретический застой, в котором оказалась египтология как историческая наука. Здесь мы не одиноки: XXI век не породил пока никаких существенных теоретических инноваций в области истории ни на уровне теоретической рефлексии, ни в применении новых интересных концепций, ни в области междисциплинарной интеграции. Есть тенденции, которые начались во второй половине XX в. и продолжают развиваться сегодня, а также аналитические процедуры и методы, позаимствованные из прошлого столетия[99]. Принадлежность одновременно к двум группам наук о человеке создает для историков очевидные проблемы сочетания теории и метода. Это особенно актуально в том случае, если в историописании начинают использоваться теории социальных наук, созданные для работы с совсем другими объектами исследования, т. е. опирающиеся на методологию, которая в той или иной степени подразумевает общение или длительное наблюдение за объектом[100]. Такой подход может привести либо к продвижению теории без должного подкрепления данными (которых не будет в достаточном количестве), либо к необоснованной модернизации древних культур. Там, где В. Граецки видит влияние современного общества и идеологии на египтологов, пишущих о Древнем Египте в категориях свободного рынка, раннего капитализма, индивидуализма, феминизма и т. д.[101], порой, возможно, логичнее усмотреть результат приложения теорий современных социальных наук к неподходящему для этого материалу[102].
К началу XXI в. энтузиазм по поводу возможностей открытия новых общих законов развития общества и формулирования универсальных теорий существенно снизился как среди историков и археологов, так и представителей чисто социальных дисциплин[103]. В несколько меньшей степени это касается веры в достижимость в обозримом будущем более глубокого междисциплинарного синтеза на основе естественно-научных или цифровых методов. Осознание плато, на которое вышли социальные и гуманитарные науки, породило неизбежную дискуссию о вероятном тупике, в который зашла к началу XXI в. историческая и археологическая теория[104]. Среди египтологов похожие настроения удачно выразил Дж. Бэйнс: «Некоторые положения о Древнем мире могут быть опровергнуты в случае появления четких и подходящих контраргументов, но это нечастая ситуация; и очень редко что-то может быть подтверждено, если только речь не идет о суждениях, которые настолько очевидны, что не представляют серьезного интереса. Гораздо чаще новые свидетельства обогащают и усложняют картину или вместо ответа на старые вопросы лишь задают дополнительные»[105]. Одним из результатов наступившего кризиса стало исчезновение больших исторических нарративов. Вот уже более 30 лет[106] истории Древнего Египта и Куша, если речь не идет об учебных пособиях, пишутся исключительно для широкой аудитории в научно-популярном формате или подменяются коллективными сборниками обзорных статей и энциклопедиями[107].
Как это часто случается, за большими надеждами и планами приходит время кропотливой работы с учетом обогащенной теоретической и методологической базы. В качестве примера таких исследований на материалах Древнего царства по теме настоящей книги можно привести работы М. Ленера и П. Талле, стремящихся использовать максимальное разнообразие данных (археологических, в том числе данных экспериментальной археологии, археоботанических, археозоологических, геоморфологических, письменных, изобразительных и др.) при изучении древнеегипетской инфраструктуры эпохи IV династии[108], или работы М. Одлера, посвященные производству, использованию и значению предметов из меди[109]. Междисциплинарность уже не исчезнет, и кажется очевидным, что она будет определять развитие исследований об эпохе Древнего царства в ближайшие десятилетия. Важно при этом отметить, что осознание пределов возможностей социальных наук не только укрепило статус гуманитарных способов познания, но и привело к повышению внимания к традиционным историческим методам со стороны представителей социальных и даже некоторых точных наук. Это вполне объяснимо, ведь социальные науки заточены под изучение процессов, институтов, агентности (способности индивидов, ландшафтов и вещей воздействовать на окружающий мир), а гуманитарные науки имеют дело со смыслами, их инструментарий позволяет уловить вещи более эфемерные, но часто не менее значимые[110].
1.3. Пределы наших возможностей
- Лицом к лицу лица не увидать.
- Большое видится на расстоянье.
«Письмо к женщине», С. А. Есенин
И предал я сердце мое тому,
чтобы познать мудрость
и познать безумие и глупость:
узнал, что и это – томление духа;
потому что во многой мудрости
много печали.
Эккл. 1: 17–18
Один из парадоксов научного познания заключается в том, что, расширяя объединенными усилиями область знания, ученые одновременно увеличивают границу ее соприкосновения с областью незнания. Иными словами, чем точнее наши сведения о Древнем царстве и чем сложнее и разнообразнее вопросы, которые задаются источникам, тем конкретнее обрисовываются масштабы (еще) непознанного. Превращая незнание в сформулированную задачу, мы можем двигаться вперед в своей научной работе. На этом пути мне видятся три крупных вызова: 1) оценка границ и качественных характеристик нашего незнания; 2) согласование разных типов и видов данных для получения более полной общей картины; 3) определение масштабов изучаемых явлений и траекторий развития выявленных процессов.
1.3.1. Границы нашего незнания
Первая проблема кажется наиболее серьезной. Лакуны в научных данных могут быть порой настолько значительны, что некоторые из них из-за своих масштабов будут попросту не очевидны. Представим, что какие-то категории населения древнеегипетской Нильской долины не находили регулярного отражения в сохранившихся письменных и изобразительных источниках, связанных преимущественно с культурой правящего класса и государством. Они, конечно, должны были оставить свой след в материальной культуре, которая отражает более широкий спектр акторов, агентов, процессов и действий, но интерпретировать ее часто еще сложнее. Как в этом случае можно определить границы нашего незнания, скажем, о структуре древнеегипетского общества? Это, по меньшей мере, непросто.
Выявленные лакуны в данных можно залатать с помощью аналитических методов, но они не компенсируют сами данные. Поэтому заплаты эти регулярно отваливаются и заменяются новыми. Рассматривая наиболее типичные логические ошибки, встречающиеся в египтологических работах, Дж. Ги особенно выделяет игнорирование противоречащих гипотезе свидетельств, поспешные обобщения и использование более ранних допущений в качестве истин[111] или, выражаясь словами А. О. Большакова, «традиции, освященной авторитетом времени»[112]. Ими, конечно, ошибки не ограничиваются. Нередко, к примеру, велик соблазн принять отсутствие данных о явлении за доказательство отсутствия самого явления. Так же легко не заметить систематические ошибки отбора. Ошибок, искажений и упущений избежать нельзя, но можно уменьшить их количество и влияние на итоговый результат, если регулярно сверяться с известными ограничениями источниковой базы и используемых методов.
Эпоха Древнего царства отражена в источниках очень неравномерно. Это касается как текстов и изображений, так и археологических памятников, количество которых колеблется от царствования к царствованию, демонстрируя лишь общую тенденцию к увеличению с III по VI династии, после чего их число снижается. Неравномерность, конечно, наблюдается не только в области хронологии (более поздние источники, как правило, более многочисленны), но также в области материалов (неорганические материалы часто сохраняются лучше, чем органические), географического распределения (столичные памятники изучены лучше, чем провинциальные), типов памятников (гробничные и культовые комплексы часто исследованы лучше, чем поселенческие, производственные или инфраструктурные), их престижности (памятники, создававшиеся для правящего класса, известны подробнее, чем предметы и их комплексы из менее элитных контекстов) и массовости (массовые категории памятников традиционно изучены лучше, чем редкие).
Вероятно, следует признать, что подавляющая часть событий и значительная часть процессов, которым были свидетелями древние египтяне, никогда не были ими отражены в письменном виде[113]. Из тех, что были задокументированы, очень немногие сохранились до нашего времени. Из тех, что сохранились, далеко не все были найдены. Из тех, что были найдены, не все опубликованы. Не все опубликованные тексты представлены достаточно полно, чтобы их можно было легко использовать в доказательной базе[114]. Наконец, порой бывает, что не все хорошо опубликованные надписи находятся в поле зрения или доступны конкретному исследователю. Оценить лакуны, возникающие на каждом этапе такого отбора, непросто. Это же в целом справедливо и для изобразительных источников с той лишь разницей, что появились они раньше, а сфера их употребления не была тождественна сфере употребления письменных памятников, хотя с ней значительно и пересекалась. Данные вызовы хорошо осознаются профессионалами, привыкшими работать с традиционными историческими источниками. Позднее я коснусь их подробнее в главе 8, посвященной государственным экспедициям за пределы Нильской долины. А пока перейдем к археологии.
Для историков, филологов или искусствоведов, которых среди специалистов по Древнему миру большинство, ограничения археологов могут быть не всегда очевидны. Формально любое физическое действие оставляет в материальном мире тот или иной след. Однако эти следы сразу начинают преобразовываться, подвергаясь естественным тафономическим процессам: органические материалы разлагаются, металлы подвергаются коррозии, архитектура – эрозии, следы стираются, изначальное положение артефактов (вещей) и экофактов (мягких тканей некогда живых организмов, скелетов, макро- и микроостатков растений и т. д.) нарушается, культурные ландшафты изменяются. Человеческая деятельность влияет на сохранность исторических «улик» о конкретном событии, явлении или процессе столь же сильно: постройки разбираются, памятники переиспользуются, металлические изделия переплавляются, погребения разграбляются, культурный слой нарушается, ландшафты преобразовываются. Парадокс артефактов и экофактов заключается в том, что иногда они могут казаться очень красноречивыми и объективными, но это зачастую иллюзия. Сами по себе, подобно уликами на месте преступления, они молчат, начиная говорить лишь благодаря аналитическим способностям следователя и технологиям. Иными словами, все материальные свидетельства являются таким же конструктом, полученным в результате интерпретаций, как и любые другие свидетельства. С одной стороны, это порождает свойственный археологам, – в особенности изучающим бесписьменные общества, – эпистемологический пессимизм, с другой – стимулирует творческие научные инновации в теории и методологии[115]. Проработав более 20 лет в различных археологических проектах, вынужден согласиться с расхожим мнением о том, что археологи, занимающиеся письменными обществами, а тем более письменным обществом с такой яркой и, казалось бы, красноречивой материальной культурой, как древнеегипетская, в среднем менее склонны к рефлексии относительно инструментов, используемых для превращения археологических данных в археологическую информацию и археологические свидетельства. Это не отменяет того, что они проводят с артефактами, экофактами или древними ландшафтами ту же интерпретативную работу, что и их коллеги из других регионов, просто качество этой работы может быть ниже, а результаты – хуже.
Возьмем для примера контакты жителей Нильской долины с территориями современных пустынь, и мы увидим множество лакун даже по трем самым очевидным вопросам:
1) Что египтяне искали?
Египтяне эпохи Древнего царства получали из-за пределов Нильской долины широкий набор минералов и органических ресурсов[116], а также дичь, скот и людей. Работая преимущественно с эпиграфическими источниками, а не хозяйственной документацией, которая почти не сохранилась, исследователю стоит готовиться к тому, что свидетельства о редких, но важных с политической, идеологической или культурной точки зрения событиях будут доминировать над свидетельствами о регулярных и вполне рутинных поставках или перемещениях ценностей и людей, которые потенциально имели большее хозяйственное значение[117].
Многие египетские термины, использовавшие для обозначения минералов[118] и органического сырья, поставлявшихся из ныне пустынных областей, не поддаются пока переводу. За редким исключением мы почти ничего не знаем о фактических объемах таких приобретений, конкретных источниках материалов, происхождении животных или переселенцев/пленных[119]. Археология здесь обычно может дать только самые общие ответы. К тому же археологам куда проще проследить перемещения предметов и материалов, чем выявить стоявшие за этим институты и ответить на вопрос о том, кем были добыты те или иные ресурсы. Нам действительно очень сложно судить, какие минералы и с каких месторождений египтяне были готовы добывать самостоятельно, а какие лишь обменивали у местных жителей в контактных зонах. В особенности это касается не самых ходовых минералов вроде слюды, графита, халцедона, полевого шпата, граната, горного хрусталя и пр.
Даже если мы оставим в стороне органические или малопрестижные дары пустынь и саванн, такие как шкуры, рога, смолы, лечебные растения, необычные камни и окаменелости, раковины, дерево, пигменты или мед, о которых – помимо археологии – данных практически нет, и возьмем лишь камень, шедший на строительство, саркофаги и скульптуру, ситуация все равно будет оставаться непростой. Даже проводившаяся в почти идеальных условиях попытка оценить объем добытого и использованного в Древнем царстве базальта (известны всего одни крупные каменоломни этого времени и практически весь добытый там камень шел на уже раскопанные царские погребальные и поминальные комплексы) дала результаты с двукратным разбросом[120]. Что уж говорить о других материалах, таких как травертин, кварцит, граувакка, диорит, которые разрабатывались на нескольких месторождениях, а затем находили широкое применение не только в более задокументированной сфере царского строительства и производства, но и далеко за ее пределами. Добавим сюда традиционную для египтологии проблему с определением материалов «на глаз» с последующим воспроизведением этих интерпретаций в литературе. Петрографические исследования с целью точного установления породы камня и источника его добычи очень редки, а когда они все же проводятся, полученные результаты не гарантируют безошибочных выводов[121].
То же самое касается другого важнейшего вида сырья – металлов. Возьмем, к примеру, медь. Нам известны основные районы добычи использовавшейся в Древнем царстве меди: Синай и Восточная пустыня, Нубия, Азия и Пунт, – но оценить фактическое значение поставок из этих регионов, их соотношение в общем балансе поступления металла в египетскую Нильскую долину и дельту в конкретные исторические периоды мы пока не можем. Изотопный анализ свинца в медных сплавах помогает установить происхождение руды, из которой был сделан предмет. Но ограничением остается очень небольшое количество опубликованных сравнительных данных изотопных исследований образцов с древних месторождений. Такая ситуация не позволяет пока даже приблизиться к оценке роли не только конкретных разработок, но и целых регионов добычи в обеспечении населения Нильской долины важным металлом[122]. На это накладывается и проблема существующей выборки: находившиеся в обороте медь и бронза очень ценились, и изделия из них многократно переплавлялись, поэтому большая часть дошедших до нас металлических предметов происходит из погребений или контекстов, связанных с культом и ритуалом[123], где у них шанс археологизироваться был выше. Если географическое происхождение медной руды имело значение в культуре (если, например, какие-то месторождения считались символически более значимыми или священными) или экономике (если, например, у государственных и частных мастерских были разные источники сырья), то имеющаяся у нас выборка может оказаться к тому же еще и нерепрезентативной для изучения источников минералов и объемов их добычи.
В завершение добавлю еще один штрих к пониманию масштабов нашего незнания. На типологическом этапе считалось, что единственным известным египтянам медным сплавом была оловянистая бронза, которая стала широко появляться в Нильской долине со Среднего царства[124]. Однако изучение элементного состава медных изделий на контекстуальном этапе изменило эти представления. Выяснилось, что широко распространенной искусственной добавкой к меди на протяжении всего III тыс. до н. э. в Египте был мышьяк, который мог значительно увеличивать прочность и блеск изделий. В эпоху Древнего царства мышьяковистые бронзы, видимо, были основным материалом для металлических орудий и оружия[125]. При этом мы пока совершенно не знаем где и как в это время добывали или откуда получали мышьяк древние египтяне[126], как он назывался тоже неизвестно. Такие вопросы – в действительности важнейшие для изучения хозяйства и экономики Древнего царства – пока в литературе серьезно не ставились.
2) Как египтяне перемещались?
Многие караванные пути реконструируются гипотетически. Если ранее в основе реконструкций лежали преимущественно разведки отдельных участков на местности с опорой на следы животных, материальную культуру и эпиграфические свидетельства, то теперь, когда поверхность пустыни значительно нарушена, в основе гипотез часто лежит анализ спутниковых данных или пространственный анализ рельефа местности и расстояний[127]. Порой результаты, полученные при изучении материальных свидетельств и цифрового рельефа местности, входят в противоречие из-за сложностей с учетом дополнительных факторов, таких как, например, древние источники воды. Отделить следы караванов ослов (илл. 11а) времени фараонов от следов более поздних римских или средневековых верблюжьих караванов бывает возможно при разведке на местности или при анализе способов преодоления сложного рельефа[128], но более точную датировку способна дать только материальная культура[129]. А она не всегда сохраняется в достаточном количестве, особенно если по путям перевозили преимущественно контейнеры из органических материалов (скажем, корзины, мешки и бурдюки вместо керамических сосудов). Найденная же в пустынях керамика недвусмысленно говорит только о перемещении вещей, но становится куда менее определенным свидетельством, когда речь заходит о возможном перемещении людей. Вот характерный пример: яркое обнаружение египетской мейдумской чаши времени IV или V династии в Вади Шоу[130] в 320 км к западу от III нильского порога и 550 км к юго-западу от оазиса Харга может свидетельствовать о присутствии египтян в этой крайне удаленной местности (и тогда это будет точка на карте для реконструкции караванных путей, которые использовали древнеегипетские экспедиции), но может говорить и о простом перемещении вещей в результате обмена или грабежа, который осуществляли местные кочевые группы. Петроглифы или надписи могут быть более надежными свидетельствами физического присутствия носителей конкретных культур, но опять же не всегда: иногда речь может идти о заимствовании отдельных знаков или изображений.
3) С кем египтяне взаимодействовали?
В археологическом плане население пустынь известно в основном по небольшому набору свидетельств: скромной материальной культуре, петроглифам и погребениям. Стоянки скотоводов III тыс. до н. э. почти невозможно обнаружить без разведок непосредственно на местности; следы таких лагерей, в особенности непродолжительных, обычно очень скромны и невыразительны. Свидетельства установки легких конструкций выявить крайне тяжело, чаще находят кострища, хозяйственные ямы, районы мастерских. Нередко предметы разного времени, разделенные тысячелетиями, могут лежать на одной и той же поверхности, где культурный слой оказывается разрушен или не успевал формироваться[131]. Некоторые археологические культуры известны преимущественно по некрополям, однако в какой степени география найденных захоронений соответствует ареалам фактической активности представителей этих культур – тоже вопрос без четкого ответа. Численность древних жителей ныне пустынных областей Египта и Судана оценить также непросто, поскольку не хватает данных о социальной структуре отдельных групп и их объединений, их институтах и доступных природных ресурсах.
Итак, объективная оценка границ и качественных характеристик нашего незнания является очень серьезным вызовом. Вторая крупная проблема – это согласование разных типов и видов данных для реконструкции более полной общей картины. Один из крупнейших инноваторов в истории археологии сэр Р.Э.М. Уилер однажды емко и удачно сформулировал основную проблему археологического источника: «Археолог может найти бочку, но при этом совершенно не заметить Диогена»[132]. Вероятно, Диогена можно попытаться найти сообща благодаря междисциплинарности. Но, во-первых, дошедшие до нас письменные, изобразительные и материальные источники часто повествуют о фактически непересекающихся событиях, явлениях и процессах – и это важнейшая проблема. А во-вторых, чтобы данные было легко сравнивать и анализировать, они все же должны быть однородными. Это касается обоих основных типов данных – и количественных, и качественных. В рамках одного вида данных (в нашем случае это могут быть числа, тексты, изображения, материальная культура) однородности достичь можно, хотя не всегда легко. Но вот согласовать разные виды и тем более типы данных куда сложнее. Классический пример – это соотнесение археологических культур (материальные данные) с известными этнонимами/псевдоэтнонимами (письменные и изобразительные данные)[133] или согласование письменных и изобразительных данных о древних природных и культурных ландшафтах с данными археоботаническими, археозоологическими и палеоэкологическими, о чем еще пойдет речь ниже.
Третья проблема – это оценка масштабов изучаемых явлений и траектории развития выявленных процессов. Я упоминаю о ней в последнюю очередь, так как она тесно связана со всем, что было сказано выше. Для ее преодоления необходимо четко понимать границы незнания и стараться согласовывать как можно больше разнородных данных. При этом успех все равно не гарантирован. Следует признать, что для большинства явлений и процессов в жизни древнеегипетского общества эта задача еще не решена. Письменные и изобразительные источники фиксировали в основном события (причем далеко не всегда реальные), культурный слой или естественные отложения также формировались из контекстов, отражающих конкретные события. Группируя события в кластеры и последовательности, мы выдвигаем гипотезы о существовании типичных явлений и процессов. На этом этапе есть много опасностей, в частности, опасность не заметить систематических ошибок отбора, таких как ошибка выжившего. В археологии и истории нередко случается так, что по одной группе акторов или событий («выжившим») наблюдается относительный избыток данных, а по другой («погибшим») их практически нет. В результате можно искать общие черты у «выживших» и упустить из виду не менее важную информацию, которую несут о некогда существовавшей единой картине «погибшие». Лучший пример, пожалуй, – это официальные экспедиционные надписи первой половины Древнего царства («выжившие»). Их число явно не соответствовало числу реально организованных государством предприятий («погибшие»), а сами они, естественно, никак не отражали возможную деятельность на тех же месторождениях не связанных с государством групп (другие возможные «погибшие»).
Повторяющиеся и связанные между собой явления, рассмотренные в диахронической перспективе, позволяют судить об исторических процессах: освоении выходцами из Нильской долины внешней ресурсной базы, изменении масштабов древнеегипетского государства, эволюции древних экспедиционных центров, развитии провинциальных элит, аридизации климата, формировании сообщества экспедиционных участников, усовершенствовании методов добычи полезных ископаемых и т. д. Следует при этом помнить, что многие процессы и в культуре, и в природе не происходят линейно. Они могут испытывать воздействие цикличных (например, сезонных изменений или циклов солнечной активности) и случайных факторов (например, вторжений, наводнений, болезней и т. д.). В результате траектория развития процесса может быть очень замысловатой[134]. Так, рост масштабов проникновения египетского государства в жизнь населения Нильской долины и окружающих территорий[135] не исключал временных откатов к предыдущим состояниям, изменений вектора развития, ускорений или замедлений по объективным (например, климатическим, политическим, экономическим) или субъективным (например, в силу личных качеств правителей) причинам. Поскольку из-за неполноты данных мы не имеем доступа к значительной части «контрольных точек», восстанавливаемые траектории развития процессов могут серьезно отличаться от древней реальности. Это следует иметь в виду, особенно когда речь заходит о поиске взаимосвязей между разными процессами. Например, технологическими и экономическими или климатическими и политическими.
1.3.2. Проблемы хронологии
Для сопоставления событий, явлений и процессов необходима общая хронологическая канва, в которую можно укладывать все имеющиеся виды данных и свидетельств. Относительная хронология Древнего Египта постоянно совершенствуется, однако существует множество нюансов, которые препятствуют созданию бесспорно надежной хронологической схемы. Особенно сложна ситуация для наиболее ранних этапов развития древнеегипетской цивилизации, к которым относится и Древнее царство. В III тыс. до н. э. много спорных вопросов, связанных с установлением порядка восшествия египетских властителей на престол, числа правителей и продолжительности их царствования, что связано с большими лакунами в источниках и не совсем понятными правилами счета лет[136]. Помимо задачи усовершенствования относительной хронологии египетских правлений, которая чрезвычайно важна для историков, филологов и искусствоведов, не менее насущной задачей является привязка такой хронологии к абсолютным датам. Это особенно важно археологам и специалистам, изучающим Древний Египет в контексте соседних культур или глобальных изменений (например, климатической истории). Сделать это можно, сопоставляя данные из письменных источников с астрономическими событиями, связывая ориентацию некоторых построек с положением небесных тел или используя радиометрические методы датирования, из которых наиболее распространенным является радиоуглеродное датирование. Кроме того, предпринимаются попытки развивать применительно к египетским материалам дендрохронологию[137]. У каждого из этих способов есть серьезные ограничения.
В современной отечественной науке проблемы относительной древнеегипетской хронологии рассматриваются редко, а ее привязка к абсолютной хронологии III тыс. до н. э. в последнее время обсуждалась в основном лишь в связи с идеей О. Д. Берлева об отождествлении царя Сену/Тосортроса/Менофриса, введшего в Египте «календарь Сотиса» и солнечный год, с Нечерихетом (Джосером). Гелиакический (первый после периода невидимости) восход Сотиса (Сириуса), от которого тогда, согласно традиции, был начат отсчет новой эры, принято относить к периоду между 2788 и 2767 гг. до н. э. Следуя за гипотезой О.Д. Берлева, правление Джосера и начало Древнего царства следует датировать первой половиной XXVIII в. до н. э.[138] Пока это плохо согласуется как с наиболее разработанными современными хронологиями, так и с имеющимися радиоуглеродными датировками, которые относят начало царствования Джосера на столетие позже с пиком вероятности около 2670–2640 гг. до н. э.[139] Впрочем, недавно обнародованные радиометрические данные могут изменить эту картину и удревнить начало III династии[140].
О проблемах египетской хронологии в целом и Древнего царства в частности существует обширная литература[141]. И хотя авторы современных хронологий стремятся учитывать весь комплекс доступных данных, нехватка источников приводит к тому, что в нашей науке продолжают использоваться два основных варианта хронологии – «длинная», где все даты несколько древнее, и «короткая» (рис. 1). Разница между ними для начала Раннединастического периода может достигать в среднем 150 лет, для эпохи Древнего царства составляет порядка 100-50 лет и к Новому царству, по мере увеличения числа источников, сокращается до десятка лет. Кроме того, несколько отдельно существуют хронологии, базирующиеся преимущественно на радиометрических или астрономических данных. В результате восшествие на престол Хуфу, правление которого оказало важнейшее влияние на развитие древнеегипетской экспедиционной инфраструктуры за пределами Нильской долины и дельты, в современной литературе относят к 2636–2606[142], 2613–2577[143], 2589[144], 2554[145], 2509[146] и даже 2480 ± 5 гг. до н. э.[147] Точными датами египтологи оперируют с 690 г. до н. э.[148]
Рис. 1. Сравнение современных хронологий (Древнее царство и Первый переходный период)
Тема настоящей книги требует сопоставления времени правления отдельных династий и царей с событиями и процессами в естественной истории Северо-Восточной Африки и археологией бесписьменных обществ, памятники которых датируются почти исключительно с помощью радиоуглеродного анализа. Соответственно, наиболее логичным будет придерживаться хронологии, которая в наибольшей степени соответствует современным радиометрическим данным. За последние десятилетия радиоуглеродная хронология Египта была серьезно уточнена. Стало, в частности, понятно, что она находится в гораздо лучшем согласии с «длинными» хронологиями. При сопоставлении разница для отдельных правлений Древнего царства в этом случае укладывается в несколько десятилетий, что особенно вдохновляет археологов[149]
