Блеск и ярость северных алмазов
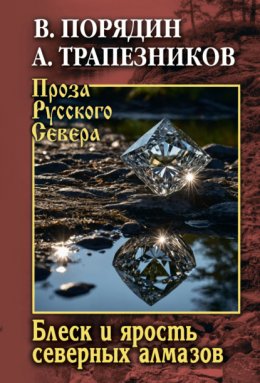
© Порядин В.А., Трапезников А.А., 2025
© ООО «Издательство „Вече“», оформление, 2025
Посвящается Любови и Евгении
Прелюдия к алмазной симфонии
Блеск алмазов не может ослепить человека. Слепит ярость вокруг них. А никакого сияния нет в помине. Спросите геологов. Заденешь ногой какой-нибудь камешек, он отлетит в сторону, и ты пройдешь мимо. А это алмаз. И он совершенно неказистого внешнего вида. Его форма может быть разной. Куб, восьмигранник, а то и вовсе непонятное строение. Да и на поверхности земли алмаз встретишь чрезвычайно редко. Если только не случилось в прошлом какого-либо извержения магмы.
Вот скажите: откуда об этом мог знать простой помор Михайло Ломоносов, предсказавший еще два с половиной века назад, что в ста километрах к северо-востоку от Архангельска найдут алмазы? То есть откроют два самых крайних северных месторождений в России? Одно потом в честь великого ученого в конце XX века так и назовут Ломоносовским, другое станет Верхотинским. А всю территорию отныне будут обозначать на специфических картах «Архангельская алмазоносная провинция».
В современной России есть только три компактные группы таких месторождений, в трех территориально разобщенных северных регионах. Якутские алмазы были открыты еще в 50-х годах при советской власти. Есть немного в Пермском крае. Запасы их разведаны. В Якутии более 80 % всех российских алмазов. И почти стопроцентная добыча. Для сравнения, в Пермской области всего лишь мизерные цифры, не достигающие даже одной целой процента.
А вот данные по «Архангельской алмазоносной провинции» были до конца 90-х годов засекречены. Но кому надо, тот знал. Это напоминало шпионский политический детектив. Разведчики есть всюду. Но и контрразведка не дремлет. Борьба между ними за архангельские алмазы велась, как водится тайно, под ковром и из-за угла.
Самый крупный мировой производитель, скупщик и распределитель алмазов – это южноафриканская горнодобывающая корпорация «Де Бирс», со штаб-квартирой в Лондоне. В России – это якутская компания «АЛРОССА». Еще в далеком 1959 году Минвнешторг СССР в лице Анастаса Микояна заключил первый контракт на продажу советских ювелирных алмазов корпорации «Де Бирс».
Говорят, что по сложившейся традиции «Де Бирс» не оформлял письменно секретных соглашений. Они скреплялись рукопожатием. Как у купцов-староверов. Если это правда, то воздадим историческое должное сухощавой ручке непотопляемого сталинского наркома. Армяне – древняя и славная торговая нация, идеология висит где-то сбоку.
Но политика апартеида в ЮАР портила реноме советских граждан с лозунгом «Борьба за мир и свободу Анжеле Дэвис!». Хотя угнетенные негры на юге Африки сами любили на своих тайных сходках в джунглях превращать белого человека в чернокожего. Как? Вешали тому на шею автомобильную покрышку. Обливали её бензином, били в тамтамы, плясали и завывали вокруг в африканских ритмах. А потом поджигали.
Командовал ими не кто иной, как Нельсон Мандела, будущий президент ЮАР, великий гуманист и любимец всех демократических сил планеты. Плюс лауреат Нобелевской премии мира за 1993 год. Как раз в этот год и начинается действие нашего романа. Но он не о Черном континенте, а о Севере России, точнее, о накале страстей вокруг архангельских алмазов в то уже далекое время…
А пока советскому правительству приходилось искать другие тайные тропы для экспорта алмазов. Создавать уже тогда фиктивные фирмы и «дочки». Очень скоро они со своей продукцией приобрели широкую известность. Нити тянулись к «Ювелирторгу». «Де Бирс» новые конкуренты не понравились. Ей вообще ничего не нравится, кроме алмазов.
Как быть, чтобы сохранить свою монополию на мировом рынке? Думали-гадали, а может, вообще развалить весь этот Советский Союз к чертовой бабушке, чтобы не путался под ногами? Никто еще не рассматривал такую фантастическую версию? Конспирология в жанре «Заговора рептилоидов», в котором главные авторы – топ-менеджеры «Де Бирс». Как вам?
На Крайнем Севере активная фаза геологии и добычи алмазов совпала с перестройкой и началом хаоса во всех сферах жизни страны. В это время за «камешками» ринулись все, кому не лень, кто имел хоть какие-то возможности и деньги. Блеск бриллиантов побудил российские и иностранные фирмы, высоких чиновников, бизнесменов, криминал и прочий «нехороший люд» вступить в борьбу за алмазы в Архангельске.
В начале 90-х годов в стране простому человеку попросту кушать от переизбытка чувств было нечего, и какое ему дело до всего этого бриллиантового мордора? Одна ярость в глазах. Пойдешь на любой шаг, чтобы только прокормить семью. Зайдешь в магазин, а там пустые прилавки или товары по талонам. За водкой и куревом давились особенно люто, с ненавистью друг к другу.
Но на мировом рынке Россия продолжала оставаться одним из крупнейших производителей алмазов. Устойчиво занимала второе призовое место после Ботсваны. Позади неё шли ЮАР и Ангола. А вот доля государства в производстве бриллиантов была всего 5,5 % от мирового объема. Ювелирных изделий в процентах и того меньше. Сказать стыдно. Где уж ей тягаться с «Де Бирс»! Которая даже не страна. Но больше, чем государство.
Ну, как бы то ни было, а начиналась серьезная разведка алмазных месторождений в Архангельске. И самое важное из них было Ломоносовское, представленное шестью кимберлитовыми трубками, образующими цепочку длиной почти 10 километров. Сам Ломоносов только-только успел покинуть Холмогоры, получив «пашпорт» в воеводской канцелярии за рукою тогдашнего архангельского начальника Гришки Воробьева, а тут-то все главное, всего лишь через 260 лет, на его родине и началось. По историческим меркам – срок минутный. Можно сказать, плёвый.
А что представляет собой алмаз? Он формируется на больших глубинах под воздействием высокого давления. Бывает разных оттенков и переливов. Каждый алмаз со своими особенностями. Трещинки, пузырьки воздуха, небольшие сколы, пустоты. Именно эти дефекты позволяют легко определить, настоящий ли перед тобой алмаз или синтетический. Минерал, выращенный в лабораторных условиях, совершенно чист.
Жужелица в коконе со временем становится прекрасной бабочкой. Гадкий утенок превращается в лебедя. Вся прозрачность алмаза до огранки спрятана внутри него. Как солнечный свет, готовый прорваться сквозь черноту тучи. Ну а затем наступают настоящие сражения и войны. Алмазы сами идут в бой. Камень имеет душу. Как дерево или цветок. И она защищает себя.
В этой «пищевой цепочке»: геологоразведка – освоение месторождения – организация добычи – огранка – продажа в ювелирных магазинах и на аукционах, все звенья таят свои секреты, а людей подстерегает опасность. Прежде всего угроза внезапной слепоты, глухоты и безумия. Хотя, казалось бы, особой нужды и смысла в бриллиантах нет.
Ну, кроме как покрасоваться на светском рауте. Алмаз ведь не кусок хлеба в лютый голод и не глоток воды в пустыне. Это всего лишь мираж. Но роскошь сама по себе толкает на новые и любые преступления. Не Маркс ли заметил? Не важно. Но факт неоспоримый: на этом людском маскараде царят многие грехи, вроде убийства, блуда, гнева, гордыни, алчности, зависти. Да и отчаяния тоже. А бал там правит Сатана, с самым ярым отблеском мрака из преисподней.
Все это знают, но противиться может не каждый. Не поможет, даже если у него с утра до вечера будет звучать в ушах ария Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст». Лучше в исполнении великого Шаляпина. Записи его непревзойденного голоса еще сохранились:
- «На земле весь род людской
- Чтит один кумир священный,
- Он царит над всей вселенной,
- Тот кумир – телец златой!
- В умилении сердечном,
- Прославляя истукан,
- Люди разных каст и стран
- Пляшут в круге бесконечном…»
Под эту арию и пойдет повествование. А злато или алмаз, какая разница? Все равно пляски вокруг них напоминают пируэты и ужимки Фигаро. Кстати, главный девиз и лозунг компании «Де Бирс» со дня её основания, такой: «Бриллиант – вечный дар любви». Хорошо сказано, как ни крути. Ключевое слово в этой фразе – любовь. А где любовь, там часто случаются и преступления.
Глава первая
Увертюра в ритме «Севильского цирюльника»
В июне 1993 года в одном частном доме в предместье Архангельска, на острове Соломбала, в бывшем историческом селении корабелов, был найден труп пятидесятидевятилетнего хозяина. Одинокий мужчина скончался от огнестрельного ранения в голову. Рядом валялся пистолет. Следов борьбы или ограбления не было.
Что это? Убийство или самоубийство? Предсмертной записки не обнаружили. На здоровье этот человек, занимавший высокий пост в определенных структурах, так скажем, не публичных, не жаловался. Каких-либо неприятностей по службе тоже вроде бы не имел. Следствие зашло в тупик…
Если Архангельск образно называют «воротами в Арктику», то Соломбалу де-факто можно смело можно считать преддверием Арктики. Это в широком смысле группа островов внутри дельты Северной Двины, которая через десяток километров впадает в Белое море. Наверное, мужчине, купившему три года назад этот дом, как каждому горожанину, иногда хотелось убежать от суеты мегаполиса в тишину патриархальной жизни. В Архангельске это сделать очень просто.
Достаточно лишь миновать мост через Кузнечиху, и вы окажетесь в двух измерениях: в современном городе с многоэтажками – и в почти деревенской глуши с деревянными домиками, расположенными на берегах узкой речки, где летом качаются на воде лодочки и катера. Подобные финно-угорские названия «водяного места» очень часто встречаются у местечек на берегах северных рек, Белого моря и на Мурмане, где жила «чудь белоглазая».
Первое упоминание о Соломбале относится к XV веку. В официальных источниках обычно фигурирует дата 1471 год, когда в летописях было зафиксировано, что ряд северных земель отошёл от Великого Новгорода к Москве. Первыми насельниками Соломбалы могли быть монахи. Мужчина, убитый и застрелившийся на этом острове спустя пять веков, тоже вел монашествующий образ жизни. Жена ушла, детей не было.
Название поселения Соломбала всегда было овеяно мифами и легендами. Иногда страшными. Народные предания из уст в уста передают, что когда Петр Первый приехал на Север и построил здесь первый российский корабль, то на бале по случаю его спуска на воду, чем-то сильно опечаленный, он вдруг в сердцах произнес:
– Ох, и солон же мне этот бал!
И уехал с него. А один из его любимых сподвижников перед тем внезапно тут же и помер. То ли сам отравился, то ли ему помогли принять яд, чтобы больше не воровал так много. Другие тоже хотят кушать. Точная причина неизвестна, как и в этом случае лета 1993 года. Но название «Соломбала» осталось.
А вот по поводу кручины Петра версии тоже расходятся: то ли из-за гибели сподвижника, то ли его расстроила «супружница» Екатерина I. Причём рассказчиков не смущает тот факт, что в момент приездов царя в Архангельск у Петра была другая жена – Евдокия Лопухина, а с Екатериной он ещё знаком не был.
Но это место не случайно приглянулось молодому царю, по указу которого в 1693 году здесь была заложена Соломбальская государственная верфь. Пётр приказал двинскому воеводе, стольнику Фёдору Апраксину построить здесь 12-пушечный фрегат «Святой Павел».
И, по преданию, в следующую навигацию сам лично подрубил опоры при спуске на воду первенца российского флота, на котором был поднят триколор, размером почти пять на пять метров, «флаг царя Московского». С 1705 года он был учреждён как штандарт для всех российских кораблей.
Впрочем, сейчас не о том. Смерть хозяина небольшого дома на острове Соломбала, где было когда-то положено начало отечественному судостроению, послужила толчком ко многим далеко идущим событиям (или в череде их), вплоть до конца XX века. И мифом или легендой не стала.
…За две недели до этого происшествия Александр Ясенев сидел по служебной надобности в кабинете начальника геологоразведочных партий в Архангельске Константина Баркова. Называлось его детище «Северная геология», и оно пока что являлось государственным ведомством. А параллельным курсом уже взросла получастная акционерная контора «Архангельскгеология», где заправлял Сергей Свиридов. С ними обоими Ясенев был давно знаком, еще по Якутску.
И вот Барков решил вдруг похвастаться обнаруженными на Ломоносовском месторождении алмазами. Вызвал секретаршу:
– Таня, зайди и покажи, что там у тебя есть. Продемонстрируй.
– Я уже оценил её фигурку в приемной. Высший класс, – пошутил Ясенев.
– Ты еще не всё видел, Александр Петрович.
– Да ладно! Может, не надо всё-то?
– Надо. Вздрогнешь.
Очевидно, главный геолог заранее договорился с секретаршей, чтобы произвести эффект на полковника госбезопасности. Таня не замедлила появиться с кульком бумаги. Развернула его и высыпала на стол горку мелких, мутных, грязных стекляшек. Да еще сопроводила милой улыбкой и фразой:
– Глядите, какая красота!
Но впечатления на Ясенева они не произвели. Это было его первое знакомство с алмазами Архангельска. Якутские по роду занятий он уже видел, но они мало чем отличались друг от друга. Разве что те были крупнее.
– Вижу твое разочарование, – усмехнулся Барков. – А теперь взгляни в микроскоп.
Картина, безусловно, была другой. Конечно, не сияющие в витринах и на прилавках ювелирных магазинах бриллианты, но сейчас можно было увидеть и прозрачность камней, и блеск на их гранях. Ясенев смотрел долго. А думал о том, что эти «стеклярусы» могут принести много дохода дырявой с начала 90-х годов государственной казне. Если ими распорядиться с умом. Но и много бед отдельным нехорошим корнеплодам, типа «редисок». Если их не остановить вовремя, то есть не пересадить на другую почву.
– Не вздрогнул? – наблюдая за лицом Ясенева, теперь уже сам разочарованно спросил главный геолог. – А ведь цена на них зашкаливает.
– Правда? А бирку что ж не прикрепил? Танечка, забирай назад эти бусы для ирокезов. А если у тебя в сейфе найдется еще кофе с бутербродом, то буду просто счастлив. Как прилетел в аэропорт, так и не завтракал.
– Слышишь, Татьяна? Выполняй! – приказал шеф. – Угости гостя с нашим поморским размахом. Алмазы пока оставь.
– А теперь, Константин Сергеевич, не будем терять время. К делу. О ситуации на месторождениях. Дошли слухи, что участились случаи хищений.
– Слухи или факты? Мне ничего не известно.
– А жареные статьи в газетах ты не читал? – усмехнулся Ясенев.
Второе Главное Управление, в котором он работал, считалось элитным подразделением. Чисто контрразведывательным. Он занимал в нем должность начальника контрабандного отдела, курировавшего экономические и финансовые преступления, коррупционные схемы, криминал. А еще отвечал за обеспечение безопасности алмазодобывающей отрасли. В сфере внимания его службы находились Якутские и Архангельские месторождения.
– Не всё в газетах голая правда, – проворчал Барков.
– Вернее, не всю голимую правду пишут.
Беседа стала приобретать официальный тон.
– Это ваши личные выводы, товарищ Ясенев, или органов?
– В нашем случае, господин Барков, я и есть этот самый орган. Скажем, Рука. Но выводы будем делать после знакомства с документами. И системой контроля на приисках.
– «Рука», значит? – понимающе кивнул Барков. Хорошо хоть, не подмигнул. И продолжил: – Охрану и контроль налаживали местные чекисты. Мы с ними в полном контакте, как и с милицией. Может, пригласим начальника Управления ФСК по Архангельской области генерала Смирнова?
– Не надо. Он меня в аэропорту встречал. Уже коротко переговорили. Сейчас с ним предметно беседует мой зам подполковник Демидов. А капитан Ряжский изучает оперативную обстановку с вашим полковником Тарлановым на месторождениях. После разговора с тобой присоединюсь к ним, проедемся по всем объектам. Беремся за вас всерьез, Костя. Так что выкладывай все материалы по своей «Северной геологии», не тяни.
Барков вздохнул и полез в сейф за папками. Выложил их на стол, а горку алмазов на листе бумаги, чтобы освободить место, механически сдвинул в сторону Ясенева. Это нарочитое движение не укрылось от внимания полковника. Но он только усмехнулся и произнес:
– Костя, зови Танечку. Пусть все-таки уберет этот бисер, а то спихнем на пол, ползай потом на коленках, собирай.
Барков издал один-единственный звук:
– Упс!
Номер не прошел.
Что самое забавное, но на следующий день тот же самый «номер» буквально точь-в-точь повторился в кабинете начальника «Архангельскгеология» Сергея Свиридова. Вполне возможно, что Барков намеренно подставил конкурента, слив тому дезу, что с приехавшим контрразведчиком можно уладить тихо и полюбовно. Были бы неучтенные алмазы. А они имелись, и горка на столе Свиридова возросла вдвое. Потом пришлось уже его секретарше забирать их обратно.
Ясенев знал, что второй главный геолог имел намерение и реальные возможности стать первым. То есть монопольным в области. И не только в разведке алмазных месторождений, но и в организации производства по добыче. А если «крепко повезет», то и в реализации алмазов.
Но тут у него было много других конкурентов. Прежде всего, стремительно набирающая обороты акционерная компания «Севералмаз» во главе с Григорием Барановым. Остальные лошади на этом алмазном ипподроме в заезде на бриллиантовые призы слегка отставали, но шли ноздря в ноздрю. Короче, у Ясенева было много головной боли, чтобы распутать весь этот змеиный клубок, надо было лишь найти ту нить, за которую следовало тянуть.
– Сережа, показывай материалы по алмазам, не тяни, – почти повторил он ту же фразу. – У меня еще с Барановым стрелка забита.
А в ответ тот же звук:
– Упс! Ладно. Удачи тебе, Сашок. Может быть, Грише повезет больше, чем мне с Костей.
Все три алмазных начальника хорошо знали друг друга еще по Якутии, где в городе Мирном были просто советскими людьми, «совками», даже дружили. Кто-то верховодил партией геологов, кто-то бригадирил на добычи алмазов, кто-то вкалывал мастером на производстве. Играли за одну волейбольную команду, а сколько рюмок опрокинули в то время – и не счесть.
Ну а Ясенев там начинал курировать промышленную добычу алмазов по линии КГБ. И со своими объектами сходился легко и быстро. Потом Костя, Гриша и Сережа перекочевали в Архангельск, на новые месторождения. Все они были востребованными профессионалами. Стали руководить. Но уже не были «совками».
Перестройка многому научила. А после развала СССР вообще открылись невиданные возможности. Упустить их на хлебном месте – значит подписать медицинское свидетельство о признании себя полным идиотом. А если уж переходить на итальянский язык, то idiota patentato.
Но для того чтобы воспользоваться столь судьбоносными шансами, требовалась малость. Всего-то вытащить из глубин «эго» первобытную память, отрастить из рудиментного копчика волчий хвост, набить на локтях мозоли и заточить зубы под клыки. А время ведь разводит в стороны не только влюбленные и семейные пары. Заклятых друзей тоже.
К слову, Ясенев прилично знал несколько европейских языков. Связано это было не только со службой, с необходимостью командировок туда-сюда, но он еще любил вместе с женой Лизой посещать разные страны Старого Света и изучать там культурные развалины. Ну, ладно, «достопримечательности», чтобы не обижать европейцев. А у супруги вообще работа была такая – налаживать дипломатические отношения со своими коллегами из зарубежных стран по линии «ЮНЕСКО».
Поэтому Ясенев вполне бегло мог бы на итальянском выразить конкретно каждому из этих алмазных оборотней, бывших приятелей, Косте, Сереже и Грише, свое мнение:
– Tu sei un idiota patentato che fa cose stupide e crudeli, anche se forse hai un cuore gentile.
Это было бы гораздо деликатнее, чем сказать по-русски:
– Ты просто патентованный идиот, который совершает жестокие и тупые поступки, хотя, возможно, у тебя и чистое сердце.
У истоков хорала «Афера века»
– Открылось небо над тобою, ты слушал пламенный хорал… Ты был осыпан звездным цветом… – сочинял Блок. Да, красиво. Как и хоралы Баха. Но к многоголосному полифоническому звучанию эпохи Возрождения «Афера века» в начале 90-х годов отношения не имела. Хотя «звездным цветом» её участники осыпаны были. В основном зеленым, в виде банкнот, напечатанных под звездно-полосатым флагом.
…Козочка родилась на окраине Архангельска в бревенчатом доме с огородом. Была слаба и еле блеяла тоненьким голоском, взывая к жалости. Мама-коза и козел-папа, местные торгаши и спекулянты, думали, что не выживет. Но он, поскольку это был козлик, наперекор всему, проявил недюжинную тягу к жизни, обманув все ожидания. Потом окреп и встал на ножки. И в дальнейшем соответствовал своей козлиной природе – разжалобить всех, а в награду получить дармовую хрустящую «капусту».
В пятнадцать лет отрок вымахал под метр восемьдесят, весил мало, а голосок сохранил тонкий, бабий, с фальцетом. Козочке в школе даже не надо было придумывать никакого прозвища. Так все, включая учителей, его и окликали:
– Козочка, подь сюды! Козочка, с дневником к доске!
Потому что и была настоящая фамилия шустрого паренька с оттопыренными ушами, типа рожек. Особенно издевался старшеклассник Юрка Жогин, заставляя его при всех, даже девочках, спускать штаны с трусами и громко признаваться в том, что он «козел вонючий, дрочила и «ноль без палочки», а потом блеять, хрюкать и кукарекать.
Еще злобствовали из параллельного класса, где учились дети армянской и грузинской диаспоры в Архангельске. Мстительный Козочка их всех хорошо запомнил. Братья Тигранян, Эдмонд и Гамлет. Еще Ашот, Арахамия, Маргания… А месть как холодное блюдо, отложил на потом. Холодец подождет, не портится.
А откуда взялась эта фамилия, рассказывал его дед, знатный щипач со стажем:
– Паспортист был в дугу, совсем в ноль. Я ему: ты пиши правильно, буквы-то хоть видишь? Ка-за-чок. Чего не ясно? А он мне: не учи, козел! Как надо, так и нацарапаю. Ну, вот и выдавил из себя. Я уж дома, когда открыл паспорт, гляжу: Козочка. Ладно, думаю. С лица воду не пить. Хорошо хоть не Козоблядь какая-нибудь. А мог.
К выпускному классу Козочка научился финтить и шустрить еще больше. Обыгрывал краплеными картами приятелей, ссужал им деньги в рост, разбавлял на продажу водку и химичил с вареными джинсами. За что был неоднократно бит. Тем же Жогиным, до крови. Когда стукнуло шестнадцать лет, он пришел получать паспорт. С твердым желанием изменить свою дурацкую фамилию, доставшуюся от этих козлов-предков.
А паспортист был в возрасте его дедушки, который отбывал очередное наказание на свежем воздухе в мордовских лагерях. Может быть, тот же самый. Он уже не был в хлам, ну, если только слегка. И, пожалев мальчонку, сказал, что изменить в метрике может только одну буковку, кроме первой, а их число оставить прежним. Выбирай сам.
Козочка задумался. Ведь известно, как корабль назовешь, так он и поплывет. Прикидывал и так, и этак. Все время получалась какая-то дребедень. Тогда он решил поменять в последнем слоге «а» на «о». Выходило что-то среднего рода, иностранное и загадочное. Как граф Калиостро. И не поймешь, на каком слоге ставить ударение. Паспортист усмехнулся, вписал и торжественно вручил ему исконно-полосконный документ, удостоверяющий новую личность гражданина Советского Союза:
– Держи, Родион Козочко! Тюльпанов нет, но могу угостить водкой. За твой счет. Беги в магазин.
Через четыре года наступила перестройка, как день Победы для повзрослевшего козленка. Он понял, что пришло его настоящее счастливое времечко. Не надежд и ожиданий, а время Икс для заветных свершений. Всё летело кувырком в бездну, переворачивалось с головы на ноги. Хаос уже пролез во все щели и окна и хозяйничал внутри Дома.
Теперь надутые граждане уже не шипели ему со злостью в спину:
– Козел вонючий!
А почтительно произносили:
– Умеет же, сволочь козлиная, жить!
А Родиону всегда было все равно, кто и как к нему относится. Главное, была бы у граждан рублевая масса, а еще лучше – валюта. Занялся он и спекуляцией с долларами, потом видаками, еще чем-то, вроде продажи подросткам нюхательного клея, а их папашкам – дурноты во флакончиках, под видом «боярышника». Он приобрел первоначальный капитал для рывка вперед – к заоблачным вершинам дикого рыночного капитализма.
И перебрался из Архангельска в Москву. Ведь всем известно, где куется по-настоящему Большой Рубль, где просто-таки огороды бесхозной «капусты». Бери – не хочу! На улицах столицы в это время творился полный беспредел. На фоне повальной финансовой безграмотности расцвели мошеннические схемы, обещавшие наивным гражданам за минимальные вложения сверхприбыль. Козочко занялся и этим, став подручным у знаменитого Мавроди.
На его глазах прежде ничем не выделяющиеся незначительные люди начинали сколачивать гигантские состояния. Гусинский, Березовский, Смоленский, Ходорковский, Абрамович, «генерал Дима» Якубовский… Ясенев тоже всё это видел, но они смотрели разными глазами. Один с завистью к их бриллиантовому блеску, другой с яростным и бессильным пока гневом. Они были из касты неприкасаемых. Сама же власть и назначила их в эту категорию и давала по рукам каждому, кто покушался на эту касту.
Множились бандитские группировки, плодились, как кролики, братки в малиновых пиджаках. Успевай только жевать «капусту» и размножаться. Все «социальные лифты» стояли на ремонте. По статистическим опросам школьников, самой заманчивой перспективой было стать «вором в законе» и валютной проституткой. Не останавливало даже то, что многие криминальные авторитеты уже покоились на московских кладбищах, а «быков» и мелкую шелупонь хоронили просто пачками, по 20 копеек за пучок, ежедневно.
Но Козочко обладал высоким чувством самосохранения. Он сразу понял, что с открытым криминалом лучше не связываться. Себе дороже. Отпав вовремя от Мавроди, но многому у него научившись, он начал разрабатывать свои хитрые схемы. И тут взгляд его упал на архангельские алмазы. Слух о них в криминальном мире распространялся мгновенно.
А почему бы не возвратиться на свою малую родину? Однако он понял, что в одиночку ему с такой махиной не справиться. Нужны партнеры. Причем не всякая пьянь. Уж такого-то товара в 90-х было как гнилых кочанов капусты в базарный день на рынке. Нет, нужны солидные респектабельные люди, с весом и положением. Первым делом он разыскал Юру Жогина и восстановил с ним приятельские отношения. Тот пользовался в Архангельске большим влиянием в криминальном мире.
В природных алмазах, как известно, часто случаются разные включения, типа пузырьков воздуха или трещинок. Но только не ископаемые насекомые, как в янтаре. В раскаленную магму реликтовая живность не очень-то любила забредать. Зато это занятие позже понравилось всякой хищной двуногой фауне и флоре, которая была не прочь полакомиться драгоценными камнями. Что касается растений, то и среди них имеются не только вегетарианцы. К примеру, росянка охотно питается кузнечиками и бабочками.
Козочко в задуманной им афере с астраханскими алмазами требовались не только соратники, но и высокие покровители. Конечно же, в доле. Пришлось поискать и побегать по московским кабинетам. Жалобная убедительность и радужные перспективы – вот главные козыри Родиона с детства и юности. Избавиться от подельников всегда успеет, а пока к нему присобачились, кроме Жогина, еще Зверейко, Енотов, Бычковский, Нарциссов-Флокс и Собакин-Дубов. И как апофеоз этого пиршества, вишенка на торте – Банкетов.
Не клички, такие уж выпали анкетные данные. Уважаемые люди, отцы жизни, опора нации. А вот почему у двух были двойные фамилии, никто не знал. Сами они это никак не объясняли. Женушек, которые носили бы в девичестве признаки дубов и цветов, тоже не имелось. Их вообще не могло быть, поскольку оба принадлежали к лицам с нетрадиционной ориентацией. Но свою педерастию от посторонних глаз пока что скрывали. Время для вздернутых над головой гей-флагов и бравурных радужных парадов еще не пришло.
Этот цирк зверей сошелся не по признакам фауны и флоры, а в интересах кишок и желудка. Прожорливы были все. Они выступали в разных номерах программы на арене шапито под аплодисменты зрителей, но все вместе разводили на бабки восторженную публику. «Хлеба и зрелищ!» – вот что во все времена требует тупая чернь, начиная еще с Римской империи. Дело за малым. Кинуть ей кусок дерьма и оголить зад на потеху толпы.
К этому времени Родион Козочко уже давно стал попадать в сферы внимания милиции. А позже им заинтересовались и органы госбезопасности, в лице Ясенева. Как и другими участниками этого «пламенного хорала».
Из личного дела Ясенева. Соло, каденция
«…42 года, уроженец Брянска. Высшее техническое образование, кандидат наук. В органах госбезопасности с 1971 года. 17 лет на оперативной работе в Воронежской области. Имеет ранения. Полковник. С 1988 года в Центральном аппарате КГБ СССР. С 1990 года возглавляет отдел в Службе Управления экономической контрразведки. В браке с Гончаровой Елизаветой Сергеевной, профессором МГИМО, доктором наук. Детей нет. Награжден государственными орденами и медалями, именным оружием и знаком «Почетный чекист СССР» лично от Ю.В. Андропова за раскрытие особо опасного преступления в сфере шпионской деятельности иностранных граждан в Воронеже…».
Кадровик на Лубянке ошибся в одном, не успев перепроверить данные. Ясенев со своей супругой фактически состоял в разводе, заявление на расторжение брака уже было подано, оставалось оформить в Загсе. Но когда подходило время, дело откладывалось. То у него была какая-то командировка, то у неё что-то срочное. Или ларингит. Скорее всего, просто не хотелось. Так и тянулся этот развод уже несколько месяцев.
Но жили они порознь. Лиза оставалась в той квартире, которую они получили в Москве после переезда из Воронежа. А он, временно, на одной из служебных. Там, по правилам, происходили его встречи с источниками. Таких пустых гэбэшных квартир в столице было много. Соседи по лестничной клетке даже не догадывались.
На более понятном языке в художественной литературе «источники» называют «агентами». А в простом народе и того проще – «стукачами», хотя это несправедливо. Многие из них являются очень ценными и патриотичными кадрами органов госбезопасности еще с чекистских времен. И выполняют свою работу честно и профессионально.
Есть завербованные источники, а есть так называемые «инициативники». Это те, кто вызвался помогать органам госбезопасности добровольно, по зову, так сказать, сердца. Но им доверяют мало и проверяют долго. А вдруг подбросили? В целях дезинформации и проникновения в среду. Враг многолик, надо быть осторожным.
Житье-бытье Ясенева на служебной квартире, с одной стороны упрощало работу, но с другой – как-то не приветствовалось руководством. Нельзя путать божий дар с яичницей. То есть засвечивать секретную «лежку». Соседи ведь тоже бывают всякие. Некоторые, доживающие еще со сталинских времен, особо бдительные, непременно «настучат» о странном типе, вселившемся вдруг в пустую квартиру. Хотя все равно донос попадет кому надо.
Для общей характеристики следовало бы добавить, что этот «странный тип» был среднего роста, поджар, мускулист, темноволос и вообще имел обычную внешность среднестатистического мужчины. Встретишь такого на улице среди прохожих – и не запомнишь. Хорошее качество для контрразведчика. А из особых пристрастий Ясенева – зимняя рыбалка, охота по перу, шахматные этюды в эндшпиле и добрая рюмка бахчисарайского коньяка.
Был немногословен, точен и остроумен в репликах, целенаправлен, вгрызался в полученное дело, как медоед, с которым, как известно, даже царь зверей предпочитает не связываться. Подчиненные Ясенева так его за глаза и прозвали. А сам медоед, весом с рысь, не боится никого, самый сообразительный зверек из всего животного мира, и ему все по фигу. За свое бесстрашие и ум занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Он может напасть даже на огромного буйвола и крокодила, если те перейдут ему дорогу. Только медоед способен вести схватку один против шести львов, кушать королевских кобр и периодически драться с леопардами. Имеет настолько сильную иммунную систему, что даже после смертельного укуса эфы он просто засыпает, впадает в кратковременную кому, а проснувшись, возобновляет свою активность и дальше продолжает лакомиться той же ядовитой гадиной. Укус эфы способен разложить человеческую плоть, а с кожей медоеда не может ничего поделать.
Она у него действительно настолько жесткая и эластичная, что почти невосприимчива к пулям, копьям и мачете, просто поглощает удар и не рвется. Когда три леопарда пытаются разорвать медоеда, растягивая его в клыках в разные стороны, он умудряется еще извернуться в своей коже и вцепиться длинными когтями и острыми зубами в противников. Челюсти его настолько сильны, что без проблем дробят черепаховый панцирь.
Зверек получил свое название потому, что одно из его любимых блюд – пчелиные личинки, которые находятся внутри улья. Он любит их даже больше, чем сам мед. Энергия, которую получает медоед от проглоченных личинок, стоит того, чтобы быть смертельно ужаленным. Но он охотится за ними как настоящий маньяк. Атакует даже улья африканских медоносных «пчел-убийц».
– Ты самый смышленый и толстокожий медоед в мире, – говорила Александру его жена Лиза. – За что только я тебя люблю? Ешь всё подряд, что бы я ни приготовила, хоть топор свари в кастрюле. Только работа, работа и работа. Ни в театр сводить, ни цветы подарить, а хоть мой день рождения или годовщину нашей свадьбы помнишь?
– А как же. Нарочно подгадал, чтобы они совпали в один день. Двойная зарубка в памяти. Как раз сегодня. Подарок и букет чайных роз за мной, когда вернусь с Лубянки. А пока прими словесное поздравление и крепкий любовный поцелуй.
– Нет, настоящий медоед! Но вкусный.
Они дружили еще со школьной скамьи в Брянске. Студентами поженились. Правда, кончали разные вузы. Он – технический, она – МГИМО. В Воронеже началась полнокровная семейная жизнь. В Москве продолжилась.
– А ты, Лиза, медоуказчик, – продолжил Александр. – Есть в Африке такая небольшая птичка, которая указывает медоеду путь к улью диких пчел. Она зазывает его специфическим свистом, перелетая с ветки на ветку, а тот бежит за ней следом, вприпрыжку.
– Какая же ей польза?
– Дело в том, что эта птичка тоже очень любит пчелиные личинки, но по понятным причинам не может их достать из улья. И вот тут ей на помощь приходит медоед. Он разрушает улей, съедает весь мед, а личинками делится со своей подружкой. Такое вот взаимовыгодное сотрудничество.
Лиза посмотрела ему в глаза и задумчиво произнесла:
– Наверное, эта птичка – единственный настоящий друг медоеда. А у тебя, Ясенев, кто друзья?
– Ты, – серьезно ответил он. – Только у меня нет крыльев, как у тебя. И я не летаю, а дерусь с гиенами, шакалами и прочими двуногими тварями… А насчет друзей, – добавил, помолчав, – есть восточная мудрость. Друзьями у тебя остаются только те, кого с годами не сожрала зависть.
– А уж сам-то ты как медок любишь! – улыбнулась жена. – Не напасешься. Что приготовить моему любимому медоеду на ужин?
– Дюжину ядовитых лакомых скорпионов.
Иногда Ясенев задумывался об обстоятельствах, которые помогали ему в продвижении по служебной лестнице, в карьерном росте. Двигали вперед не только объективные факторы, которые во многом зависели от его профессионализма, мастерства, знаний, настойчивости, цепкости в каждом порученном деле, силы воли. Весомую роль значили помощь и поддержка коллег по работе, мудрые советы наставников и руководителей, опытных чекистов, да и просто друзей по жизни.
Но главную скрипку в их дуэте играла жена. И в этом плане ему очень повезло, а он был действительно влюблен в неё еще с детства. Как и она в него. Судьбой ему досталась по жизни красивая, стройная, нежная, спокойная, разумная, обаятельная, неземная женщина. Ее терпение, умение принимать все ранние тяготы быта и не делать из них больших семейных проблем, все те сложные и трудные обстоятельства, которых было много на том или ином этапе их совместного пути, были для него неизменно дороги, а ей делали честь и славу.
Вот только в том эпизоде, когда пришлось разъехаться, произошел некий сбой, музыкальная гармония разладилась, скрипки вышли из строя. Но Лиза прошла с ним плечом к плечу весь его долгий чекистский путь, стала товарищем по работе, коллегой, и он мог, безусловно, гордиться ею и не опасаться за свой семейный тыл. Там все было надежно и прочно. А когда в твоем тылу всё благополучно, без семейных напряг и размолвок, тогда и работается легко и спокойно, с полной отдачей и результативностью. Наверное, сам виноват, если что-то пошло не так.
А в День чекиста Ясенев всегда поднимал вместе с друзьями-коллегами тост за жен. И звучали такие слова: «Жизнь – Родине. Сердце – любимой женщине. Честь – никому». И дома его уже ждал праздничный ужин, а на пороге встречала прекрасная, нарядная, любящая Елизавета, обязательно в элегантном платье и туфлях на высоком каблуке. Словно это было их первое знакомство.
Что же послужило причиной их семейного разрыва? Если уж продолжать аналогии, то медоеды по натуре одиночки. А когда увлекаются охотой – особенно. У Ясенева это происходило довольно часто. Profession de foi. Что с французского означает «исповедание веры», а по-простому – профессиональные обязанности.
Но служба в органах госбезопасности и была его религией, идеей, верой и мечтой с ранней юности. Работая, он забывал обо всем прочем, сосредотачиваясь лишь на главной цели. Изобличить преступника. А кто увлекается соблазнами, пусть даже тихой семейной жизни, никогда до цели не доберется. Отличное качество для контрразведчика, но плохое для семьянина.
Адажио с аданте. Медленно вперед
После разговора со Свиридовым Ясенев позвонил Баранову и отменил назначенную встречу.
– А что случилось, Саша? – встревоженно спросил начальник «Севералмаза».
– Да ничего особенного! Ларингит разыгрался в ваших северных широтах. Давай завтра? В тот же час.
– О,кей.
Еще бы «вау» добавил. Не любил Ясенев этого англосаксонского сленга. Всех этих брендов и трендов. И почти в каждом голливудском фильме звучащей детской угрозы: «Я тебе сейчас задницу начищу» вместо нашего простецкого эротического пожелания: «Пошел на …»
Он усмехнулся. В Якутии Гриша сказал бы проще: «Замётано, брат!» Ну, да ладно. Никакого ларингита у него не было, просто хотел, чтобы Баранов слегка подергался перед визитом контрразведчика. А являться лучше всегда неожиданно. Как Черный человек Моцарту или Есенину, и обязательно со словами: «Узнал, баклажан? Это я, совесть твоя пришла, давненько не виделись!»
Он поехал в Управление ФСК и встретился там с генералом Смирновым и Демидовым. Капитан Ряжский выполнял его особые поручения на встречах с источниками. Они обменялись впечатлениями и провели короткое совещание, пригласив еще двух человек. Один был начальником оперативного отдела в ведомстве Смирнова, второй – контрразведывательного. Обоим по тридцать лет. С их личными делами в Центре Ясенев был знаком, молодые, настырные, перспективные. Государственники, не либеральная шелупонь. Ему сейчас в Архангельске именно такие и были нужны, для опоры.
Ясенев намеренно ограничил круг участников лишь тремя местными чекистами. Частые командировки в область, изучение объектов, информация от источников, анализ фактов убедили его в осторожности с архангельскими коллегами. Да взять хотя бы сегодняшний и вчерашний случаи в кабинетах Баркова и Свиридова. Тяга с документами. Кучки алмазов на столе. Он, конечно, их старый приятель, но что-то ребята совсем обнаглели.
Если они так ненавязчиво предлагали алмазы ему, контрразведчику из Москвы, то уж со своими местными кураторами могли бы вообще срастись и не церемониться. Да и в просмотренных им документах, справках, отчетах, прочих закрытых материалах по «Северной геологии» и «Архангельскгеологии» было много намеренной путаницы. Словно лиса петляла по заснеженному полю. Но следы оставляла. А на то он и охотник, чтобы неторопливо распутывать и идти за плутовкой.
Конечно, геологоразведка – это не добыча алмазов в промышленном масштабе. Всего лишь первый этап, но от него зависит многое. Например, скрыть для отчетности реальные запасы ископаемого сырья. Поставить другие цифры. Сослаться на ошибки, погрешности или на то, что кимберлитовая трубка – это ведь не сундук с алмазами, которые можно с точностью подсчитать и взвесить. А под шумок, пока суд да дело, выгребать из кимберлитовой трубки сколько душе угодно.
Ясенев даже заместителя Смирнова полковника Тарланова на оперативное совещание деликатно не позвал. Просто не поставил в известность, «забыл». Да и проходило оно не в здании УФСК, а в ресторане «Бристоль» за дружеским обедом. Это было вызвано тем, что в Центре на Тарланова имелся компромат, собранный за последние три месяца.
Им занималась Служба собственной безопасности ФСК. Он подозревался в должностных нарушениях, имелись не до конца проверенные факты, свидетельства арестованных по другим делам, агентурные показания. Но все это не выглядело до конца убедительным. Можно ведь и ошибиться. А вдруг всё это огульные обвинения и клевета? Чекиста ранит не только нож или пуля.
Решение по полковнику Тарланову в Центре еще не было принято, но Ясенева предупредили о бдительности и осторожности. На всякий случай слишком близко к теме «объект» не подпускать. В конце концов, тому всего год до пенсии, можно просто тихо и незаметно спровадить ветерана на дачный покой. Так будет для всех лучше. Но можно было и не предупреждать, Ясенев просто родился «бдительным и осторожным».
А вот с генералом Смирновым никаких проблем не было. Он уже перешагнул пенсионный возраст, недавно подал рапорт об отставке и спокойно досиживал свой срок. Служака был честный и справный. А на молодого московского полковника посматривал насмешливо и даже слегка презрительно, как на выскочку и карьериста. Искренне не понимал: ну чего так дергаться, из кожи лезть? Везде же так, даже хуже.
Наверное, забыл, что сам был в молодости таким же ретивым. Ему, в принципе, было теперь на всё чихать, делами особенно не занимался и уже особо в них не вникал. Ясеневу, по указанию из Центра, как мог, помогал, и на том спасибо. Можно было бы вполне обойтись и без него, но в данном случае генерал являлся просто витриной или мундиром для встреч с власть предержащими славного города Архангельска. Прежде всего с мэром и губернатором области.
За обедом в ресторане «Бристоль» Смирнов, как хозяин, начал с цветистого тоста, но Ясенев, подождав, пока отойдет официант, жестко оборвал:
– Алексей Иванович, мы тут не затем собрались. Давайте к делу. Что у нас с «Севералмазом»? – Видя растерянное лицо генерала, он добавил: – Нет, аппетит не отменяется, кушать и пить будем за разговором, но без здравниц. Открою секрет, который ни для кого уже, возможно, не тайна. Лицензию на разработку самого перспективного в России Ломоносовского месторождения «Северазмаз» вот-вот получит, вопрос с ней в министерствах и в администрации президента почти решен. Если только не форс-мажор, когда небо упадет на землю. Технико-экономическое обоснование у Баранова уже имеется. Ископаемые запасы подтверждены. Казалось бы, флаг в руки. Начинай работу с опережением графика. Но воз и ныне там. Почему? Что тормозит?
Пока Смирнов искал ответ в тарелках с салатом и морскими деликатесами, Ясенев обратился к его коллегам:
– А что думает по этому поводу наша молодежь?
Первым отозвался подполковник Лоскутов:
– Проект на разработку Ломоносовского месторождения по оценкам специалистов требует капитальных вложений на сумму более 700 миллионов долларов, у Баранова таких денег нет. Ему надо подключать другие фирмы и корпорации, а также местные власти с их фондами.
– Помимо строительства горно-обогатительного комбината в проект входит еще и создание целого населенного пункта на пятнадцать тысяч человек, – толково добавил подполковник Пискарев. – С развитой инфраструктурой. Однако ни того, ни другого нет даже в зачатке.
– Поживем – увидим, – отделался псевдомудрой поговоркой Смирнов.
– Так даже каких-либо телодвижений в эту сторону не наблюдается, – возразил Лоскутов. – Разработка месторождения находится в глухом тупике. Не говоря уж о строительстве поселка.
– Может быть, потому и тормозится, что заранее знают – рабочие руки не понадобятся? – вступил в беседу Демидов. – Зачем деньги впустую тратить? Вот и ответ. Намеренная консервация проекта. Но в чьих интересах? Чувствую в воздухе тонкий аромат «Де Бирс».
– Куда же без него, – согласился Ясенев, принюхиваясь. – И еще один любопытный и важный вопрос. «Севералмаз» в этом проекте не одиночка. Есть и другие компании, например, «Согласие». Но среди многочисленных владельцев и учредителей различных юридических образований нет, казалось бы, самого главного интересанта. «АЛРОССА». Почему?
– А ведь эта якутская компания не только имеет самый большой стаж в разработке коренных месторождений. Она еще обладает и соответствующими технологиями, мощным оборудованием и квалифицированными специалистами, – резюмировал Демидов.
– Ну, это вам в Москве должно быть лучше известно, почему? – снова отделался уклончивой фразой Смирнов. – Разбирайтесь в высоких правительственных кабинетах. Не наш уровень.
– Разберемся, – пообещал ему Ясенев. И задал последний вопрос, чтобы «прощупать почву»: – Жаль, что с нами сейчас за столом нет полковника Тарланова, но, в общих чертах, каково его видение ситуации по «Архангельской алмазоносной провинции»? Спрашиваю просто, как коллег полковника. Вам знакомо его мнение?
– Оно такое же, как и у всех нас, – после минутной паузы ответил Смирнов. И добавил: – Игорь Алексеевич дельный работник. Как к моему заму у меня к нему нет никаких претензий или нареканий.
– Я не о том. Может быть, у него есть какой-то особый взгляд? Предложения? Свои «пять копеек»?
– У нас все взгляды едины.
– Так не бывает. Даже в ведомстве архангела Михаила и в пчелином улье они имеют свои оттенки. Ну да ладно, сам встречусь и переговорю.
Лоскутов и Пискарев молчали. То ли не хотели говорить при генерале, то ли были согласны с ним. А может, ни то, ни другое. Но чувствовалось, что в самом коллективе архангельских чекистов фигура Тарланова стояла как-то особняком, типа изгоя или прокаженного. В Центре Ясеневу было запрещено идти на откровенный разговор с ним, но он решил все-таки в конце командировки нарушить это табу.
После совещания и обеда он не стал делать никаких общих выводов. Они были им уже давно сделаны, еще с Якутии. Ситуация в Архангельске мало чем отличалась. Но это общие выводы, а каждый конкретный случай имел свою специфику, лицо и фамилию. Пока надо подождать, когда семечки в арбузе дозреют.
Адажио на итальянском языке означает медленный темп в музыке, анданте – идти вперед, но умеренно, как бы прогулочным шагом. Эти термины сейчас соответствовали работе Ясенева по «Архангельской алмазоносной провинции». Но иногда он переходил в крещендо. И это был уже другой Ясенев. Пока время для этого не наступило.
Редакция «Независимой газеты». Гимн Перу
Перед главредом Трегубовым сидела одна из его лучших перьев, Анна Чернобурова. Виталий Егорович по праву мог гордиться своим «детищем», поскольку пестовал её лично, как, впрочем, и всех других, подающих надежды талантливых журналистов. Но многие, не выдержав обрушившейся на них славы, быстро сгорали. Они кончали свои карьеры в гламурной «желтой прессе» или радикально-оппозиционной, националистической. Обе дороги тупиковые. Либо вообще под забором, в прямом и переносном смысле. Алкоголь и панель – извечные спутники древнейшей профессии.
Сам Трегубов, мужчина средних лет в очках, умел лавировать между всеми ветвями власти, бизнесом и интересом читателей, чтобы газета всегда имела высокий рейтинг. Его ценили и при советской власти, и при новой, псевдодемократической. Профессионализм стоит того. Он был хорошим шахматистом и любил разыгрывать многоходовки, соблюдая интересы всех влиятельных и заинтересованных лиц.
А особенно предпочитал эндшпильные этюды, как и Ясенев. Иногда, в свободное время в ЦДЛ, Домжуре или Доме кино, где-нибудь на отдыхе в санаториях Кисловодска или Ялты, они могли перекинуться за приятной беседой в шахматы, но все их партии всегда заканчивались вничью. Никому еще не удавалось победить. Кто знаком с шахматами, тот знает, как важно быть виртуозом в эндшпиле, когда даже в проигрышном положении можно одержать вверх.
В газете Трегубов аккуратно вел свою «независимую» линию, оставляя за спиной поле для отступления и перегруппировки. Он был мудр с юности, потому что взял себе за правило не доказывать что-либо с пеной у рта, а, зная истину, не спорить. Особенно с дураками. Всё равно ничего не докажешь. Сами поймут, со временем. «Гуру» – так кратко в одно слово называли его в профессиональной среде.
Было у него и другое жизненное кредо. Слабые люди мстят, сильные прощают, а умные игнорируют. Поэтому Трегубов никогда не ставил свою личную жизнь и отношения с людьми выше той планки, которую занимала его газета и вся журналистская деятельность. А если ему приходилось слышать от коллег или бывших друзей какие-то обидные обвинения в свой адрес, оскорбления или даже ругань, он просто отвечал:
– Я вас услышал. Но куда мне до вас! Мне еще долго опускаться. Вы дышали всё это время моей добротой, теперь задохнетесь моим безразличием.
Чернобурова пришла в газету три года назад на волне всеобщей эйфории, сразу после окончания МГУ с «красным дипломом», большим гонором и страстным желанием свергать и крушить всё, как её старшие либеральные братья и сестры. Трегубов быстро обломал её бодливые рожки. Взял на работу простым стажером да еще с испытательным сроком. И вначале поручал всякую мелочь, с которой справилась бы и редакционная уборщица.
Аня была коренной москвичкой в каком-то там …надцатом поколении. Из интеллигентной семьи гуманитариев. В роду её были и принявшие присягу на верность русскому царю иностранцы, и первопроходцы, и раскольники, и царские генералы, и народники-либералы, и врачи с поэтами, и священнослужители, и революционные комиссары, и белые эмигранты, и репрессированные «враги народа». Словом, все-все-все. Хорошая палитра красок для панорамной картины «Россия в лицах».
Она получила отличное воспитание и образование. Единственная дочь в семье. Мама хирург, папа литературовед. Был в её жизни и кратковременный брак с заезжим бизнестуристом из ФРГ. Любовь-нелюбовь, но семья не сложилась. Она наотрез отказалась уехать с ним на постоянное жительство в его родную Баварию и пустить там корни. А Олаф не хотел жить здесь, в нищей постсоветской России. Через полгода они разбежались.
Её школьные подруги и однокурсницы крутили пальцем у виска. Но Аня очень хорошо знала тысячелетнюю историю России. Страна не раз падала и находилась в таком же гибельном положении. Но всегда поднималась с колен и становилась еще крепче и могущественнее. Пусть пройдет пять, десять, пятнадцать лет, но так будет. И тогда её талант и знания пригодятся. А пока она займется своей журналистской карьерой.
Всё это говорило о цельности её натуры и дальновидности. Она не была романтиком, скорее, прагматиком. А тут и Гуру такой нашелся. Она многому научилась у Трегубова, особенно выигрывать эндшпили. А лучше не доводить до них. Атака в дебюте. А если в миттельшпиле приходится защищаться, то неожиданная для противника, но обдуманная и коварная жертва фигуры – залог успеха. Ну и много других тонкостей игры. Не только в шахматах, разумеется. В качестве награды Трегубов разрешил способной ученице печататься ради гонорара в других СМИ, но все эксклюзивные материалы и интервью – сюда.
За короткий срок, наблюдая, как прелестная брюнетка щелкает одно сложное редакционное задание за другим, проверяя её на прочность и объективность, видя, как пустая болтовня вытесняется мировоззренческим смыслом, Гуру вырастил Анну, как опытный садовод редкую чайную розу, до ведущей журналистки газеты. Без жалости и снисхождения на возраст и красоту. А у девушки оказалась цепкая профессиональная хватка, интуиция, нюх и настоящий талант идти по следу.
С виду милая хаска, а по натуре черно-бурая лисичка, оправдывающая свою фамилию. И такой же роскошный иссиня-черный волнистый и волнующий хвост, целый водопад волос, который она любила перебрасывать через левое плечо на грудь. Добавим еще умный внимательный взгляд, умение слушать собеседника, тонкие правильные черты лица и редкую улыбку. Но уж если что-то её радовало, то она просто ослепляла собеседника белоснежным блеском жемчужных зубок.
Она знала, что очень красива и нравится мужчинам, но никогда не пользовалась этим к своей выгоде. Для разного рода побед ей хватало собственного ума и здравого смысла. Хотя всякие женские уловки, конечно же, тоже включала в свой боевой арсенал. Дорогую косметику для легкого макияжа, аромат французских духов, короткую юбочку или брючный костюм, подчеркивающий стройную фигуру и прелестные ножки. И очень любила драгоценные украшения. Кольцо с каким-нибудь бриллиантом, серьги с топазом, жемчужный кулон. Этого не отнять.
– Вот что, Аня. В ближайшие месяцы твоя работа и место жительства будет в Архангельске. Вот билет на самолет. Номер люкс в гостинице «Бристоль» забронирован. Вылетаешь на следующей неделе.
– Это ссылка в провинцию, Виталий Егорович?
– Не просто в провинцию, а бриллиантовую. На месторождения. Это еще дальше, чем сам Архангельск, в ста километрах от города.
– Можно вопрос? Добираться туда буду на оленях? Теплые вещи брать или выдадут? Открываем там корпункт? Это связано с моими прежними репортажами по месторождениям? Вообще с алмазами?
– Не трещи, Анна Леонидовна. Шесть вопросов вместо одного. Да, связано. С блеском и яростью вокруг алмазов. А на остальные отвечать не стану. В помощь тебе дадим двух помощников или помощниц, подберешь сама. Но главная твоя тема – «Севералмаз», «АЛРОССА» и всё прочее. Основной акцент – трубка Гриба, Ломоносовское и Верхотинское месторождения. И не включай мне «дурочку». Ты давно «в теме». А там затевается большая игра.
– Де Бирс? Понятно.
– Действуй по обстоятельствам, но особенно глубоко не лезь и не рискуй. Мешать тебе местная власть не будет. Администрацию Архангельска и руководство месторождений я известил.
– А ФСК? Кто курирует эту тему здесь, в Центре, и в регионе?
– Управление экономической безопасности, контрразведка. А конкретно, с кем тебе периодически придется контактировать, узнаешь потом. Да я вас как-то знакомил на одной пресс-конференции в Домжуре. Мы еще кофе пили. Но он и сам не замедлит проявиться на твоем горизонте. Служба у него такая. Стоять на страже кладовых России. И видеть всех, кто бродит рядом. В том числе журналистов.
– Что-то не припомню. Столько павианов в штанах вокруг вьется…
– Этот павиан другого рода. Тогда пусть станет для тебя сюрпризом.
– Надеюсь.
– Впрочем, личные отношения всегда побоку. Главное – газета.
– А это не тот ли, о котором я сейчас подумала?
– Я не умею читать чужие мысли. Всё, иди, не мешай.
Аня улыбнулась Гуру, перекинув свою роскошную черную гриву через плечо. Как делала это всегда, в предвкушении азартной охоты.
Водевиль с вокализом
Начальнику «Севералмаза» Баранову Ясенев нанес неожиданный визит через три часа после обеда-совещания в «Бристоле». Скоро надо было возвращаться в Москву. В Центре ждали глубокого анализа и отчета. Но там у самих царили неразбериха и хаос. Ожидались новые перемены. Справлялись пока из последних сил. Исключительно на профессионализме и государственности. А безопасность страны – превыше всего.
Оставив Демидова и Ряжского работать по своим направлениям, он сначала заехал к мэру города и губернатору области, благо они сидели в одном здании. Можно было бы захватить с собой и Смирнова, но индифферентность генерала уже стала ему надоедать. Пора выдвигать на его место и место зама других, скажем, тех же Лоскутова или Пискарева.
Однако ни мэра, ни губернатора Ясенев на работе не застал.
– Уехали по срочному вызову.
– Куда?
– Кто ж знает, господин Ясенев.
– Ладно. Не в моих правилах ждать, сидя на одном месте. Результат ожидания нужно искать только в постоянном движении.
Покинув негостеприимное здание местной власти, которое, как теперь во всех больших городах России, называлось «Белым Домом», по аналогии с «Вашингтонским обкомом», Ясенев встретил искомые фигуры там, где не предполагал увидеть. А впрочем, где же и не быть этим пчелкам, как не возле бочки с мёдом?
Секретарша Баранова испуганно встрепенулась:
– Александр Петрович, погодите! У Григория Лаврентьевича важное совещание.
– А я, Верочка, и есть его папа Лаврентий Берия, и ничего важнее меня у него быть не может.
В кабинете генерального директора за столом с коньяком и лимоном сидели пять человек. Сам Баранов, мэр Архангельска Правдин, губернатор области Ефимчук. Четвертым был Раймонд Кларк, Управляющий московского представительства «Де Бирс». Старый знакомый. Невысокого роста худощавый джентльмен с вытянутой, как у таксы, мордочкой. Любитель русских пословиц. И, как понимал Ясенев, главная скрипка в этом музыкальном квинтете.
Пятым был некто с неприятным лицом, голым черепом, обтянутым желтой кожей и неподвижным взглядом. Ясенев с ним лично знаком не был, только по оперативным сводкам и фотографиям в деле. А все, что касалось «Архангельской алмазоносной провинции», он держал в памяти, как сложную химическую таблицу элементов Менделеева. И ему хватило двух-трех секунд, чтобы всплыло в подкорке название этого «элемента» в одной из клеточек: «Жогин». Даже базовая профессия и почетное прозвище в криминальной среде Архангельска: «Хирург. Профессор Мориарти».
– Приветствую вас, господа. Не помешаю?
– Я тебя завтра ждал, – промямлил Баранов. У всех остальных на устах повисли растерянные улыбки. Кроме Жогина. У того словно бы приклеилась к лицу желтая карнавальная маска с плотно сжатыми губами. Такой цвет выработался от долгого пристрастия к кокаину. Это было Ясеневу тоже известно.
– Ларингит прошел, лучше стало. Решил: чего оттягивать?
– Ты бы хоть позвонил, мы тут по срочному делу.
– Да я уже догадался. Но оно, скорее всего, и меня касается. Как всё, что связано с «Архангельской алмазоносной провинцией». Так что уж, извините, подвиньтесь.
Обменявшись со всеми присутствующими рукопожатием, Ясенев бесцеремонно уселся за коньячно-лимонный стол.
– Продолжайте, господа, продолжайте. На чем мы остановились?
– Текучка! – развел руками Баранов.
Губернатор поднялся из-за стола:
– Да мы как бы уже и закончили.
Мэр взглянул на часы:
– Да, пора.
– Пора руководить городом и областью, – усмехнулся Ясенев и, широко улыбаясь, обратился к заморскому гостю в этой архангельской опере: – А что здесь делают наши добрые дебирсовские друзья?
Кларк хорошо владел русским языком и имел частые контакты с Ясеневым в Якутске и в Москве. Встречались и в Лондоне. Знал, что с ним лучше не темнить и ответил шуткой:
– Я, Алекс, намерен прибрать к рукам весь «Севералмаз», как это у вас говорят, с потрохами.
Все натужно засмеялись. Опять же, кроме Жогина. Он не спускал взгляд с Ясенева, буквально сверлил в нем дырки. А вот пальцы все время двигались, не могли оставаться в неподвижном состоянии. Как лапки у паука.
– Я, Раймонд, подкину тебе еще пару пословиц. У нас в народе говорят: «Собаку съели, хвостом подавились». «Рука руку моет, да обе свербят». А еще: «На чужой каравай рот не разевай». Но это хорошее дело, Бог в помощь. А то ведь прогорят, черти. Будет хоть какая-то польза девушкам с бриллиантами.
Кларк вытащил блокнот:
– Постой, дай записать в мой словарик. Повтори пословицы.
– Пиши. Диктую по слогам.
Подождав, пока управляющий запишет, Ясенев добавил:
– «Шито-крыто, а узелок-то тут».
– Какой узелок? – встрепенулся Баранов.
– Да это пословица, Гриша, специально для нашего заморского гостя, не дергайся. «Чья бы корова мычала, а твоя молчала». Пишешь?
– Пишу, – кивнул Кларк.
– А еще, Раймонд, у нас, православных, есть такое правило от оптинских старцев. Где, на каком месте тебя Господь застанет, когда подойдет срок, там и приберет к рукам. Потому молиться надо чаще. А иначе, если застукает в скверной музыке – прямиком в ад. – Глядя на вытянувшиеся лица, он засмеялся: – Да шучу я, шучу.
Баранов вяло подтвердил:
– Он шутит.
Даже губернатор Ефимчук тупо повторил, специально для Кларка:
– Это шутка.
Не хватало еще и мэру сказать то же самое.
– Вовсе нет, – усмехнулся Ясенев. – Это правило. Советую и его записать в свой талмуд-поминальник. Ну, на посошок?
– Пить расхотелось, – произнес Жогин. Он тоже встал.
– А чего так? – спросил Ясенев. Ответил губернатор:
– Вы, Александр Петрович, умеете испортить людям настроение.
– А у меня, Александр Анатольевич, работа такая. Не смешить людей, а тревожить. Я к вам завтра заеду. Есть вопросы по местному агропромышленному объединению Назарьево, которое включено в число акционеров «Согласия». И к Комитету по управлению госимуществом Архангельской области. На ту же тему «алмазных акционеров». Ну и так, мелочи жизни, в разделе «Разное».
– Хорошо. Но мне-то тревожится незачем.
– И мне, – торопливо вставил мэр.
– А я вообще, Алекс, лицо иностранное, – улыбнулся Кларк. И добавил: – Дружественное.
– Дружелюбное, – поправил Ясенев. – Почти каждое слово в русском языке, Раймонд, имеет много оттенков и коннотаций.
Жогин не сказал ничего, просто пошел к двери, ни с кем не попрощавшись. Ясенев проводил его внимательным взглядом.
– И мы пойдем, – бодро сказал мэр, хотя и с унылым взглядом.
– Вот и отлично, я только рад. Ну что ж, раз все уходят, то мы с Григорием Лаврентьевичем пока его скучными делами займемся.
Скользящее глиссандо
Вечером, в предпоследний день своей архангельской командировки, Ясенев шел на встречу с важным источником из окружения губернатора под агентурным псевдонимом «Кохинор». Своими информаторами контрразведчики не очень-то любят делиться даже с коллегами, чтобы не засвечивать их и не нервировать, поэтому он отправился на тихую улочку один, не посвятив в это дело Демидова и Ряжского. И уж тем более Смирнова или кого-либо из местных чекистов, дабы не подвергать риску столь ценный кадр. Итак, Штирлиц шел на встречу с профессором Плейшнером…
Ясенев уже давно заметил за собой хвост. Это были два широкоплечих молодца кавказской национальности. Они даже не додумались сбрить бросающиеся в глаза черные бороды. Да и улица была малолюдной. Самое смешное, что за ними еще на малой скорости двигался внедорожник. Чеченцы, что ли? Не похоже. Эти вели себя не столь нагло и развязно.
Два года назад Джохар Дудаев уже провозгласил независимость Чеченской республики, а фактически она таковой и стала. В прошлом году министр обороны Российской Федерации Павел Грачев распорядился передать дудаевцам все имеющиеся там запасы оружия и боеприпасов. Так что чеченцы были теперь хорошо вооружены и готовились к войне с Россией. А пока бандитски осваивали её территории. Подбирались и к архангельским алмазам.
Нет, решил Ясенев, не чеченцы. И не профессионалы. Слишком натурально изображают из себя шпионов, как в дешевой голливудчине. Еще и дымчатые очки нацепили. Тогда кто? Лучше всего самому сразу и выяснить. Он свернул за угол дома, подождал минутку, пока они ускорят шаг, а затем быстро вышел и столкнулся с ними нос к носу.
– Ну, чего надо? – спросил Ясенев. – Долго будем играть в кошки-мышки?
Джеймс Бонды, не ожидавшие такого поворота судьбы, заметно опешили и шагнули назад. Ему вспомнилась строчка из лермонтовского «Демона»: «Недолго продолжался бой: бежали робкие грузины». Но оказалось, что и не грузины. Хотя у них там, на родине, также творился полный кавардак.
Звиад Гамсахурдия, захватив власть, устроил сначала резню в Абхазии и Южной Осетии, потом его сместил «вор в законе» Джаба Иоселиани, оставшийся в истории классической точной фразой: «Демократия – это вам не лобио кушать», а смуту и кровь продолжил предатель СССР, бывший министр иностранных дел Шеварднадзе. Впрочем, еще хуже дело обстояло в кишлаках Средней Азии. Да что толковать! Во всех бывших республиках СССР царил хаос.
– Мы к вам, господин Ясенев, с просьбой и предложением, – произнес один из них с характерным акцентом.
– Извините, что напугали, – добавил второй.
– Меня?! – возмутился контрразведчик. – И вам не стыдно такое говорить? Ладно, излагайте.
– Давайте проедемся в одно тихое спокойное место, с вами хотят побеседовать. Не возражаете, Александр Петрович?
Ясенев согласно кивнул, а тот махнул рукой в сторону джипа. Внедорожник подъехал. Они все забрались в машину, в которой, кроме шофера, оказалось еще двое. Теперь ему больше всего было любопытно: кто же эти люди? Не азербайджанцы. То торговая нация. В основном по фруктам и овощам. А Ясенев в этом смысле интереса не представлял.
– Вы, ребята, армяне? – угадал он.
– Так точно, – ответил человек, сидящий рядом с шофером. Из чего Ясенев сделал вывод, что это военный.
– Меня зовут Гамлет.
– Ашот, – представился второй. Остальные помалкивали.
– А к чему такая конспирация?
– В целях секретности нашей беседы, – пояснил Гамлет. – Это в наших и в ваших интересах. А вот и приехали…
Это был небольшой ресторанчик с армянской вывеской «Наринэ». Они вылезли из джипа и прошли внутрь. Там их ждал богато накрытый стол в пустом зале. Подготовились они тщательно. «Ладно, – подумал Ясенев, – хоть поужинаю, а с “Кохинором” встречусь завтра». За столом с шикарными яствами сидел всего один человек. Поднявшись и протягивая руку Ясеневу, он назвался Эдмондом Тиграняном, братом Гамлета.
Как выяснилось в ходе предварительной беседы, все эти люди входили в армянскую диаспору Москвы и Архангельска. Некоторые из них имели российское гражданство. А братья Тигранян официально значились сотрудниками Армянского представительства в столице. После небольшого вступления и знакомства Ясенев предложил сразу перейти к сути разговора. Ужин двух братских народов так и стал протекать: по-деловому, за рюмкой коньяка «Ной», долмой и бозбашем.
А когда через полчаса к ним присоединились еще двое, тут уж и вовсе встреча стала напоминать дипломатический прием на высшем уровне. Эта пара оказалась вообще птицами высоко полета, Арарат перелетят. Один входил в правительство Армении, Никол Петросян, другой был русский, генерал-лейтенант МВД Березкин, Юрий Владиславович. Чтобы подчеркнуть свою значимость он пришел в форме и сразу «перетянул одеяло на себя», обозначив цель встречи и взяв «штурвал самолета» в свои руки. Другим оставалось лишь поддакивать и произносить тосты.
Но прежде всего Березкин мимоходом обронил:
– У губернатора задержались. Ефимчук в курсе и полностью поддерживает наши начинания.
Потом в разговоре, якобы невзначай, он то и дело стал упоминать и перечислять обширный круг знакомств в российском правительстве, в администрации президента, в министерстве обороны и других ведомствах, включая госбезопасность. Ясенев неоднократно встречался с такими людьми и подобными приемами, когда надо было надавить на собеседника.
Но в большинстве случаев, да практически всегда, всё это было одним лишь пшиком, дымовой завесой. Однако на слабонервных действовало. Позже он навел справки об этом генерал-лейтенанте и других. И его подозрения подтвердились. Они все явно завысили свои ранги и статусы. Хотя связи и возможности имелись.
Березкин, обращаясь в Ясеневу как бы от лица всех армянских представителей, пояснил, что в Армении в данный момент трудности с алмазным сырьем. Смоленский завод «Кристалл», построенный еще в советские времена, простаивает. Ясеневу это было хорошо известно, и он понял, куда гнет генерал-лейтенант.
– Этот вопрос надо решать у производителей алмазов в «АЛРОССА» или «Гохране». Я на эти процессы не влияю.
– Мы знаем. Цель нашей встречи другая. Акционерное общество «Согласие» участвует в разработке алмазов в Архангельске. С его руководителями Эдмондом и Гамлетом Тигранянами, которые сидят перед вами, есть соглашение о поставках алмазов в Армению. Это не проблема. Но нам из конфиденциальных источников сообщили, что вы этому препятствуете. И тем более принимаете меры по вытеснению «Согласия» из корпорации «Севералмаз».
Ясенев отдал должное его информированности. Ответил:
– Я в данной ситуации обладаю слишком малыми полномочиями, тем более, принят закон «О драгоценных металлах и камнях», регламентирующий эту деятельность на территории России. А я, как вам всем должно быть известно, стою на страже закона.
– Это нам хорошо известно. И все же. Повторю еще раз. Вы, полковник, по нашим сведениям, организовали и продвигаете развал общества «Севералмаз».
– Я еще даже не начинал это делать, Юрий Владиславович. А что, уже пора?
– Не начали, так начнете. А мы предлагаем вам принять нашу сторону. Не даром. И получить за это вознаграждение.
– О какой сумме идет речь?
Березкин черканул на салфетке несколько внушительных цифр, поставив знак «$». Видимо, у него кончалось терпение, а как военный человек он и привык переходить к атаке.
– А если я откажусь?
– В таком случае вы практически на сто процентов лишитесь должности и у вас наверняка будут большие личные неприятности. Подумайте, Александр Петрович.
– Я подумаю, – кивнул Ясенев. – Обещаю.
– Когда вы дадите ответ? И где?
– В столице нашей родины.
Они обменялись визитными карточками и продолжили ужин. Но разговор периодически скатывался к одной и той же теме. А во время беседы уже сам Ясенев получил много ценной информации из уст то и дело проговаривающихся армян и высокочтимого мента. Но расстались почти приятелями.
Так чего же все-таки они хотели? Уже поздним вечером в своем гостиничном номере он вместе с Демидовым и Ряжским анализировали эту встречу, благо, что она была полностью записана на его диктофон в кармане. Технические устройства в госбезопасности отвечали мировым стандартам и даже превосходили их. Да Ясенев и сам обладал фотографической памятью, мог даже через сутки передать всю беседу слово в слово. Этому его учили еще на Высших курсах КГБ в советское время. А там была хорошая школа разведки и контрразведки.
– Это даже хорошо, что они сами вышли на меня и попытались завербовать, – говорил Ясенев. – А я особо и не противился. Не надо теперь бегать и искать в потемках. Всё зверье собралось на одной лесной полянке как на ладони.
– Редкая удача для охотника: стреляй – не хочу! – усмехнулся Ряжский.
– Мы, Володя, еще лицензию на отстрел не получили, – отозвался Демидов.
– И не получим, – пояснил полковник. – Даже ордеров на арест не дадут. Не говоря уж просто о задержании на трое суток за мелкое хулиганство. А это не уличная шпана, а матерые бобры, которых надо сажать по полной. Навечно. И чтобы даже после смерти еще сидели. Лет сто. Перед тем как передать их скелеты в ад. Но законодательство теперь такое. Ворам – всё, остальным – уголовный кодекс.
– А ведь в этой лесной чаще, Александр Петрович, прячутся и другие двуногие хищники, – заметил капитан. – Мной получены сведения от источников о целой звероферме, пасущейся на «Архангельской алмазоносной провинции». Козочко, Жогин, Банкетов, Зверейко…
– Я в курсе, не надо перечислять, – остановил его Ясенев. – Ими займемся потом. Вернее, параллельно. Думаю, подполковники Лоскутов и Пискарев нам помогут.
– Да, на них можно рассчитывать, – согласился Демидов. – В отличие от Смирнова и Тарланова.
– Эх, если бы еще и на Лубянке, в Центре, все были на нашей стороне, – вздохнул Ряжский.
– В Центре! – усмехнулся Ясенев. – Что ты, Володя! Как бы в Кремле не дали команду «фас» на нас самих. На щелчок заведут дело, ты и не заметишь. Очнешься только за решеткой. Там ведь такие же Зверейки и Жогины сидят. Я имею в виду не в тюрьме, а в Кремле. И в ус не дуют. Вернее, дуть-то дуют, но на воду, потому что на молоке не обожглись.
– Еще на пальцы дуют и плюют, когда доллары пересчитывают, – добавил Демидов.
– Нечисть болотная! – высказался импульсивный Ряжский. – Кто на них самих дунет, чтобы как дым рассеялись?
– А это уже наша задача, чекистов, – подытожил начальник.
Все они были патриоты и единомышленники, поэтому и говорили, не скрывая своих наболевших чувств.
Генератор траурных маршей
Еще с конца 80-х годов молодой жилистый и костлявый хирург, с небольшим горбом, работавший в одной из клиник Архангельска, Юрий Жогин стал набирать криминальные обороты и соответствовать своему прозвищу «Мориарти». Требовал, чтобы коллеги и подельники обязательно добавляли: «профессор». Частично это отвечало званию, поскольку он все-таки являлся кандидатом медицинских наук. Даже начинал когда-то писать докторскую. А за горб на спине у него была еще и вторая кличка – «Квазимодо». Он с удовольствием откликался на обе.
Хирургом Жогин был неплохим, с пилой и скальпелем управлялся справно, словно родился с этими инструментами в лапках. Любил резать по живому, это доставляло ему особенное наслаждение. А если еще и наркоз кончался – тут уж он просто зубы сжимал, чтобы радостно не улыбаться. Чужая боль всегда была для него минутой счастья.
Но вот ведь какая незадача. Когда вполне можно было обойтись без операции, Жогин все равно настаивал на хирургическом вмешательстве. И резал, резал, резал. Коллеги замечали за ним эту «странность», но уже опасались его жуткого неподвижного взгляда и постоянно двигающихся тонких пальцев, как у тарантула. По совместительству он еще работал и патологоанатомом в своей клинике. Днем хирург, ночью Франкенштейн в морге. Можно не продолжать.
С начала перестройки Жогин стремился подмять под себя всю платную медицину города. И это ему частично удалось. Он стал генеральным директором и главным акционером своей клиники, переведя её на частные рельсы. Потом негласно руководил другими больничными заведениями в городе. Включая морги и крематории.
Но случился прокол. За хищения и торговлю ценным медицинским оборудованием и аппаратурой, полученной из Германии, он попал под следствие и угодил на три года в тюрьму. Отбывал наказание здесь же, на Крайнем Севере. Куда же дальше-то послать, не на Полюс ведь? Но Советский Союз рухнул, и он вышел на свободу «с чистой совестью». Однако полгода, проведенные в колонии, пошли впрок.
Во-первых, Жогин обзавелся нужными связями в криминальном мире, а во-вторых, изменилась его психофизиология. И так-то патологически жестокий с детства, он приобрел просто монструозные маниакальные черты характера. Люто ненавидел всех, друзей даже больше чем врагов. А впрочем, было одно существо, которое он любил. Об этом мало кто знал, а сам Жогин не распространялся.
Её звали Ида. Кто такая, где он с ней познакомился? Неизвестно. Привез откуда-то с Урала. Купил ей небольшой домик на острове Соломбала. Обеспечил всем необходимым. Она любила выращивать цветы, Жогин пристроил к домику оранжерею. Ида была его ровесницей и не такой уж красавицей. Обычная женщина, худенькая, светловолосая и светлоглазая, тихая и скромная. Что их связывало? Загадка.
Но если бы можно было заглянуть в окно, вечером или глубокой ночью, то увидели бы эту женщину, сидящую за столом со свечой, гадающую на картах Таро, что-то шепчущую, всматривающуюся в неведомый мир. Возможно, она принадлежала к тому таинственному народу на севере России, который согласно преданиям ушёл под землю столетия назад – но не бесследно.
Имя ему – чудь. Легенды наделяют этот народ особыми мистическими знаниями и способностями. Да ведь и с самой Соломбалой связаны мифы о чуди. Вот Ида и появилась здесь чудесно и таинственно. Может быть, не столько даже по желанию Жогина, сколько по своему собственному. Как знак судьбы. Но факт остается фактом. Это было единственное существо, которое «профессор Мориарти» не только уважал и любил, но даже слегка побаивался.
Сам Жогин не так уж часто приезжал в домик на Соломбале. Он нанял Иде домработницу и садовника, но она от них отказалась. Привыкла всё делать сама. Что ж. Что хорошо ей, то хорошо и ему. Он слушался ее беспрекословно. Но и в свои дела не посвящал. А этого и не требовалось. Вещунья сама многое понимала, она получала эти знания из мистических «высших сфер» своего древнего племени. И его дела её по большому счету не интересовали. Ида жила своей жизнью. Словно бы под землей, как и все её предки.
А ему надо было утверждаться в Архангельске. Он и занимался этим с утра до вечера, с заката и до рассвета, переступая через кровь, тела, черепа. Для того чтобы подняться по ступеням криминальной лестницы наверх, надо ничем не брезговать, не считаться с жертвами, не иметь жалости к конкурентам. И уж тем более не оставлять их в живых.
Жогин и не давал им никаких шансов. Мертвый соперник уже не опасен, это просто тело в морге для препарирования. Сам же иногда и доставлял себе такое удовольствия, чтобы не растерять навыки хирурга и патологоанатома. Приятно было посмотреть на мертвеца, который столь глупо досаждал ему при жизни. Теперь вот лежит на прозекторском столе и только скалится. У Жогина был свой морг для подобных утех. Такие «бревна» он любил больше всего из бывших людей, исключая Иду. Но его «белоглазая чудь» – это за гранью.
Он и сам убивал, не только поручал это своим «быкам». Особенно предпочитал скальпель. Один короткий взмах – и кровь фонтаном из шейной артерии. Или бейсбольной битой по темени. С одного удара череп в крошки. Ну а на худой конец сойдет и автомат Калашникова. Это для особых любимчиков, чтобы разорвать тело в клочки. Потом – в собственный морг. Затем – в свой же частный крематорий.
К 1993 году Юрий Жогин, «Хирург», «профессор Мориарти» уже сорвал джек-пот в Архангельске и стал практически некоронованным королем преступного мира в этой «Северной Фиваиде». Но обрести официальное признание среди чиновничьей элиты города пока не мог. А хотелось. Никакие пиар-кампании тут помочь не могли. Он даже пытался баллотироваться на должность мэра, но всё впустую. Поэтому пришлось поступить проще: усадить в это кресло своего протеже Правдина.
Жогин вообще вызывал у собеседника неприятные чувства. Сам вид его пугал человека, особенно простого обывателя, даже не знающего, что представляет собой «профессор Мориарти». Возникало только одно желание: поскорее закончить с ним разговор и уйти. А потом вымыть руки.
Жогин знал об этом, поэтому намеренно пользовался своей необычной зловещей внешностью. Даже придумал себе особую черту – постоянно шевелить пальцами. Это вызывало у человека инстинктивное отвращение, а он только внутренне посмеивался. Наверное, подглядел эту особенность в фильме о Шерлоке Холмсе. Да и кличку «Мориарти» создал себе сам.
Когда на его горизонте возник школьный приятель Родион Козочко и предложил поучаствовать в «Афере века», он долго не раздумывал.
– Конечно, – сказал он. – Рассчитывай не меня, Родя. Я всегда знал, что из тебя выйдет толк, козлиная твоя морда. А как будем делить залежи алмазов?
– Как, как! По-братски.
– Идет.
Жогин при этом подумал: «Вот в эти залежи потом тебя и опустим. Козел драный». А Козочко тоже не опоздал со своей мыслью: «И не таких хирургов мертвячили, дай срок. Проф-фес-сор».
Саундтрек к северным алмазам
В Архангельск и Якутск Ясенев летал часто, почти каждый месяц, и жил практически на три города, включая Москву. Он невольно сравнивал эти три места. А если бы у него спросили: где лучше, краше, свободнее и легче дышится, то он бы затруднился с ответом. И в конце концов не стал бы отвечать вовсе, поскольку любил все эти города, включая, конечно, свой родной Брянск и первое длительное место службы – Воронеж.
Сейчас, в последний день своей командировки в Архангельск, Ясенев стоял на берегу Северной Двины, ближе к устью. Место было безлюдное. Вдалеке виднелся Михайло-Архангельский монастырь. Река безмятежно катила свои темные воды. В воздухе начинал разноситься гул церковных колоколов.
Здесь он постоянно встречался с источником из «Белого дома» Архангельска. Агент «Кохинор» запаздывал. Бывает. Но он действительно приносил настолько ценную и важную информацию, что заслуженно имел столь бриллиантовый псевдоним. Главный алмаз в короне английской королевы. Украденный у индусов.
Ясенев задумался. Четыреста лет назад, в конце Ливонской войны, Россия потеряла все выходы к Балтийскому морю, Нарву, Ям, Копорье. И тогда царский взор Иоанна Васильевича Грозного обратился к берегам Белого моря. На его побережье уже имелся крупный торговый центр – Холмогоры, но его месторасположение не устраивало царя. И через два года появился указ о строительстве в устье Северной Двины нового города с корабельной пристанью.
Царской грамотой был учрежден Архангельский посад, завершено строительство деревянных гостиных дворов, и в новый порт была официально переведена вся морская торговля с иностранцами. Ясенев усмехнулся: вот уж где можно было разгуляться зарубежным шпионам и отечественным контрразведчикам. Двинская область по доходам стала самой знаменитой в Московском государстве. Наступил её золотой век.
В XVII веке Архангельск вступил в эпоху своего расцвета. Из Европы на Русь везли английское сукно, брабантские шелка и бархаты, сахар, пряности, туалетное мыло, хлопчатую и писчую бумагу. А еще нитки, иголки, кружева, жемчуг, дорогую посуду, оружие, вино, которого тогда на Руси не производили.
Но самой выгодной статьей торговли были монетные операции. Из привозных талеров русская казна, не имевшая своего золота и серебра, чеканила царские деньги и пускала их в обращение. Такие перебитые европейские монеты на Руси называли ефимками. До алмазов дело еще не дошло. Их время наступило только сейчас.
Вывозили из Архангельска все, что давала русская земля. Хлеб, сало, лен, пенька, холсты, воск, кожи, знаменитые русские меха. И, конечно, корабельный лес. Победитель «Непобедимой армады» английский адмирал Френсис Дрейк даже благодарил русского царя за отличную оснастку своих кораблей, позволившую отстоять независимость Англии. Вот это зря. Не надо было давать «Англичанке» лес, она всегда России «гадит».
Ясенев подумал: а если бы он жил в то время? Занимался бы тем же, что и сейчас. На страже государственной казны и безопасности. Натура такая, ничего другого делать бы не хотел. И не мог. Потому что родился контрразведчиком. Не слишком-то благодатная профессия, если вдуматься. Часто не только ценят, но и в опалу ссылают. А то и к стенке ставят, как в 30-е годы. Ни за что ни про что. Но ведь не за славу работаем. За государеву честь.
– Он не придет, – услышал вдруг Ясенев за своей спиной.
Это был Тарланов. Грузный пожилой человек с объемистой желтой папкой подмышкой.
– Здравствуйте, Александр Петрович.
– Добрый вечер, Игорь Алексеевич.
– Он не придет, – криво усмехнувшись, повторил Тарланов.
Не надо было объяснять, о ком идет речь. Источник работает только с одним чекистом, если с двумя – это уже плохой источник. Но на «Кохинора» это было не похоже. Зачем ему нужно связываться еще и с Тарлановым? Занимая высокий пост в администрации губернатора, курируя архангельские алмазные месторождения, «Кохинор» отчетливо представлял, чем рискует, и никогда бы не вступил в доверительные отношения с местным чекистом. Хотя бы даже потому, что был ответственным человеком и давал подписку о неразглашении лично Ясеневу. Тогда что?
– Вы удивлены? – спросил Тарланов. – Я тоже.
Московский полковник пожал плечами. Возможно, это была какая-то провокация.
– Не совсем понимаю, о чем вы.
– Бросьте. Мы делаем одно дело. Я не знаю, под каким оперативным псевдонимом он проходил у вас, но мы, бесспорно, имеем в виду одно, и тоже лицо.
– Допустим.
– Мы также встречались здесь, на берегу Двины. Много раз.
– Продолжайте.
– Он сказал мне, что в случае чего я могу рассчитывать именно на вас, Александр Петрович.
– В случае «чего»?
– Ну-у… Сами понимаете. Это ведь как работа разведчика в тылу врага. Любой неверный шаг и… – Тарланов кивнул в сторону темных вод Двины. Добавил: – Я справлялся в администрации губернатора, он не появлялся на работе уже второй день. Думаю, что уже и не появится. Возможно, где-нибудь теперь на дне реки. Найдут не скоро. Да и искать не будут. Скажут: сбежал за границу, прихватив алмазы. Придумают какую-нибудь чушь. А потом еще и другие свои грехи на него повесят.
Ясенев все еще сомневался в искренности слов полковника. Колебался. Слишком все неожиданно и как-то топорно. Но и не верить было нельзя. А в честности «Кохинора» он не сомневался. Много лет вместе. Еще с Якутии, с советских времен. Он прокручивал в голове разные варианты. Но если Тарланов прав и «Кохинор» мертв, то это нокаут. Ну, ладно, нокдаун. Можно встать и продолжить бокс.
– В этой папке, – продолжил местный полковник, – та информация, которая должна вас заинтересовать. Мы собирали её вместе.
– Почему вы не обратились ко мне раньше, Игорь Алексеевич? Я в Архангельске уже две недели. Да и прежде мы не раз виделись на различных совещаниях и мероприятиях. У нас с вами всегда были нормальные, деловые отношения.
– То-то и оно, что обычные. И я не решался перевести их в другую плоскость, – признался Тарланов. – Присматривался. Но сейчас у меня просто нет иного выбора. Знаете, Александр Петрович, московским чекистам теперь так же мало доверия, как и к местным. Увы, время такое. Как писал перед отречением в своем дневнике Николай II: кругом трусость, измена и обман.
– Ладно вам, Игорь Алексеевич, вы же не царь-император. Так что дальше? Покажете мне содержание вашей папки?
– Потом, – подумав, ответил Тарланов. – В следующий ваш приезд.
– Ну, как хотите.
– Мне еще надо добрать кое-какие документы и материалы. Поставить точку в этом моем «романе с бриллиантами». А сегодняшнюю беседу будем считать прелюдией. Мне важно было знать, что я теперь могу на кого-то рассчитывать. Ведь могу же?
Ясенев оценил его состояние: взвинченное, нервное, сумбурное.
– Можете, – сказал он, взглянув на часы. – Тогда мне пора. Извините, рейс.
– Когда вас ждать снова в наших северных широтах?
– Через месяц. Вы, конечно, будете извещены о моей очередной командировке в Архангельск. Давайте договоримся: в местном УФСК между нами не должно быть никаких разговоров на эту тему. А встретимся здесь, на берегу Двины, на второй день после моего приезда, в это же время. Согласны?
– Так точно, – ответил Тарланов.
Интермеццо. Пауза
Уже в Москве в своем служебном кабинете Ясенев тщательно анализировал ситуацию в «Архангельской алмазоносной провинции» и свою недавнюю командировку. Изучал дешифрованные сообщения от источников. Своей агентурной сети он уделял особое, повышенное внимание, считал ее незаменимым элементом работы контрразведчика. Его «Alter ego», если можно так сказать.
В психологии это реальная или придуманная другая личность человека. А в контрразведке – конкретное имя или псевдоним твоего источника. Это, говоря проще, важный отдельный аспект твоей службы и даже собственной личности. Главное, чтобы он не стал вдруг твоим реальным «Alter ego» и метафорически не заменил тебя самого в твоем сознании и подсознании. А это иногда случается. «Медовые ловушки» на то и придуманы.
Ясенев любил предмет «Психология объекта», который изучал на Высших курсах КГБ со своим другом и земляком Сергеем Грачевым. Оба были лучшими студентами на этом семинаре. Сейчас полковник Грачев возглавлял особый отдел – политическую контрразведку. А Ясенев до сих пор с удовольствием и пользой почитывал специальную литературу по психологии и психофизиологии.
Но и о своем физическом состоянии не забывал, поддерживал спортивную форму. Поэтому утром на своей служебной квартире обязательно делал зарядку, бегал трусцой в парк, каждую неделю посещал бассейн и ведомственный спортзал, где занимался боксом и самбо, а по субботам с охотой ездил в чекистский тир – пострелять. Он был бы не прочь и дрова порубить, как Челлентано, поскольку скучал по Лизе, а их разрыв считал все-таки временным явлением.
О Тарланове он старался не думать, поскольку все больше и больше начинал сомневаться в искренности его слов. Вернее и скорее всего, он сам себя уверил в идее фикс. Так бывает. Став по какой-то причине в своем коллективе изгоем, Тарланов стал подозревать всех и вся. Крыша у чекистов тоже иногда плывет, как лед по Северной Двине. Скорее всего, ветеран просто заигрался в шпиономанию.
Один из первых признаков развивающейся шизофрении – это держаться обеими руками за какой-либо предмет. Карандаш, брелок, очки. В данном случае это была желтая папка. Ходить всюду вместе с ней, бояться потерять, придавать ей огромное мировое значение. Это ли не факт какого-то нездоровья в голове?
Но, с другой стороны, «Кохинор» на работе в администрации губернатора действительно больше не появлялся. Ясенев справлялся об этом и через официальные источники, и при помощи своей агентурной сети. Никто его больше не видел и не слышал. Исчез, как воду канул. Невольно вздрогнешь, вспомнив слова Тарланова, что он покоится на дне Северной Двины. Однако тут могло быть что угодно. Вплоть до бегства за границу или похищения.
От всех этих мыслей спасала работа. Первое, большая часть источников отмечала отсутствие какого-либо контроля со стороны властных структур Архангельска на месторождениях и практических действий по их разработке. Это совпадало с его собственными выводами после последнего посещения алмазоносной провинции. Но главное, и это касалось всей отрасли, всего сектора экономики – это отсутствие нормативной базы в области обращения драгоценных камней.
Во-вторых, явная заинтересованность в месторождениях транснациональной корпорации «Де Бирс». Она стремится к монопольному контролю над ними. Это следовало из анализа многих источников. Не только в Архангельске, но и здесь, в Москве, даже в Кремле. И, скорее всего, этот контроль нужен «Де Бирс» для того, чтобы действительно осуществить консервацию месторождений на долгий срок. Это и понятно. «Де Бирс», как регулятор мирового рынка алмазов, не заинтересован в поступлении на него дополнительного объема драгоценных камней.
Вот два главных акцента, которые выделил Ясенев в своем отчете руководству. Еще он обратил внимание на дельцов, крутившихся вокруг месторождений, где было много лиц кавказской национальности. Уже не граждан России, а Грузии, Армении, Азербайджана. Шота Арахамия, братья Тигранян, Ашот Петросян, Маргания и другие. Но и своих хватало. Тот же Березкин. Жогин. Банкетов. Козочко. Ефимчук. Правдин. Ниточки от них тянулись в Москву, в министерства, в администрацию президента, в Счетную палату и так далее.
Получался большой такой Колобок, катающийся по трассе Архангельск – Москва, «туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно». В этот питательный и румяный Клубок-Колобок входили архангельские высокие чиновники, их покровители в столице, фирмы и фирмочки, иностранные и доморощенные дельцы, связанные с криминалом, а то и отвязанные уголовники. Список, по желанию, можно было бы представить. Ясенев составил его, но к отчету пока решил не прикладывать, держал в запасе. В нем были перечислены не только всем известные публичные фигуры, но и рангом поменьше.
Через несколько дней, аккумулировав все сведения, Ясенев представил генералу Кораблеву, руководителю Главка, отчет о командировке в Архангельск. Выглядел он примерно так. «Де Бирс» стремится заполучить контрольный пакет акций «Севералмаза». Но исключительно для консервации проекта разработки двух месторождений, прежде всего Ломоносовского.
Братья Тигранян и другие «застольники», имея поддержку во властных структурах, в Кремле и правительстве, в сговоре с представителями транснациональной компании (вот откуда в Архангельске взялся Раймонд Кларк) создали акционерное общество «Согласие». С целью скупки контрольного пакета «Севералмаза».
А чтобы иметь административный ресурс, в число акционеров «Согласия» были включены «Управление делами президента России» в лице его руководителя Павла Бородина и местное агропромышленное объединение Назарьево, представленное губернатором области Ефимчуком. По 10 % каждому. Остальные акции разошлись по подставным фирмам и коррумпированным чиновникам.
– Сам черт сломит ногу в этой хитрой схеме, – выразился генерал, читая отчет Ясенева.
– Обратите внимание, Сергей Николаевич, – что в самом «Севералмазе» уже нет контрольного пакета акций. Он у «Согласия». А для прикрытия они отдали 26 % Комитету по управлению госимуществом Архангельской области, то есть Ефимчуку. Ну и разбросали по мелочи доли процентов разным фирмам, холдингам и физическим лицам. Таким образом, речь идет о вероятном нанесении в скором будущем ущерба экономическим интересам государства.
– Торопиться не будем, чтобы не попасть впросак. Видишь, какие там фигуры задействованы? Пока собирай и копи все материалы и документы по этому делу. Чувствую, нам еще много времени придется разгребать эти авгиевы конюшни.
– Как бы этот эшелон с алмазами не укатил далеко вперед, – выразил осторожное сомнение Ясенев.
– Ничего, догоним. А надо будет, вспомним белорусских партизан во время войны. Товарищей Ковпака и Машерова.
– Тогда уж и Судоплатова, – добавил Ясенев. – Очень эффективные методы применял.
Бриллиант – вечный дар любви под музыку Вивальди
На столе у Ясенева лежали свежие статьи различных экспертов и журналистов СМИ по «алмазной тематике» за последние две недели. Одна из них была только что напечатана в «Коммерсанте». Автор – Ж. Монц-Болейн. Ясенев знал в этой сфере практически всех. Тут что-то новенькое. Странная фамилия. Иностранец? Вообще, мужик или баба? Что это еще за Монстр-Облей такой, такая или такое?
Он просмотрел эту статью по диагонали, чтобы не терять времени. Написано живо, интересно, с фактами и выкладками. Ситуацию на архангельских месторождениях и вообще в этом секторе промышленности автор знает. Это хорошо. Сведущие профессиональные люди нужны в любом случае и качестве. Без гендерных признаков.
Ясенев отметил красным карандашом несколько абзацев в статье, перечитав их заново.
«…В эту алмазоносную провинцию еще три года назад ринулись все, кого манила заоблачная прибыль. А на нищую жизнь жителей самого Архангельска и провинции – не алмазоносной, а обыденной, – всем было плевать. Все они были вынуждены вступить в жестокую, а то и кровавую битву между собой. Приз велик – минерально-сырьевая база алмазов на архангельских месторождениях. И не с этим ли связана загадочная череда смертей в прошлом, настоящем и, мало кто сомневается, в будущем?».
«…Ситуация вокруг месторождений в Архангельске весьма странная. Есть многочисленные владельцы разных компаний, есть юридические интересы края, но нет первой фигуры на этом поприще. Акционерной компании «АЛРОССА». К чему бы это? Она добровольно сложила оружие? Или её вынудили к этому? А если так, то кто? Физическое или юридическое лицо? Уж не “Де Бирс” ли? Опять много вопросов, а ответов нет…».
«…Внимательный читатель попросит уточнений по Архангельску. Но данные по балансовым запасам месторождения и добычи засекречены до сих пор. Судя по всему, ситуацию там плотно и жестко берут под контроль органы госбезопасности. Мой вывод: “Архангельская алмазоносная провинция” может стать конкурентом на внутреннем рынке “АЛРОСЕ”. А станет ли?».
Откуда этот тип знает, что контроль со стороны контрразведки над «Архангельской алмазоносной провинции» перешел в новую стадию, чтобы закон и порядок не стали для дельцов пустым звуком, а жирные коты перестали облизываться от вкусной сметаны? Он вновь обратился к статье:
«…Сейчас “АЛРОСА” стремится занять особое место в мировом алмазно-бриллиантовом бизнесе. Претензии оправданы. Однако, может быть, “Архангельская алмазоносная провинция” чуточку исправит это положение, если решит приоткрыть забрало, показать лицо и вступить в борьбу на этом рыцарском турнире? Вопрос пока висит в воздухе, пропитанном густым туманом…».
Ясенев усмехнулся. Хорош «рыцарский турнир», где нет никаких правил! И все-таки решил, что писала женщина. По некоторым косвенным лексическим признакам, вроде «забрало», «рыцари», «кровавая битва» и прочей экспрессивной чепухи. Наверное, какая-нибудь старая дева. Полковник почему-то представил её дамой преклонных лет, в шляпке, с зонтом и седыми буклями. Как старуха Шапокляк из мультфильма.
Но он отметил также мужской азарт, краткость и некое шутовство для широкой читательской массы. Хотя и посетовал на некоторые ошибки или недомолвки. Но в алмазном бизнесе, не смотря на блеск продукции, много тайн и мрака. По крайней мере, как она сама написала, «пропитано густым туманом». Особенно то, что связано с «Де Бирс». И всего не расскажешь.
Ему вообще вдруг захотелось, чтобы она оказалась не старухой в деменции, а прелестной девушкой. Хотя это невозможно. Девушки не интересуются скучным производством и экономикой, они, как известно, любят бриллианты. А бриллиант, если верить девизу «Де Бирс», это – «вечный дар любви».
А вообще-то не плохо бы и познакомиться. Для дела, исключительно. Статьи в большой прессе почти всегда носят заказной характер. И это неудивительно. В бизнесе непростые отношения между конкурентами. В роли «третейского судьи» часто выступает журналист. Со всеми вытекающими выводами. Вот почему особенно важно перетянуть газетчиков на свою сторону.
Поэтому Ясенев уже загодя «положил глаз» на эту Монсиху. Так в народе прозвали историческую Анну Монц, любовницу Петра Первого, которую тот за измену казнил. А король Генрих VII за то же самое обезглавил свою неверную супругу Анну Болейн. Незавидная судьба, похоже, ждала и эту журналистку с открытым забралом на средневековом турнире.
Полковник преследовал свою цель. Планируя различные мероприятия по защите интересов России на алмазоносных месторождениях, ему было необходимо сформировать правильное общественное мнение с использованием СМИ. Пресса влияет и на думу, та – на правительство, а в итоге выходят нормальные законы. Появляется нормативная база, на которую можно опираться в своей работе.
Некоторые журналисты уже давно сотрудничали с ним в этом направлении. Кто-то из патриотических соображений, кто-то втемную. Почему бы и не Ж. Монц-Болейн? Хоть взглянуть на этот сохранившийся со времен Средневековья артефакт.
Однако заказные статьи стоили недешево. От пяти тысяч долларов и выше. Ясенев такими деньгами не располагал. Да и в службе госбезопасности подобного фонда для представительских расходов не было. Но контрразведка умела обходиться и без них.
– Ищи внутренние ресурсы, – иронично посоветовал ему генерал-полковник Кораблев, когда он впервые обратился к нему с такой проблемой.
Ясенев вновь стал вспоминать, чему его учили на Высших курсах КГБ, на занятиях по психологии, психофизиологии и прочим наукам, способствующим изучению и взаимодействию с объектом. Не только вербовке, но использованию источника втемную.
Имелись свои психологические приемы и методы воздействия на ум, душу, совесть, сердце и печень. Не всегда, конечно, получалось, но чаще срабатывало. А тут какая-то старуха Шапокляк с буклями и уже наверняка в дементном возрасте. Тьфу! Плюнуть и растереть.
На следующий день он случайно встретился в Доме журналистов с главным редактором «Независимой газеты» Трегубовым, своим старым приятелем и ровесником. У них там был творческий вечер и какая-то презентация. По давней традиции, выпив за стойкой бара по бокалу вина, сели за шахматный столик. Когда партия перешла в эндшпиль, Ясенев невзначай спросил:
– Слушай, Виталий Егорыч, тебе, часом, не знаком такой Монц-Болейн из вашей среды?
– А что? – обдумывая ход, отозвался главред. – Хочешь его вербануть?
– Мне тебя хватает, – пошутил Ясенев. – Ну, не лично, а твою газету, которая одна стоит десятка источников.
– Ста, – возразил Трегубов. – Но только для тех, кто умеет читать между строк.
– Так знаешь конкретно такого журналиста или нет?
– Ты мне специально мешаешь думать? Боишься проиграть?
– А ты у меня все равно никогда не выиграешь.
– Ладно. Предлагаю ничью.
– Согласен. Эндшпиль все равно ничейный.
А на доске у них оставалось только по королю и по одной пешки. Но это ничего не значит. Главное, где они расположены. И с одной пешкой можно победить.
– А конкретно такого журналиста я не знаю, – усмехнулся главред. – Призрак.
– Так я тебе и поверил. Чтобы гуру журналистики и никого в ней не знал! Да даже того, кто еще сам не сделал первый шаг в этом направлении.
– Я знаю только то, что знаю. А знаю я ничего, то есть ничего не знаю.
Да, главреда на кривой козе не объедешь. Трегубов, перед тем как убрать фигурки в доску, вдруг произнес:
– Когда-нибудь о тебе, Александр Петрович, начнут писать книжки. Но не надейся, что этим займусь я. А вот посоветовать название одного из этих бестселлеров по роду твой деятельности могу. И очень удачное, на мой взгляд. Оно касается что якутских алмазов, что архангельских, которыми ты занимаешься. «Блеск и ярость». Ты спросишь, почему?
– Нет, не спрошу.
– А потому, – невозмутимо продолжал Третьяков, не обращая внимания на его реплику, – что алмазы всегда сами идут в бой, причем с блеском и яростью. Метафизически. Не в бой, в смысле, как поллитровки в стекло. А сами воюют, сражаются за свою чистоту и красоту, как девушки за девственную невинность. Ну, правда, не все девушки. Некоторые, напротив, только и ждут своего покупателя, чтобы продаться дороже. Вопрос цены. Но есть и другие. Вот они-то и есть настоящие алмазы и бриллианты.
– Ничего не понял из твоего спича. Но, кажется, ты прав.
На следующий день Ясенев узнал неприятную новость. В Архангельске в своем доме на острове Сомамбала из табельного оружия застрелился полковник Тарланов. Однако предсмертной записки обнаружено не было. Если это убийство, то очень хорошо спланированное. Странно. К чему бы ему стреляться? Три недели назад Ясенев с ним общался. Они договорились о новой встрече. Впечатление больного и угнетенного человека Тарланов не производил, хотя и был взвинчен.
Да, он находился под наблюдением Службы собственной безопасности ФСК. Догадывался? Может, этим и был вызван разговор с московским контрразведчиком на берегу Северной Двины? Чтобы заручиться поддержкой? Или напротив, запудрить голову именно Ясеневу? Или все же он владел какой-то важной секретной информацией? Вопросов много, ответов нет.
А что касается этой Службы, то она была создана не так давно, в процессе постоянных реорганизаций. Во главе её был поставлен человек либеральных взглядов. Стараясь угодить команде Ельцина, он и его «опричники» мели в собственной конторе под гребенку всех, на кого можно было бы повесить ярлык «патриота» или «оппозиционера». Работали топорно, только на заданный результат.
Не так ли и в этом случае с полковником Тарлановым? Или он действительно был оборотнем в погонах? Может, совесть заела, потому и пустил пулю в висок? Ясенев за последний год прилетал в Архангельск чуть ли не каждый месяц. Но Тарлановым и его должностными нарушениями не занимался. Если он его так напугал своим очередным визитом и явился последней каплей на весах жизни и смерти, то…
Жаль, если так. Однако во всем еще предстояло разобраться следствию. А пока Ясенев срочно вылетел в Якутск, где также было «непаханое поле алмазов». Кто сторожить будет?
Горловое пение вечной мерзлоты
Якутия – уникальный регион не только для России, но и для всего Северного полушария планеты. Почти половина её территории расположена за полярным кругом. Это своеобразный поставщик температурных рекордов. Достаточно сказать, что разница температур самого холодного месяца – января и самого теплого – июля составляет в республике 70–75 градусов. За право называться «полюсом холода» Северного полушария Земли сражаются два якутских населенных пункта – Верхоянск и Оймякон.
Край вечной мерзлоты… Что это? Он занимает не менее 25 % площади всей суши земного шара. Единственный материк, где вечная мерзлота отсутствует полностью, – это Австралия. Даже в Африке имеется её наличие в высокогорных районах. А в России она занимает территории от 60 до 65 процентов. Наиболее широко вечная мерзлота распространена в Восточной Сибири и Забайкалье. А самый глубокий её предел отмечается именно в верховьях реки Вилюй в Якутии. Рекордная глубина её залегания здесь – 1370 метров. Это было зафиксировано в феврале 1982 года.
Значительная часть современной вечной мерзлоты унаследована от последней ледниковой эпохи. Сейчас она медленно тает. Содержание льда в промерзлых породах варьируется от нескольких процентов до 90 %. В вечной мерзлоте могут образоваться залежи газовых гидратов, в частности – метана. Это кладовая газа, угля, золота, алмазов, да и многих других природных ископаемых. Достать только трудно.
Одно из первых описаний многолетней мерзлоты было сделано русскими землепроходцами XVII века, покорявшими просторы Сибири. Впервые на необычное состояние почвы обратил внимание казак Яков Святогоров, а более подробно изучили первопроходцы из экспедиций Семена Дежнёва и Ивана Реброва.
В специальных посланиях русскому царю они засвидетельствовали наличие особых таежных зон, где даже в самый разгар лета почва оттаивает максимум на два аршина. Ленские воеводы Головин и Глебов в 1640 году сообщали: «Земля-де, государь, и среди лета вся не растаивает». В 1828 году Федор Шергин начал проходку шахты в Якутске. За 9 лет была достигнута глубина более ста метров. Шахта Шергина шла все время в мёрзлых грунтах, не вскрыла ни одного водоносного горизонта. В 1840-х годах Александр Миддендорф, еще один великий русский первопроходец, измерил температуру до глубины 116 метра.
С этого времени вопрос о существовании «вечной мерзлоты» уже всерьез не поднимался. Но сам термин «вечная мерзлота» как специфическое геологическое явление был введён в научное употребление в 1927 году основателем школы советских мерзлотоведов М.И. Сумгиным. Он определял его как мерзлоту почвы, непрерывно существующую от 2 лет до нескольких тысячелетий. Слово «мерзлота» при этом чёткого определения не имело, что и привело к использованию понятия в различных значениях. Впоследствии термин неоднократно подвергался критике – были предложены альтернативные термины, однако они не получили широкого распространения.
«Вечная мерзлота» «вмерзлась» в научные понятия, как бы расстроившись на три вида. Это кратковременномёрзлые породы (часы, сутки), сезонномёрзлые породы (месяцы) и многолетнемёрзлые породы (годы, сотни и тысячи лет). Между этими категориями могут быть промежуточные формы и взаимные переходы. Например, сезонномерзлая порода может не протаять в течение лета и просуществовать несколько лет. Такие формы мерзлой породы называются «перелетками». Учёт многолетней мерзлоты необходим при проведении строительных, геологоразведочных и других работ на Севере.
Многолетняя мерзлота создаёт множество проблем, но от неё есть и польза. Известно, что в ней можно очень долго хранить продукты. При разработке северных алмазных месторождений мерзлота, с одной стороны, сильно мешает, так как промёрзшие породы обладают высокой прочностью, что затрудняет добычу. С другой стороны, именно благодаря мерзлоте, цементирующей породы, удалось вести разработку кимберлитовых трубок в Якутии в карьерах. Например, карьер трубки Удачная, с почти отвесными стенками.
Когда Ясенев впервые приехал в Якутию, а было это еще в середине 80-х годов, он увидел как бы наяву сказку из своего детства. Суровая, но не жестокая природа, дивные народные танцы, загадочное горловое пение, удивительно добрые и наивные люди, красивая, удобная и теплая одежда…
Потом ознакомился с технологическими процессами добычи и извлечения алмазов в условиях Крайнего Севера. Ну и, конечно, с впечатляющими и завораживающими, так называемыми трубками, карьерами, откуда на свет божий являются в награду человечеству (или для его испытания в греховных помыслах?) алмазы.
Особенно поразила трубка «Мир». Своим величием – 500–600 метров в диаметре и столько же в глубину. Она напоминала геометрическую фигуру, перевернутый конус. А по ней поднимались вверх как по серпантину, словно игрушечные машинки, огромные большегрузые «Белазы», «Вольво», «Като» и другая спецтехника. Неповторимое зрелище. Ты ощущаешь себя песчинкой в этом огромном мире, но и с гордостью, что принадлежишь к человеческому роду, способному покорить Землю.
Как выяснилось впоследствии, в зимнее время, когда мороз достигает пятидесяти пяти градусов, эти машины выезжают из относительно теплого гаража и работают, не выключая двигателя, до поломки. Переносить такую температуру без привычки тяжеловато. Трудно дышать. Зимняя одежда жителей, как правило, шубы или дубленки чуть ли не до земли. И меховая шапка. Дома в основном на сваях, без соприкосновения с почвой.
И еще одна заметная особенность. Человек, привыкший в Москве или любом другом крупном городе к тому, что все автомобили на переходе, когда загорается зеленый сигнал светофора, сразу срываются с места, здесь будет озадачен. Местные автолюбители в городе Мирном не торопятся к такому же действу.
Они ждут еще секунд 15–20 – и только потом неторопливо трогаются. Ясенев сначала не сразу понял, почему так происходит? Потом догадался. А просто им некуда спешить. Посудите сами. Весь город с радиусом в 400 метров можно проехать вдоль и поперек за считанные минуты. Так чего ж понапрасну дёргаться?
Глава вторая
Танцы «молодого оленя» с бубнами
Компания «АЛРОСА» в 40 тысяч человек, правопреемник «Якуталмаза», занимала особое место не только в России, но и в мировом алмазно-бриллиантовом бизнесе. Её история начиналась в 1992 году. Именно тогда Указом Президента РФ было создано крупнейшее акционерное горнодобывающее предприятие закрытого типа «Алмазы России – Саха», ставшее одним из ведущих мировых производителей природных алмазов. Её деятельность регулировалась уставом, федеральным и республиканским законодательствами, а также арендными соглашениями с Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия).
Акционерами компании являлись Госкомимущество РФ, Фонд имущества Республики Саха (Якутия), администрация восьми улусов Западной Якутии, на территории которых компания работала, Фонд социальных гарантий военнослужащим при Правительстве РФ, работники предприятий и организаций алмазного комплекса. Для управления компанией была создана хорошо продуманная, весьма рациональная схема, предусматривающая надежное соблюдение баланса интересов всех акционеров.
Наиболее крупные – государственные органы исполнительной власти РФ и Республики Саха (Якутия), владеющие блокирующими пакетами акций, – могли отстаивать свои интересы по принципиальным вопросам. Кроме того, консолидированный пакет государственных акций (64 %) позволял контролировать федеральным и республиканским органам власти подбор кандидатур в руководящие структуры управления и формирование стратегии и тактики деятельности компании.
Важнейшим органом компании являлся Наблюдательный совет общей численностью 15 человек. Большинство из них были чиновники высокого государственного ранга и авторитетные специалисты из структур РФ и Республики Саха. В компетенцию Наблюдательного совета входило решение общих вопросов, в том числе касающихся работы правления, за исключением отнесенных уставом к исключительному ведению общего собрания акционеров.
«АЛРОСА» вела добычу алмазов в отдаленных районах Крайнего Севера. Её производственные издержки значительно превышали аналогичные показатели других предприятий, работающих в более благоприятных географических и климатических условиях. Благодаря уникальной квалификации инженерного корпуса, высокой профессиональной выучке и опыту персонала, а также энергичным действиям руководства «АЛРОСА» не только сохранила конкурентоспособность и объем экспортной доли на мировом рынке, но и активно участвовала в ряде международных инвестиционных проектов.
Запасы алмазов, выявленные и разведанные для горнодобывающих предприятий «АЛРОСА», значительны по объему и характеризуются высоким качеством. Компанией был разработан и четко реализовывался приоритетный план строительства, реконструкции и модернизации объектов добычи сырьевых ресурсов. В связи с неблагоприятным инвестиционным климатом в стране такой план реализовывался за счет собственных средств и по мере возможности полноценно и своевременно финансировался. Важнейшим результатом подобной стратегии была устойчивая производственная деятельность…
Это к концу 1993 года. Ясенев начинал курировать «Якуталмаз» еще при советской власти. Читая теперь этот отчет, который сам же и написал для официальных СМИ, он криво усмехался. Как говорил товарищ Саахов в «Кавказской пленнице»:
– На бумаге всё верно, так, всё правильно, но… Это не просто хулиган, а крупный научный исследователь, собиратель сказок, легенд, тостов…
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Поговорка для Раймонда Кларка.
В поставленные перед Ясеневым, как контрразведчиком задачи входило в первую очередь укрепление авторитета и влияния компании в деловом мире, в правительственных структурах, политических и общественных кругах в России и за рубежом. А также проведение целенаправленной политики по формированию внешней инфраструктуры, обеспечение безопасности интересов компании при сотрудничестве с крупными игроками международного алмазно-бриллиантового бизнеса. В частности, с корпорацией «Де Бирс».
Вторая часть его службы должна была быть посвящена обеспечению финансовой и экономической безопасности компании в её внутренних структурах. То есть выявление фактов коррупции, хищения финансовых и материальных средств, всевозможных злоупотреблений должностными полномочиями, вывода активов с помощью мошеннических схем и т. п. Всему тому, что мешает компании работать более эффективно и результативно в рамках закона.
То же самое аналогично соответствовало и его функциям на «Архангельской алмазоносной провинции». Только там было сейчас гораздо сложнее, поскольку месторождения находились в стадии «подросткового полового созревания», а «АЛРОСА» вступила в пору зрелого возраста. Одно дело – необузданный мальчик со своими буйными фантазиями, и совсем другое – контролирующий свои желания дядя. Хотя и тоже с тайными, порой порочными мыслями.
Определяя основные направления своей деятельности, Ясеневу приходилось первоначально ошибочно полагать, что наиболее сложные задачи для него будут лежать в области дальнейшей интеграции компании в мировую алмазную отрасль и выход «АЛРОСА» на международный рынок, путем формирования её зарубежных структур. А также установление и поддержание деловых отношений с иностранными общественными организациями мирового алмазно-бриллиантового бизнеса, контроль взаимовыгодного сотрудничества с основными потребителями алмазной продукции (диамантерами) и покупателями алмазов (корпорацией «Де Бирс»).
Однако чем глубже он погружался в финансовую и хозяйственную деятельность «АЛРОСА», тем больше и больше понимал, что это далеко не так. Не однозначно. Сложность задач лежала не только в этой плоскости, но и в других тоже. При организации внешней деятельности «АЛРОСА» с позиции безопасности всё было предельно ясно: есть «мы» и есть противоборствующая сторона, за которой стоят специальные службы соответствующих стран. Вот на этом поле и надо выстраивать свою контрразведывательную деятельность. Опыта ему здесь было не занимать.
Что касается коррупционеров, махинаторов, мошенников и расхитителей государственной собственности различных мастей и уровней, то тут оказались трудности едва ли не непреодолимой силы. Почему? «Бодался теленок с дубом», – написал когда-то такую брошюру Солженицын. Он подразумевал свою диссидентскую деятельность в СССР.
Ясенев тогда стоял как раз на страже государственных интересов Большой России и ловил шпионов. Диссидентами занимались другие. Идеологическими противниками, как Солженицын, третьи. Сам Андропов. Но теперь уже Ясенев чудным образом превратился в оппонента Кремлю, то есть новой компрадорской власти. И «бодался» теперь с ней. Всё перевернулось с ног на голову. Бывшие гонители диссидентов сидели в Кремле, защитники интересов государства стали оппозиционерами.
А в начале своей деятельности по линии госбезопасности в «АЛРОСА» Ясенев полностью погрузился в освоение поставленных задач. С одновременным выстраиванием деятельности компании на международном уровне. Это была интересная и увлекательная работа. Постоянные командировки за рубеж, встречи и совещания в странах, где был развит или только начинался алмазно-бриллиантовый бизнес. Основными государствами производителями алмазов были ЮАР, Ботсвана, Ангола, Намибия, Конго, Канада, Австралия.
Главные гранильные центры находились в Бельгии, Израиле, Индии, Китае, США, Таиланде. Наиболее активные потребители в производстве ювелирных изделий алмазно-бриллиантовой продукции – это Швейцария, Англия, Япония, Великобритания, опять же США. Мировой центр по реализации алмазов, конечно же, корпорация «Де Бирс». Так что поездить по странам и континентам ему пришлось много.
Постоянные переговорные процессы шли на разных уровнях, в том числе и с руководством некоторых стран. Спектр международного взаимодействия был широк. С крупными производителями алмазов, помимо «Де Бирс», компания «АЛРОСА» поддерживала активные контакты всегда. Это были, к примеру, добывающие компании «Рио-Тинто» и «Би Эйн-Биллитон».
«АЛРОСА» не только на постоянной основе принимала участие во всех значимых мероприятиях мирового алмазно-бриллиантового бизнеса, но также и сама выступала и проводила на территории России крупные международные выставки и ярмарки. Регулярно организовывались встречи руководства «АЛРОСА» с главами дипмиссий и представителями правительств Анголы, Намибии, Ботсваны, ЮАР, Канады и других стран. Обязательное участие в них принимал Ясенев.
В интересах продвижения бизнеса компании были установлены и поддерживались связи с соответствующими департаментами МИД РФ и российскими посольствами в зарубежных странах. Незабываемыми эти поездки для Ясенева были еще и потому, что они позволяли знакомиться с достопримечательностями этих государств, с различными национальными культурами, древней архитектурой, памятниками старины, укладом жизни разных народов.
А иногда в этих поездках к нему присоединялась его любимая Лиза, по линии «ЮНЕСКО». И, конечно же, не за счет «АЛРОСА», а МГИМО. Муж и жена шутливо соглашались в том, что главное – это как бы самим случайно «не вмерзнуть» в «вечную семейную мерзлоту». А так тоже бывает.
Аппассионата под ласковый шелест купюр
Каждая из фигур этого хорала, зоомагазина или просто цирка-шапито, принимавших участие в «Афере века», могла уже загодя вызвать интерес криминалистов. Они вовсе не были какой-нибудь уличной шпаной, шлымозами или гребнями засухаренными. Напротив, респектабельными и даже высокопоставленными господами-товарищами. К примеру, что представлял собой Зверейко? Пятый или шестой заместитель министра финансов Российской Федерации. А Енотов? Особа, приближенная к Ельцину. Тер ему спинку в бане, а вообще-то входил в Управление делами Президента.
Бычковский вообще был одним из руководителей «Гохрана». А эта организация распоряжалась всеми алмазами и бриллиантами в России. Нарциссов-Флокс и Собакин-Дубов были начальниками средней величины в Роскомдрагмете и Госфонде. Ну и как изюминка на торте – Банкетов. Этот сказочный деятель негласно верховодил в таможне. Но был не поймешь кто. Не пришей, куда не надо, рукав. То ли банкир, то ли бандит.
Еще в малолетстве он выбил себе на груди татуировку: «Горбачев». С одной стороны, как дань уважения к негласному пахану всех воров в СССР, а с другой – эта аббревиатура в криминальной среде расшифровывалась так: «Гарантирую обещанное ранее Брежневым, Андроповым, Черненко, если выживу». Кто понимал, одобрительно похлопывали его по плечу.
Но как же они все очутились под крылышком, вернее, копытцем Козочко? А так. Свинья грязи сыщет. Козочко умел гипнотически заговаривать, забалтывать людей, обещая им златые горы и заманчивые перспективы. Он обладал огромной силой убеждения, фантастическим враньем и волшебными навыками Кашпировского вкупе с Чумаком. Люди после его слов буквально падали в обморок от удовольствия, представляя себя кувейтскими султанами.
Словом, начало «Аферы века» было положено. Была создана компания «Голден Ада». К этому времени «Рука рынка» уже глубоко залезла в карман государства и приватизировала крупные и средние заводы, предприятия, недра, средства массовой информации, всё, до чего могла дотянуться. Ввела и узаконила частную собственность, вырастила в колбах и пробирках «своих» олигархов из числа в основном комсомольской и партийной номенклатуры, прибрала к себе и силовые структуры, создала целую армию охранников, вооруженные ЧОПы, чтобы спокойно спать, не опасаясь народных возмущений и голодных бунтов.
В Архангельске промышленная добыча алмазов еще не начиналась, но они уже стали растекаться по широким гульфикам, благодаря усилиям «Северной геологии», «Архангельскгеологии», «Севералмазу», «Согласии», «Солэксу» и другим полукриминальным фирмам и полулегальным структурам. Тут-то Козочко вовремя и подсуетился со своей российско-американской компанией «Голден Ада».
На своей малой родине он вошел в сговор с Барковым, Барановым, Свиридовым, Жогиным, а также с губернатором края Ефимчуком и мэром Архангельска Правдиным. А еще с братьями Тигранянами, Эдмондом и Гамлетом. Ну и с «Северным берегом» Маргания и Арахамия. С кем еще – предстояло разбираться. Возможно, с канадской компанией «Алмазный берег» Тимана Хэддона. А как обойтись без Ашота Варданяна, стукача «Де Бирс»?
Все это Ясенев выяснил у своих источников только к концу 1993 года после нескольких командировок в Архангельск и тщательного анализа ситуации на алмазоносной провинции. Тут-то он особенно пожалел о желтой папке полковника Тарланова и бесследном исчезновении своего незаменимого агента «Кохинор». Игорь Алексеевич оказывался прав. Ясенев с укором для себя признал это. И посетовал, что не убедил Тарланова сразу передать папку ему.
Но что он мог поделать в то время, когда летом на берегу Северной Двины Тарланов намекал ему о собранной им и «Кохинором» важной информации о творящемся на алмазных месторождениях беспределе? Нет, хуже, бесцеремонном грабеже государственного достояния России? Ясенев и сам знал об этом. Но они ведь и договорились о новой встрече в следующий его приезд в Архангельск. И что? Нет Тарланова, нет «Кохинора», нет желтой папки.
Теперь всю информацию приходилось собирать и восстанавливать по крупицам. А на это уходило время. И оно играло не на стороне Ясенева и его коллег. А за команду Жогина, Ефимчука, Правдина, Козочко и других местных воротил. Да еще в самой Москве оставалось столько же паханов, только гораздо выше рангом. До которых даже не дотянуться.
Ну что же. Как говорится, глаза боятся – руки делают. «Медоед» шел по следу, тщательно принюхиваясь к каждой звериной тропке. Началась оперативная разработка фигурантов. Изучая историю их восхождения и становления, Ясенев все больше и больше поражался. Такого он не видел даже в голливудском кино и не читал в классических бестселлерах типа похождений графа Калиостро или бравого солдата Швейка. Взять, к примеру, Банкетова.
Вообще-то это была не настоящая его фамилия. Подлинная, родительская, данная ему при явлении на свет – Чиридяйкин. Но когда он подрос и получил паспорт, вместе с правом взять другую фамилию, то и выдумал эту. Надо сказать, ничуть не лучше прежней по звучанию. Тут его судьба схожа с Козочко, прослеживается какая-то ассоциация.
Хотел через пару лет поменять на третью, Мимолётов, но вовремя остановился. Понял, что с фамилиями ему не везет. Надо тормознуть. Придумать новую всегда успеет, когда пустится в бега. А в этом он вообще-то не сомневался. О нем, как и о Козочко и других героях этой зверофермы, можно было бы написать серию детективных романов. Или снять приключенческий фильм, а потом и сиквел. Ясенев не сомневался, что когда-нибудь в будущем так и сделают.
Саша Банкетов был основателем одного из первых независимых коммерческих банков и первой действующей в России биржи недвижимости. Там он и познакомился с крутившимся на бирже Козочко. Его личное состояние уже тогда оценивалось примерно в 300 миллионов долларов. Согласно агентурному источнику, Банкетов начал свою коммерческую деятельность несколько лет назад, открыв компанию по производству садовых лопат.
А до этого, еще в юные годы торговал… воздухом. Собрав бомжей, велел им принести все аптечные пузырьки с помойки. В эти ёмкости в то время наливали спиртовой боярышник, стоил он недорого, «синяки» пили и отрубались. Некоторые, правда, и умирали. Занимался этим производством бизнесмен-пчеловод Брынцалов, олигарх и будущий кандидат в президенты России.
Банкетов заказал в типографии наклейку: «Целебный воздух из Тибета и Шамбалы. Стопроцентное излечение от всех болезней». Организовал сеть палаток, где и торговали этим воздухом. Прибыль, надо признать, достигала тысячи процентов. Первоначального-то вложения капитала практически никакого. Оплата бомжам – тем же боярышником.
Банкетов быстро стал тем, кого во все времена называют «золотым мальчиком» делового мира. Но Россия во всех смыслах страна исключительная. Тут плеяда молодых мальчиков-бизнесменов старалась богатеть любым путем. И видела впереди только радужные горизонты. Для этого они брали огромные кредиты в государственных банках, залезали в долги к знакомым и незнакомым, даже к бандитам, которых было много на каждом коммерческом километре их пути. И нисколько не задумывались о последствиях.
От производства садовых лопат и тяпок Банкетов перешел к выпуску нумизматики. Ему еще не приходилось наступать на грабли. Его банк получил от российского правительства специальное разрешение на выпуск 10.000 «серебряных монет» достоинством в один рубль. А дизайн он разработал сам, при этом на одной стороне монеты должен был быть изображён профиль его жены. Что всё-таки говорит о его романтической натуре и «тонкой душевной организации». Надо заметить, что его «Всероссийский биржевой банк» вёл операции с более чем половиной всех банковских документов в России.
И его детище считалось настолько ценным для коммерческой деятельности российского правительства, что Банкетов даже получил в своё личное распоряжение дом одного из высших официальных лиц страны. Он, несомненно, был талантливым предпринимателем. Но все свои способности потратил только на одно. Рвался вперед к цели личного обогащения, к заветному корыту с «зеленью», как гончая собака бежит по следу лисицы. Но эта «лиса» часто в итоге оказывалась капканом в норе, который стоил многим таким предпринимателям всего нажитого «непосильным трудом» имущества, а порой и самой жизни.
Еще в горбачевскую оттепель Банкетов создал несколько студенческих кооперативов, в том числе основной «Жилремстрой», по отделке фасадов зданий. Он быстро сообразил, что традиционный метод установки строительных лесов занимает довольно много времени и удорожает себестоимость работ. И стал использовать так называемый «люлечный метод», когда отделочники, находясь в люльке-корзине, передвигаются вдоль стены и выполняют свою работу намного быстрее.
Были предположения, что деньгами и связями ему также помог сам Ельцин, в благодарность за финансирование своей первой избирательной компании, в которой Банкетов принимал активное участие. В поле зрения органов госбезопасности его банк попал в связи с тем в том числе, что выпускал ничем не обеспеченные ценные бумаги, векселя, акции.
Интересно то, что еще в начале 1990-х годов, когда в России ходили упорные слухи о том, что Комитет государственной безопасности СССР будет запрещён или расформирован, Банкетов взял к себе на работу двух офицеров КГБ из отдела наружного наблюдения. Майоры Болдырев и Аверин должны были обеспечивать его личную безопасность.
В течение примерно одного года они совмещали службу в КГБ с работой на предприятиях Банкетова в Москве. Согласно агентурным сообщениям, майоры очень близко сошлись с Банкетовым и стали участвовать в его деловых операциях. Когда ряд его предприятий начал приносить высокие прибыли, эти бравые ребята тотчас сделались его основными помощниками и директорами этих корпораций.
И вот тут-то на горизонте Банкетова замаячил Козочко со своим ценным предложением по вывозу архангельских алмазов из России. По вывозу того, что еще не было извлечено из земли. Забавно. Но Саша Банкетов на вопрос: хочет ли он принять участие в этом деле, просто-напросто прокричал:
– Да-а! – и подпрыгнул в кресле.
Все члены этой зверофермы умели высоко прыгать, быстро бегать и переобуваться прямо в воздухе. Кенгуру с помесью мартышки и только. Но главные их трюки были еще впереди…
Краковяк вприсядку, или ремонт в конторе
В конце 1993-го года органы госбезопасности России накрыла очередная, какая собьешься со счета, волна реорганизаций. К этому времени сменилось пять вывесок: КГБ – АФБ – МБВД – МБ – ФСК. С каждой новой «реформой» вымывались лучшие кадры, профессионалы, самые работоспособные звенья системы. А главным страстным желанием пришедших к власти демократов было вообще ликвидировать эту структуру. Еще лучше – вытравить даже саму память о ней. И чего это они так старались? Угадай, как говорится, с одного раза.
Еще когда с кремлевского шпиля спустили флаг СССР, на Лубянку стали шастать какие-то одиозные подозрительные личности, которых в советское время и на пушечный выстрел к КГБ не подпустили бы. Разрешение на это получили от нового назначенца Бакатина. Более того, им даже выделили кабинеты, и они ежедневно приходили в Центральный аппарат, как на службу. По распоряжению Бакатина эти одесские шлымазлы имели право запрашивать для ознакомления любые документы и материалы, даже с грифом секретности.
Тотчас же в газетах стали появляться сенсационные статьи, уличающие разных людей в сотрудничестве с КГБ. Все громче из стана демократов звучали призывы полностью открыть архивы госбезопасности и предать огласке фамилии стукачей. Хотя такого рода источники используют все спецслужбы мира. Мало того, что в свое время они сами были сексотами Комитета, стучавшими друг на друга. Но за различные финансовые преступления, сотрудничество с западными спецслужбами, не считая такой мелочи, как сексуальные извращения, их самих можно было в советское время прямым ходом отправлять на шконку.
Основная проблема была еще и в том, что перед ними оказались распахнутыми архивы госбезопасности, включая агентурные дела и оперативные разработки. Как меню в ресторане. Заказывай, что хочу. Они-то и были главными акторами реформ. А главное, в самый ответственный для страны момент, когда спецслужбы западных стран начали хозяйничать в России, как у себя дома, органы государственной безопасности оказались полностью выведены из игры. А тут еще Ельцин, чтобы окончательно выслужиться перед Западом, показать им, что он «в доску свой», пошел на беспрецедентный шаг.
Он помиловал всех без исключения агентов иностранных разведок, осужденных и отбывающих наказание за измену Родине. Некоторых из них в свое время еще излавливал Ясенев, когда работал в Воронежской области. В обществе посредством СМИ формировалась идея, что эти люди не предатели, а «борцы с тоталитаризмом». И вообще, лучше оставить на свободе десять преступников, чем посадить в тюрьму одного невиновного. А заодно «до кучи» были помилованы и перебежчики из КГБ, заочно приговоренные советским судом к высшей мере наказания.
На сей раз, всего через два месяца после публичного расстрела Верховного Совета, вновь ретиво и рьяно пошла чехарда с переименованием, выводом личного состава за штаты, переаттестация, корректировка функций и прочая «мелочовка», такая, как освобождение под шумок неугодных для власти начальников. «Неправильного» директора сменили на «правильного». ФСК (Федеральную службу контрразведки) переиначили в ФСБ. Очень уж хотелось подражать в аббревиатуре американскому. Одна буковка только подкачала.
Но если бы только сменили вывеску, так нет. Начали кромсать и резать. Топить и давить. Остававшиеся профессионалы были, мягко говоря, дезориентированы, трудно было вообще понять, что происходит в стране и как теперь строить свою работу? Преданные заслуженные чекисты вынуждены были уйти в резерв. Ради этого, по сути, реформа и затевалась. Но и в самих спецслужбах были такие, которые переобувались в новые башмаки прямо на лету, в воздухе.
На государственном уровне была создана Комиссия по назначению руководящего состава. В нее вошли как опытные сотрудники органов госбезопасности, так и видные представители либерально-демократического лагеря. Юристы, актеры, журналисты, бизнесмены, правозащитники. Заика Сергей Ковалев, поп-расстрига Глеб Якунин, диссидент Владимир Буковский. С лозунгом: «Сражаться с коммунизмом и КГБ любыми способами и методами».
Они не только не имели никакого понятия о важности спецслужб, но теперь горели ярым желанием отомстить за свое добровольное стукачество. А сколько им помогал сам Андропов, и вытягивало из кухонных дрязг Пятое Управление Бобкова, закрывая глаза на их «кукиши в карманах»? Прав мудрец, сказав:
– Помогая кому-либо, не забывай, что потом во всех своих бедах он обвинит именно тебя.
Через сито кадровой Комиссии «на благонадежность» в начале 1994 года пришлось пройти и полковнику Ясеневу. От предстоящего мероприятия он не ждал ничего хорошего. Однако был спокоен и хладнокровен, как настоящий медоед – и не с такими гиенами и шакалами схватывался. Да еще гнался потом вслед за улепетывающей стаей, кусая за ляжки падальщиков. И один в поле воин, а «кто не спрятался – я не виноват». Иду искать.
Правда, он был не одинок. В органах госбезопасности еще оставалось немало честных, профессиональных, преданных России людей. «Святая Инквизиция» заседала в конференц-зале на Лубянке, а убеленные сединами генералы толпились в коридоре, не по-взрослому волновались и задавали одни и те же вопросы:
– Что спрашивали? Как отвечал? Терзали сильно?
Ясенев редко надевал форму с погонами и медалями, но сейчас она была к месту. По-военному собранный, моложавый, спортивный, он выглядел среди других «абитуриентов» инородным телом. Все они были старше полковника лет на десять-пятнадцать. Вот только его земляк Грачев был в том же звании и ровесником.
Они стояли в сторонке и тихо беседовали. Знали друг друга еще со школы, вместе и пришли в КГБ.
– Думал ли ты, Саша, что когда-нибудь нашу службу в органах госбезопасности сейчас в самой одиозной прессе будут сравнивать с преступной организацией, чуть ли не с гестапо, а проверку на лояльность новой власти станут проводить бывшие диссиденты, агенты иностранных разведок и просто психически ненормальные правозащитники? – риторически спросил Сергей.
Ясенев пожал плечами, сказал:
– Конечно позор. Ветеранов жалко. Им-то сейчас каково? Размазали в грязь всего за три года. Все они дезориентированы. И это в самый ответственный, важнейший для страны момент, когда спецслужбы западных стран уже вовсю хозяйничают в России.
Подошла очередь Ясенева. Члены комиссии с каким-то пристальным удивлением уставились на него. Казалось, их даже сразила его молодость и отсутствие «пивного животика». Откуда этакий молодец вдруг взялся? Да среди старых-то зубров?
Потом начался «экзамен» на профпригодность. Ясенев отвечал четко, оперативно, по форме. Известный правозащитник, отличившийся в первую чеченскую войну тем, что радел лишь за противную сторону, а на российских военнопленных чихал, заикающимся голосом, с мэканьем и эканьем, задал свой излюбленный коварный вопрос:
– А вы работали по идеологическому направлению в Пятом управлении?
– Нет. Вся моя служба в КГБ была связана с контрразведкой.
– Тогда дополнительный вопрос. А если бы вам это поручили?
Ясенев избежал каверзной ловушки. Молниеносно ответил:
– Я военнослужащий, если вы еще заметили. И должен выполнять приказы вышестоящего руководства.
– Хорошо, идите.
Через несколько дней неопределенности Ясенева вызвал к себе начальник Второго главка генерал-полковник Кораблев, оставшийся в прежней должности.
– Поздравляю. Ты утвержден руководителем Управления экономической контрразведки. Переоформляйся, одним словом. Теперь тебе предстоит еще больше работы, будешь в придачу курировать и топливно-экономический комплекс России, да и много других задач. Ну а с алмазодобывающей промышленностью ты уже давно знаком. С дополнительными функциями справишься?
– Если это вопрос просто так, Сергей Николаевич, то ответа не требует. А если нет, то вы меня знаете. Постараюсь оправдать доверие и приложу все усилия.
– Да, знаю. Но учти, ситуация в стране очень сложная.
– А когда она была простой в нашей службе?
– Верно. Особое внимание сейчас обрати, в частности, на алмазные месторождения в Архангельске. Там сейчас для тебя главное поле битвы.
Ясенев покинул кабинет начальника, получив дополнительные инструкции. А ситуация в стране действительно была очень непростая, можно сказать – критическая. Однако на новой высокой должности у Ясенева появились значительные возможности анализировать и отслеживать происходящие в сфере экономики процессы.
А также и влиять на некоторые из них. Как? Информировать правительство с целью исправления тех или иных просчётов и недостатков. А главное – пресекать коррупцию и различные преступления. Руководителей УЭК, как правило, приглашали на заседания правительства при рассмотрении профильных вопросов, и Ясенев мог напрямую обратиться к премьер-министру Черномырдину или его замам.
Он направился в свой отдел, известив сотрудников о новом назначении, и передал руководство заместителю подполковнику Демидову. Потом собрал личные вещи, важные бумаги и перебрался в кабинет этажом выше. Это была генеральская должность, значит, Ясенева вскоре ждало повышение в воинском звании. Вместо трех звездочек одна, но крупнее. Кстати, Сергея Грачева также утвердили в должности руководителя отдела политической контрразведки.
Ясенев на лаврах не почивал, сразу сосредоточившись на дополнительных функциях. Теперь ему предписывалось руководить четырьмя отделами, начальниками в которых были заслуженные полковники, старше его по возрасту. Надо было налаживать деловые, доброжелательные отношения.
Это он умел, поскольку личной неприязни ни к кому из своих коллег никогда не испытывал. Ценил и уважал только за деловые качества. И отсутствием дипломатии не страдал. Этому он невольно поднабрался у Лизы, которая как раз преподавала историю международных отношений и дипломатию зарубежных стран в МГИМО. А он был всегда любознателен.
В общем подчинении у Ясенева сейчас оказалось 120 контрразведчиков. Все они вкупе с ним должны были обеспечивать наиболее важные стороны финансово-экономической деятельности страны. Это были опытные сотрудники, которых не надо было учить ничему новому. Сами с усами. Да Ясенев и не ставил такой задачи.
Он по своему богатому воронежскому опыту знал, что контрразведчик работает в тишине и без привлечения к себе внимания. Всякие красочные погони за шпионами со стрельбой – это для кино. Мыльные оперы. Важнее анализ, психология и мотивы объектов проверок. Тех, кто попадает в поле зрения органов государственной безопасности. С годами у него выработались правила. Какие? Четкое следование закону. Аналитический ум, профессиональные навыки и неизменность присяге на верность Родине. Словом, как в опере Глинки «Жизнь за царя», под ту же патриотическую музыку.
Ну, еще, конечно, если по Дзержинскому, – холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Научись держать свои эмоции при себе. Если ты кого-нибудь открыто ненавидишь, пусть даже он заклятый враг, значит, тебя уже победили. Тобой управляет тот, кто тебя злит. А это уже Конфуций и Лао-Цзы. И последнее, в качестве шутки. Настоящий чекист, как любой умный человек, может иногда дурачиться, это дураки пусть умничают…
Спустя некоторое время Ясенева по линии правительства включили в ряд ведомственных комиссий по наиболее проблемным вопросам экономики. Например, по защитным мерам во внешней торговле. Ему предстояло также курировать кредитно-финансовую и банковскую сферу, топливно-экономический комплекс и область обращения драгоценных металлов и камней.
Для работы выделялась персональная машина со специальной засекреченной связью и оборудованием. От личного шофера и телохранителя он хотел отказаться, но их ему и не предложили. Тем лучше. Привык работать в одиночку. Ясенев, как клинический, в хорошем смысле, трудоголик, целиком погрузился в работу, не замечая, как летит время. Дни, недели, месяцы…
Личная жизнь. Аллегро
Вечером на конспиративной квартире Ясенева ждал сюрприз. Полковник еще в коридоре заметил на полке женскую сумочку и внутренне напрягся. Встречи ни с кем из источников он не планировал. Всегда готовый к любым неожиданностям, Ясенев подосадовал, что при уходе со службы сдал табельное оружие. Однако когда вошел в комнату, расслабился. Сюрпризом стало появление любимой до сих пор супруги.
Елизавета уютно, поджав под себя ноги, устроилась в кресле за журнальным столиком, а на нем стояла нераспечатанная 250-граммовая фляжка Бахчисарайского коньяка, две пустые рюмки и лимон на блюдечке. Туфли с высокими шпильками валялись рядышком, на полу.
– Ого! – механически произнес он, добавив стихами: – И встретишь ты, когда не ждешь, и обретешь, когда не ищешь. Дальше забыл… Лиза, что ты здесь делаешь?
– Вот как раз сижу и жду.
– Это служебная квартира, – напомнил Ясенев. – Только для встреч с источниками.
– А разве не я твой неиссякаемый источник живой воды? – отшутилась она. – Или уже нет?
– Ну да. И все же? Я тебе не говорил, где временно обитаю. Могла бы просто позвонить, если дело срочное.
– Мне обязательно надо видеть твое лицо при разговоре. И вообще соскучилась. А за конспирацию не волнуйся. Надеюсь, товарищ полковник, ты не забыл, что я тоже сотрудник ФСБ? Только званием пониже и за штатом.
– Не забыл. А ключ где взяла?
– Проснись. Там же, где всегда берешь и ты. Для встречи с источником, то есть с тобой, Саша. Ладно, хватит играть в пинг-понг. Лучше открой Бахчисарай.
Еще не разведенные супруги, конечно же, не могли не поцеловаться. Сложные отношения между ними продолжали оставаться высокими. Это всего лишь фигура речи, но она соответствует истине.
Ясенев занялся делом, то есть отвинчивал пробку и резал лимон, а Лиза сказала:
– Ты забыл дальнейшие строчки, а я напомню. Это стихотворение, Саша, ты написал двадцать пять лет назад и посвятил мне. В школе в спортзале накануне как раз случился пожар. Кстати, не ты ли с другими обормотами и поджег, чтобы насолить физкультурнику?
– Что ты! Это был мой любимый предмет. После начальной военной подготовки. Помню, в то утро я боролся с пламенем, как молодой лев…
– Как бог огня Гефест, – поправила она. – Звери бегут от пожара, теряя тапочки.
– Хорошо. А Прометей подходит?
– Не тянешь, Саша. И он плохо кончил. Цирроз печени. А его огонь людям не пригодился. Только хуже стали.
– Ладно, пусть Гефест. Пока не приехали пожарные, которых ты и вызвала. Так что же я тогда написал?
– А вот что…
- Ты помнишь, в зареве пожара
- Я взгляд твой искренний нашел?
- И сам сгорел, объятый жаром,
- Когда я понял, что обрёл.
- Когда я каждой редкой встрече
- Был, право, как мальчишка рад,
- И счастлив каждый тихий вечер,
- Когда встречал твой нежный взгляд…
– Да неужели это я сам написал? Не Фет? И ты запомнила?
– Ты, ты, Полуфет этакий. А запомнила, потому что просто сегодня днем наводила в квартире порядок, нашла старые бумаги и прочитала.
– Надеюсь, выбросила в мусорное ведро?
– Ну что ты. Повесила на стену в рамке. Ладно, поэтический вечер закончен, перейдем к прозе.
Они пригубили коньяк, согрев его в ладонях.
– Я рад тебя видеть, Лиза, честное слово, – сказал он.
– А я тебе верю. Потому что тоже рада.
Она была также красива, как и та девушка, повстречавшаяся ему не так давно в Анголе на алмазной выставке. Только у той было преимущество в возрасте. А так очень похожи. Цветом глаз, точеными фигурами, изящной внешностью, даже шутливым тоном в разговоре и серьезностью, когда надо. Только одна брюнетка, а другая – блондинка. Он не сравнивал их, просто констатировал факт. А молодость – преходяща. Зато верность в любви – редка.
Пару раз Ясенев был в аудитории МГИМО, где профессор Гончарова за кафедрой читала студентам лекции по истории дипломатических отношений. Он всегда поражался её глубоким знаниям, ораторскому мастерству, остроумию и умению с первых минут завладевать вниманием молодых людей. Студенты слушали её завороженно.
Она обрушивала на них волны интересных фактов, исторических курьезов, неизвестных деталей, и всё это было столь ново, что хотелось слушать дальше. Цитировала по памяти к месту классиков мировой литературы, поэтические строфы, вынимала из папки, как иллюзионист в цирке, редкие архивные материалы. А к тому же, на неё было просто приятно смотреть. И она мало чем отличалась внешним видом от своих студенток. Больше тридцати не дашь.
– Ты не помнишь, кто из нас первый придумал эту идею с разводом? – спросила вдруг Лиза. – И почему?
Александр на несколько секунд задумался.
– Кажется, ты. Но точно не я. А вот почему – не знаю. Может, сама ответишь?
– Ладно, не важно. Если идея была общая, то пора нам обоим взяться за ум и дать разворот назад. А поскольку ты самый упрямый и толстокожий медоед в мире, я это сделала первая. Кто-то же из нас двоих должен иногда головой думать? Сегодня днем я забрала свое заявление из Загса. – После небольшой паузы она добавила: – Нет, если ты возражаешь, то я завтра же отнесу его обратно.
Лиза улыбнулась, он тоже.
– А Бахчисарайский коньяк из моих секретных запасов? – спросил Александр.
– Ну конечно! Где его в Москве сыщешь? Только в Крыму. Да еще на твоей книжной полке за юридической литературой.
– Нашла все-таки.
– И на балконе в лыжных ботинках. По две фляжки аккуратно в каждый башмак вмещаются. Это ведь прямая поставка от наших друзей из ведомственного санатория в Ялте? Кто там в этом году отдыхал, Демидов?
– Пора тебя повышать в звании. Ничего не скроешь. Но все-таки, почему?
– Почему – на развод или почему – наоборот? Тебе действительно не всё равно или так важно знать?
– Да.
– Ну, хорошо. Просто я не могу утром проснуться, когда не слышу, как ты гремишь на кухне посудой, готовя себе яичницу. А будильник вместо тебя никак не куплю. Самой уже эта зависимость надоела. И когда же, наконец, она как какое-то наваждение пройдет? К психотерапевту, что ли, наведаться. Пошли вдвоем? Как мистер и миссис Смит в фильме.
– Это где Бред Питт и Анжелина Джоли? Шутишь?
– Шучу. Тогда скажу по-другому. Одной маленькой птичке, подсвистывающей медоеду и указывающей ему путь к пчелиным ульям, надо тоже лакомиться личинками диких африканских пчел-убийц. А сама она с ними не справится. Вот такое взаимовыгодное сотрудничество. И ничего личного, не обольщайся.
Ясенев нарочито вздохнул, словно и ему предстояло нести этот тяжкий крест.
– Значит, станем искать пчелиные ульи снова вместе. Но если честно, то я сам хотел еще сегодня утром съездить в Загс и забрать заявление.
– Врешь, конечно, но всё равно приятно. Так что бросай, Саша, свой холостяцкий конспиративный бомжатник и возвращайся обратно, в цивилизованное общество. В лыжном башмаке на балконе тебя ждет еще одна такая же фляжка. Пошли на выход.
Александр вновь наполнил бахчисарайским нектаром рюмки. Последнее слово должно было остаться за ним, так он привык. Сообразил на ходу. Любил иногда разговаривать стихами, а они в нужный момент сами плыли в голову:
– Будет новый рассвет, будет море побед. И не верь никогда в то, что выхода нет… Но эту ночь, Лиза, мы проведем здесь. Не в бомжатнике, а в медоносном улье, где снова, как в первый раз, встретились.
– Да, – согласилась она. И вдруг задумалась. Это было видно по её сосредоточенному лицу и глазам, покрывшимся голубоватой дымкой.
– Ты что-то подсчитываешь? – спросил он.
– Сколько прошло лет, когда мы оказались за одной партой, и ты толкнул меня локтем, чтобы познакомиться? И сколько лет, когда мы впервые поцеловались? И еще сколько, когда нас торжественно объявили в браке мужем и женой?
– И что получается? В цифрах.
Лиза взяла паузу. А Ясенев вновь задумался о том, какую все-таки важную и, может быть, даже экзистенциальную роль всегда играла в его жизни супруга. В этом плане ему просто дико повезло с самой юности. И во всей последующей судьбе чекиста. Вот и в сегодняшней неожиданной встрече было что-то сакральное, таинственное. Словно они вновь в какой-то небесной лотерее вытащили счастливый билет.
– Ты знаешь, в цифрах получается очень много, – ответила, наконец, она. – Никак точно не подсчитаю. В первом классе нам было по семь. Поцелуй в пятнадцать. Или раньше? Свадьба двадцать два года назад. С ума сойти!
– Ну и не считай! А с ума лучше сходить вдвоем. Тогда ни ты, ни я этого не заметим.
Мистические звуки недр
Примерно в это же время за тысячи километров от Москвы, в Архангельске, на острове Сомамбала, к домику Иды, надвинув на лицо шляпу и подняв воротник дешевого плаща, пробирался хирург Жогин. Он даже походку менял, прихрамывая, делая всё, чтобы его случайно никто не узнал. Такая конспирация была необходима. И вовсе не из-за шпиономании.
У него было много врагов и конкурентов по криминальному бизнесу, а ненавидело почти полгорода. Слишком многим причинил зла. На это было плевать, но вот узнай кто, что у него есть слабое место, душевная привязанность, любимый человечек, – и всё, пропал. Это как пустить стрелу в сердце.
Тогда им можно было бы вертеть, как хочешь, и вить любые веревки. Через Иду. Достаточно лишь взять её в залог. Первое правило Омерты – молчание, второе – никого не люби, чтобы не подставиться. Впрочем, те же правила присущи всем разведкам мира. Найди у человека самое слабое место, нажми на него – и он твой.
У Жогина было звериное чутье. Своих телохранителей он заранее отпустил, машину бросил за мостом через Кузнечиху, дальше шел пешком, постоянно оглядываясь, в кармане плаща держал кастет и скальпель. Но и на сей раз, как всегда, пронесло. Жогин открыл дверь в домик своим ключом и бросился в объятия Иды.
Им не надо было ничего говорить, всё понимали без слов. А потом на веранде с опущенными шторами они пили чудесный чай, заваренный Идой на многих травах. Он придавал силы, вселял какую-то особую мощную энергию, освежал ум, целил душу и больные органы. После него Жогин чувствовал себя как-то… человечнее. Забывал о крови, которую проливал почти каждый день. Будто исповедовался и получал прощение.
Он вдруг опустился перед Идой на колени, прижался лбом к её лону и попросил:
– Расскажи мне еще что-нибудь о своих предках. Люблю слушать.
Она словно ждала этого. Погладив его рукой по шишковатому черепу, спокойно и бесстрастно начала:
– Наш народ гораздо древнее, чем вы, славяне, и всегда был прочно связан именно с горами. Мы можем внезапно исчезать и появляться. Подземные ходы – наша стихия. Многие и сейчас живут там. Моя родная Пермь вся стоит на пещерах.
– Почему? Зачем чудь ушла под землю?
– Как тебе объяснить… Просто более тысячи лет назад закрылись внутри своих пещер от вашей веры и все. На Урале, Алтае, здесь, у Белого моря… На побережье Северного Ледовитого океана. От Архангельска до Печоры. От Северной Двины до Онеги. Золота много, но мы его не ценим, равнодушны к нему. Как и к алмазам. И у нас нет тяги к накоплению богатств. Но тонкие украшения нам нравятся.
– Вот за это я тебя и люблю, Ида.
Она звонко засмеялась, как серебряный колокольчик.
– Нет, не поэтому. А потому что я светлоокая.
– Да. Глаза у тебя почти прозрачные. Кстати, я приготовил тебе подарок. Даже два. Но это потом. Продолжай, милая моя чудь. Чудесная девушка. А ты правда владеешь магией?
Ида не ответила, продолжая поглаживать его лысый череп, обтянутый желтой, как пергамент, кожей.
– Чудь – великий народ, – скромно сказала она, – он обладает даром волшебства, тайной силой. Мы предупреждаем людей, предостерегаем их, помогаем путникам. И защищаем свои сокровища. Но это не сундуки с бриллиантами, а знания Беловодья… Охотников до них тоже много.
– Ты наивная, – задумчиво произнес он. – От тебя исходит миролюбие. Мне спокойно с тобой.
– Я знаю. Только не поступай больше так.
– Как, Ида?
– Прошлым летом ты попросил меня поближе познакомиться с соседом, одним стариком. Помнишь?
Жогин внутренне напрягся.
– Я не понимала, зачем? Грузный, беспокойный, одинокий человек, кажется, военный. У него тоже была своя оранжерея, он, как и я, любил выращивать цветы. Звали его…
– Не надо. Не помню.
– Помнишь, Юра, – жестко сказала она. – Звали его Игорь Алексеевич. Тарланов. Зачем ты его убил? Зачем ты велел сначала погрузить его в сон? А потом уйти и не мешать.
– Он мне причинил много вреда, – смущенно ответил Жогин. – А как ты догадалась? Ты ведь уже спала.
– Нет. Я слышала выстрел. Я чувствовала его смерть как наяву. Я видела тебя, уходящего из его дома. Мысленно. Никогда больше так не делай.
Жогин не мог сдержаться:
– Что? Вообще больше никого не убивать?
– Это как хочешь. Тут я тебе не в силах что-либо запретить. Это твой мир, мир ваших людей. Но меня в него не втягивай. Обещаешь?
Чувствуя, что начинает терять её, Жогин кротко произнес:
– Обещаю. Больше никогда. А теперь взгляни, Ида, на мой подарок.
Он вытащил из кармана бронзовую фигурку человека-птицы.
– Смотри. Мне доставили её издалека. Она настоящая, седьмой век. Попробовали бы меня обмануть! Да и эксперты подтвердили. Чудской образок, его можно носить на шее.
Ида обрадовалась, подержала фигурку в руках, рассматривая со всех сторон, примерила как брошь к груди.
– Спасибо, родной.
– Но это еще не всё. Я купил для тебя… Догадайся. С трех раз.
– Ну, брось дурачиться, Юра.
– Ладно.
Жогин достал из другого кармана несколько гербовых листков, сложенных пополам.
– Это сертификат и документы на правообладание самой популярной на Севере газеты «Чудь белоглазая». Читают её, конечно, в основном домохозяйки и пенсионеры, да еще повернутые на этом деле сумасшедшие, но она – твоя. Теперь ты её владелица.
Ида даже не взглянула на бумаги, радости от этого подарка было меньше.
– Зачем она мне? Лишняя суета.
– Ну-у… как. Пиши сама или набирай авторов. Ты ведь учительница, историк. Найдешь какое-нибудь применение.
Видя разочарование Жогина, Ида молча поцеловала его в губы.
– Хорошо. И за это спасибо. Что-нибудь придумаем. Может, и вправду заняться кроме оранжереи еще и литературным творчеством?
– А то! – выкрикнул Жогин. – А кто будет мешать или какие проблемы возникнут – сразу ко мне.
– Ох, Юра, ты неисправим! – улыбнулась Ида. – Пора спать.
Акапелла. Без музыкального сопровождения
В своем служебном кабинете на Лубянке Ясенев чертил на листке бумаги кружочки, от которых тянулись стрелочки. Иногда друг к другу, иногда куда-то за край листа. Рядом сидел Демидов, подсказывал. В каждом кружочке стояло название какой-либо фирмы, компании или частное лицо. В центре оказались «Архангельская алмазоносная провинция» и «Де Бирс».
Вокруг них – «Севералмаз», «Согласие», «Северная геология», «Архангельскгеология». Еще «Губернатор Архангельска Ефимчук». «Мэр Правдин». «Минфин». «Березкин». «Голден-Ада». «Гохран». «Администрация Президента». «Маргания». «Чубайс». «Кудрин». «Алекперов». «Усманов». «Козочко». «Банкетов». «АЛРОСА». И еще пара десятков кружков с клеймом внутри.
– Кого забыли? – прищурился Ясенев. И вписал в новый кружочек: «Жогин». Усмехнулся и приписал внизу – «Мориарти».
– Этот, пожалуй, будет одним из гнилых орешков, – кивнул Демидов. – Профессор преступного мира, с ним придется повозиться. А Тарланов? Я бы и его не стал исключать из списка. За покойником могут тянуться длинные хвосты.
– Нет, Валентин. Игорь Алексеевич был честным чекистом. Не будем марать его имя. Когда-нибудь его еще наградят посмертно.
– Вам виднее.
Они оценивающе посмотрели на плоды своих рук.
– Арахамию надо вписать, – дополнил Ясенев. – Но этот хромой черт в одной связке с косоглазым Марганией, дружки с детства, отдельного кружочка не заслужил. То грузинами прикидываются, то русскими, то хохлами. Знаешь, Валентин, по каким признакам различают чертей? Родимое пятно на лбу, кривой глаз и увечная с рождения рука или нога.
– Еще рудиментные хвост и копыто, – усмехнулся Демидов. – А наша схема прямо напоминает фронтовую разработку перед военной операцией. Только враг в тылу. Смерш нужен.
– Мы и есть смерш. Побеждать будем, невзирая на вес и рост зверя, вставшего на пути.
– Тактика медоеда?
– А кстати, – Ясенев подозрительно покосился на своего заместителя, – кто из вас придумал мне такое прозвище?
– Это коллективное творчество. Сознательно-бессознательное.
– Что ж, не возражаю. Идем дальше.
– А куда, Александр Петрович? К Кораблеву? Вот с этой Таблицей Менделеева?
– Нет. Обедать. А за суши с блинами вспомним и другие химические элементы. Тяжелые и легкие. Может, и новые «приснятся».
Через полчаса они сидели в уютном кафе в одном из двориков на Лубянке. Называлось оно «Элефант», как в «Семнадцати мгновениях весны». Почему именно так? Да потому что принадлежало одному заслуженному чекисту и здесь «чужие не ходят». А сотрудники госбезопасности могли спокойно завтракать, обедать, ужинать и свободно вести любые разговоры на разные темы, зная, что их никто не слушает и не пишет. Все, включая официанток и даже повара, были их коллегами.
– Скоро «Архангельскгеология» прихватит «Северную геологию», – продолжил рассуждать Ясенев, – то есть Сережа раздавит Костю, но на пути у него к монопольному владычеству встанет Гриша с «Севералмазом». Но в нем самом уже заправляет «Согласие» с братьями Тигранянами. То есть Березкин. А за ним – всесильный Кудрин из Минфина. И его ставленник Маргания со своими фирмами.
– А над всеми распростер свои крылья «Де Бирс», – кивнул Демидов. – Но и этот орел или орлица летает не сама по себе.
– Давай рассуждать детально. Как говорится, поминутно и сначала. Пока обозначим только видимые на поверхности фигуры. Это как круги на воде. Они тоже исчезают, а вот на илистом дне вообще ничего не видно. Водолазные костюмы сейчас надевать не будем, рассмотрим эти круги на воде, пока они не разошлись по морской глади в ярких лучах солнца перед нашим одиноким парусом.
– В вас, Александр Петрович, умирает большой поэт средней руки.
– Знаю. Жена тоже говорила мне, что я Недофет. Вот выйду на пенсию и начну писать стихи. Вернее, писать стихами.
– Мы на пенсию не выходим. А контрразведка и на том свете пригодится. Пробравшихся чертей ловить.
– Ладно, ближе к прозе. Тут еще этот козел Козочко со своим «Голден-Ада». Прав Кораблев. Сам черт ногу сломит.
– А откуда взялся Маргания?
– Из «АЛРОСА». Он создал при ней «дочку», куда уже перетягивает все активы главной корпорации. А Кудрин хочет замкнуть акции всей «Архангельской алмазоносной провинции» на себе. Одной «АЛРОСА» ему уже мало.
Они помолчали. Прием пищи тоже требует сосредоточения.
– На войне, как на войне, – сказал Демидов. – А тут вообще без правил, без пленных.
– Какие в этой алмазной бойне могут быть пленные? Гибель Тарланова – яркое тому подтверждение. Я не верю, что это было самоубийство. Он, наверное, слишком близко подобрался к змеиным норам.
– Кто следующий?
– Если Гриша Баранов будет брыкаться, его просто сомнут, и даже следов не останется. Сгорит как свечка. Вся мировая история нас тому учит. Убить можно кого угодно, хоть папу римского, хоть председателя земного шара. И никакие телохранители тебе не помогут. Все заказные убийства по горячим следам не раскрываются. Если работали профессионалы. Только по истечении десятка лет, и то не всегда.
– Но нет ничего тайного, что не оказалось бы явным. Рано или поздно.
Ясенев задумчиво и серьезно ответил:
– Верно. Евангелие от Луки. Сказал Господь: никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.
– Вот на этой ноте наш обед можно бы и закончить, – улыбнулся Демидов. – Идти в церковь, ставить свечки и забыть о Маргании, Тигранянах и прочих козлах и баранах на этом банкете вместе с Банкетовым. Но нельзя. Служба.
– Да, Валя, ты прав. Мы с тобой относимся к особой касте. Не принадлежим себе. И то, что сокрыто сейчас, скоро откроется и станет известно всем. Иногда мы стараемся скрыть что-нибудь от самих себя. Да-да, не спорь. Мы закрываем глаза на последствия некоторых наших поступков, хотя хорошо сознаем, что это значит. Но перед каждым из нас всегда должны вставать слова Писания: «Ты Бог, видящий меня».
– Библия, часом, не ваша любимая настольная книга, Александр Петрович?
– Нет. «Записки сумасшедшего». А лучшая цитата из неё – «Люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове. Совсем нет. Он приносится ветром со стороны Каспийского моря». Но это шутка. Гоголь прав в другом: «Любовь есть вторая жизнь». Кстати, эту сентенцию изрек тот же сумасшедший Поприщев в своих гениальных записках. А может быть, он был прав?
– Тогда уж, это первая жизнь. Да вы просто живая ходячая Александрийская библиотека.
– Хорошо хоть, не мертвая. А впрочем, она ведь сгорела, так что твой комплимент, Валя, весьма сомнителен. А по поводу наших дел скорбных думаю так. Надо не допустить, чтобы все акции во всех фирмах, связанных с «Архангельской алмазоносной провинцией», перетекли к «Де Бирс». Или к Кудрину. К Чубайсу. К черту лысому. К этому «Цирку зверей». К коллективному профессору Мориарти. И далее по списку. «АЛРОССА» Штырова – единственная организация, которой можно доверять. А если опять же по Гоголю, то и у нее «рожа такая, что плюнуть хочется». Поскольку в ней сидит тот же Маргания.
– Вот это верно. Но других у нас сейчас действительно нет.
– Скажу больше. Все мне сейчас напоминает сцены из колхозной жизни, когда в открытый амбар с зерном, который сторож забыл закрыть на ночь, ринулись всякие грызуны, крысы, мыши, кроты, барсуки, коржики, то есть ёжики и прочие веселые лесные ребятки. Что с левого, что с правого фланга политической опушки.
– Увы!
– Вот мы сейчас плотно занимаемся архангельскими алмазами, а нити ведут в администрацию президента и в правительство. И нам не дадут развернуться в полную силу. Эти люди, чтобы не доводить дело до разоблачения, применят различные комбинации, от дискредитации до физического устранения. Так что будь начеку, Валя. И зови меня в неслужебное время просто Александр.
– Хорошо.
– А завтра давай-ка слетаем в Якутию и навестим дружка Жогина Марганию. Все северные алмазные месторождения зеркально связаны между собой. Не минералами, людьми. А еще точнее, их пороками и грехами.
Обед подошел к концу, а вопросы, как неубранные на столе тарелки, остались.
Северные аккорды. Басы
В город Мирный, алмазную столицу Российской Федерации, они прилетели на рассвете. Ясенев хотел часть функций кураторства над якутскими месторождениями передать Демидову, поскольку на него самого теперь в новой должности руководителя Управления экономической контрразведки было возложено много других обязанностей.
Особо вводить в дело не требовалось, подполковник давно работал с ним в одной связке, но знание некоторых деталей и тонкостей было необходимо. А Валентин был именно тем незаменимым сотрудником в его ведомстве, в надежности и порядочности которого Ясенев никогда не сомневался. Почти друг и брат, если по-простому.
Из аэропорта они отправились на поджидавшей их машине с двумя сотрудниками госбезопасности в центральный офис «АЛРОСА» на берегу реки Ирелях. Сам город появился на картах СССР в 1955 году только потому, что здесь были открыты алмазы. А поспособствовала этому обыкновенная черно-бурая лисица. Две женщины-геолога Попугаева и Сарсадских искали следы кимберлита и совершенно случайно обнаружили большую лиственницу, которую повалил ураган. Корни были выворочены наружу.
Этим воспользовалась лиса и сделала под ними нору. При этом она выгребла часть породы наружу. По её кроваво-красному цвету геологи и установили, что в этом месте находится кимберлит, порода с большим содержанием алмазов. Именно такие пиропы находят в кимберлитовых трубках Южной Африки.
Они отправили в Москву закодированную радиограмму со словами «Раскурили трубку мира, отличный табак!». Первоначально добыча велась открытым способом. В результате образовался один из самых крупных карьеров мира. Запасов хватит еще лет на пятьдесят. Специалисты, по крайней мере, так уверяют.
Если сравнивать с архангельскими месторождениями, то там ведь тоже многое было случайно. Первая серьёзная удача в поисках алмазов пришла в 1936 году, когда при бурении скважин на воду вблизи деревни Неноксы на Летнем берегу Онежского полуострова случайно вскрыли необычного вида обломочные породы. После долгих споров их отнесли к вулканическим, которые иногда встречаются рядом с алмазоносными кимберлитами.
В 60-х годах на Онежском полуострове Белого моря «Архангельскгеология» силами Юрасской, Новодвинской и Беломорской экспедиций в сотрудничестве с различными организациями Москвы и Ленинграда начали целенаправленные работы по этому направлению. Была выявлена в этих местах аномалия, вызванная вулканическими трубками ультраосновного состава. Вначале нашли 8, потом еще 30.
В их пробах и были обнаружены минералы-спутники алмаза – мелкие зерна пиропа. Такие же, какие плутовка лиса нарыла под корнями лиственницы в Якутии. Кроме того, чуть позже установили, что минералы-спутники алмаза широко распространены по всему Зимнему берегу. Наконец, в 1978 году в верхнем течении реки Падун, в песчаниках среднего карбона нашли два кристалла драгоценного камня.
И вот в феврале 1980 года была открыта первая кимберлитовая трубка месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова – трубка Поморская. В следующие четыре года были открыты еще 8 трубок, из них 6 – алмазоносных. Ещё через несколько лет, а именно в июне 1987 года, были утверждены запасы месторождения алмазов. Тут уже по линии госбезопасности подключили Ясенева и других сотрудников КГБ СССР.
– В «АЛРОСЕ» почему-то не особенно торопятся к архангельским месторождениям, – заметил Ясенев. – А ведь и добыча здесь открытым способом становится все более опасной, и подземные рудники на случай резервации еще не готовы, и вообще, климат такой, что «мама не горюй!». Похлеще, чем в Архангельске. Зимой за шестьдесят, летом под тридцать. Морозильная камера и русская баня. Одно слово: Крайний Север.
– Это, Александр, уже два слова, – заметил Демидов.
– Ладно, не умничай.
В офисе они поднялись в кабинет Ясенева, на двери которого висела табличка: «Департамент информации».
– Осваивайся, – сказал хозяин. – Скоро это будет и твое место тоже, а работать будешь под прикрытием, как и я. Безусловно, присутствие в организации представителя контролирующих органов нравится не всем. Особенно тем, у кого, как говорится, рыльце в пушку. А то и в перьях. Да и не рыльце, а огородная репа, возросшая и раздувшаяся на казенных харчах. Здесь таких хорьков и мышей в амбаре с зерном целая стая. Всё никак не выведу. Ну что, позавтракаем или сразу к делу?
– Лучше нагулять аппетит за работой.
– Тогда к теме. Здесь можно говорить свободно, кабинет защищен спецсредствами от любого проникновения извне и прослушивания. На окнах звукопоглощающая пленка. Телефонная связь АТС-2, так называемая «кремлевка». Когда я только начинал тут кураторство по линии госбезопасности, несколько лет назад, постоянно вставляли палки в колеса. Особенно изощренно действовал вице-президент «АЛРОСА» Мамлеев, управделами. Царствие ему небесное.
До прихода в компанию он работал в правительстве Якутии, отвечал за вопросы социально-экономического развития республики. Пользуясь близостью к президенту Республики САХА Николаеву и его покровительством, создал систему хищений при поставках в Якутию различных товаров по завышенным ценам через подконтрольные ему фирмы. В них и оседала не малая прибыль, которой сейчас пользуется его дочь в Штатах, сын в Лондоне и любовница в Германии.
– А жена?
– Жена тоже где-то пользуется. Если еще жива. Скороспелки, они ведь быстро гниют и падают. В Якутии Мамлеев поддерживал тесные деловые связи с одним из главарей ОПГ Халидом Омаровым. А тот лично контролировал деятельность основных снабженческих фирм, осуществлявших поставки в Якутию. Отношения Мамлеева и Омарова плавно перетекали в Москву, а следы вели в Минфин, в Кремль, в Счетную палату.
Мамлеев, пользуясь неограниченным доверием президента «АЛРОСА» Штырова и определенным влиянием на него при поддержке президента Якутии Николаева, вовлек обоих, а также и некоторых руководителей компании в проведение сомнительных и ущербных для «АЛРОСА» финансовых операций с подконтрольным Омарову «Собинбанком».
В нем, в частности, были размещены финансовые средства компании, векселя, с последующими мошенническими схемами для извлечения личных выгод. Это осуществление «зарплатных» схем для руководства, кредитования высшего звена, обналичивания средств через подставные фирмы. Мамлеев для проведения своих финансовых операций умело использовал частое отсутствие Штырова в офисе в Москве, командировки в Якутию и за рубеж.
Имея такую тесную связь, Мамлееву и Омарову легко «заработанные непосильным трудом» средства переправлялись за границу. Кстати, семья «Халифа», такая у него кличка, постоянно проживала в Голландии. Короче, вот почему Мамлеев с самого начала отнесся к моему приходу в компанию со страхом и старался поставить меня каким-то образом в зависимость.
– Это как же?
– Как управляющий делами, от которого зависят условия работы сотрудников, их быт, дисциплина и многое другое, Мамлеев проповедовал идею, что на подчиненных надо воздействовать через создания для них бытовых атмосфер, лежащих в его воле. Строптивым – одно, послушным – другое. Начиная с письменных принадлежностей, карандашей и скрепок. Лоялен ты ко мне – получай дырокол, нет – бегай за ним к коллегам. Он и не скрывал эту свою «теорию послушания», открыто делился с нею в кругу своих приятелей. Была и еще одна любимая поговорка: «на то и щука в озере, чтобы карась не дремал». Под «щукой» Мамлеев подразумевал себя.
Как минимум один раз в году по его указанию проводилось «великое переселение народов». Сотрудники по непонятным причинам переезжали со своим скарбом из одного кабинета в другой, с этажа на этаж. Было это бессмысленно и бестолково. Впрочем, смысл был только для одного Мамлеева: комфортность нового помещения зависела опять же от степени лояльности и услужливости к «градоначальнику». Этакий салтыково-щедринский город Глупов с «болванчиком» во главе.
Я не стал исключением. В первый год работы, когда еще не был осведомлен об этих причудах Мамлеев, переселился. Сюда. Потом в моем новом кабинете установили по долгу службы специальную, дорогостоящую телефонную связь АТС-2. И когда однажды ко мне заглянул Мамлеев, с предложением переместиться в другой, менее комфортный кабинет, я ему объяснил «на пальцах», что при этом будет необходимо перемещать вслед за собой и эту спецсвязь, а сама процедура будет стоить очень дорого. И ее придется оплатить из собственного кармана инициатору этого переселения. Мамлеев сразу увял и больше на моем горизонте в течение нескольких недель не появлялся.
Однако гадить стал с другого фланга. Он предупредил руководителей финансовых, хозяйственных подразделений и бухгалтерии, чтобы без его разрешения мне не выдавали никаких документов и не знакомили с ними. Информацию о финансовой и хозяйственной деятельности компании приходилось получать оперативным путем и за счет личных отношений с сотрудниками. Пришлось вспомнить чекистские навыки и методы вербовки.
Но двигался я в правильном направлении. Получив информацию о мошеннических операциях с финансовыми средствами «АЛРОСА» в «Собинбанке», передо мной встал вопрос: как пресечь проведение незаконных схем и махинаций через этот банк? Не было ясности, как Штыров вовлечен в эту систему? Втемную или же сам является её участником с личными интересами и выгодой? Разговор в открытую с ним не годился. Была опасность испортить отношения с президентом компании и получить еще больше недоброжелателей.
В нашей работе, Валентин, никогда не знаешь, откуда ждать в результате поспешных и неудачных действий неприятностей. От кого может прилететь ответка в виде булыжника? Штырова и Мамлеева поддерживал президент Якутии Николаев, тот в фаворе у Ельцина. А знаешь почему? Обещал обеспечить падающий рубль якутскими алмазами. В Наблюдательном совете «АЛРОСА» сидят высокие чиновники из Правительства России, да тут еще авторитет преступного мира «Халиф» кругами ходил. Ситуация сложная. Нужно всегда придумывать что-то изобретательное. Найти неординарный подход к обеспечению финансовой безопасности компании. Иначе какие же мы чекисты?
Кстати, до меня, еще при советской власти, «Якуталмаз» курировал некто Волосевич. Ты его в КГБ уже не застал. Я сам рекомендовал ему не спешить с оперативной деятельностью и выводами о работе организации. Лучше отвести как можно больше времени на изучение обстановки в коллективе, а уже затем можно выходить с какими-либо предложениями или активными оперативными мероприятиями.
Однако Волосевич к моим словам не прислушался. Он ничего лучшего не придумал, как на третьи сутки явиться в кабинет к главному бухгалтеру «Якуталмаза» и, едва успев представиться, с порога начать атаку в лоб:
– Ну, рассказывайте, кто у вас тут занимается хищением госсобственности? Как крадет деньги руководитель?
Главбух, конечно, насмерть перепугалась, тут же схватила инфаркт. На Волосевича посыпались жалобы в ЦК и КГБ. Дескать, как Чапаев машет шашкой налево и направо, только что зарубил главбуха. В результате Волосевича отозвали обратно, а потом и вообще уволили из органов. Сам знаешь, Валентин, что руководство госбезопасности в таких случаях, как правило, принимает решение в пользу сомнения и редко встает на защиту своих провинившихся сотрудников.
Ясенев вытащил из сейфа кипу пачек и документов:
– Тебе надо пробежать их быстро, как собаке.
– Не понял? Это комплимент?
– Почти. Вот представь ситуацию. Мы с тобой ловим контрабандиста в Мирном. Знаем, что он набил карманы алмазами и навострил лыжи в Якутск. Расстояние между Якутском и Мирным составляет 816 километров по прямой. Чтобы пройти его пешком, ему понадобится 8 дней. Но собака преодолеет это расстояние за 5 дней. И кем же нам надо стать, чтобы встретить контрабандиста в Якутске уже с распростертыми объятиями?
– Как всегда образно.
…Через несколько часов они отправились обедать в ближайший к «АЛРОСА» ресторан «Трубка мира», где продолжили обсуждение. Здесь весь офисный планктон питался. От младшего до среднего звена. Вождям алмазного концерна несли прямо в кабинеты. Это при необходимости. Или они летали на частных самолетах в Якутск, а то и в столицу, чтобы поужинать там. А вот кто питался самим офисным планктоном, это понятно. Алмазы и бриллианты. Они просто выедали мозг. Жить рядом с ними и не мечтать о них – это нонсенс.
