100 великих приключений на море и на суше
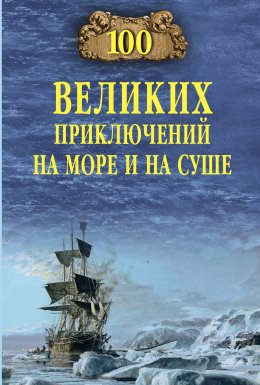
© Гусев В.Б., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Необходимое предисловие
Один бывалый странник уместно заметил: приключения случаются и без путешествий, но не бывает путешествий без приключений.
В этой книге поместились сто самых разных приключений в путешествиях – в разных местах и в разное время.
Путешествиям нет числа. Человечество с первых своих дней путешествует, каждый человек – путник на дороге своей жизни. С ранних лет до поздней старости, так или иначе. И каждое путешествие уже само по себе увлекательное или опасное приключение.
Искатели приключений были всегда и всегда будут. «Нет им числа и вида». Что ими движет? Ради чего они рискуют? Очень хорошо сказал по этому поводу искатель приключений, отважный летчик и хороший писатель Антуан де Сент-Экзюпери: «Хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь… Но что?»
Лаконично и по существу ответил на подобный вопрос великий мореплаватель-одиночка Фрэнсис Чичестер: «Я мог бы дать целых шестьдесят ответов, и каждый из них был бы верен».
Возможно, и наш рассказ в какой-то степени добавит ясности в побудительные мотивы искателей приключений.
В самом деле – чего ради? Ради славы и гордости отечества. Ради славы собственной. Ради научных открытий, пополнения знаниями багажа человечества. Ради спасения попавших в беду. Ради собственной свободы. Ради самоутверждения, зависти, сенсации. Ради обогащения. Ради чистой романтики или холодного практицизма…
Словом, к шестидесяти ответам Ф. Чичестера постараемся добавить и мы с десяток своих. Может быть и не во всем безупречных. Ясно одно: во всех стремлениях всех искателей приключений лежит особенность характера, личности.
Мы не ставили себе широкой задачи и не повторяли уже сказанное до нас о всемирно известных путешественниках. А если и касались таких, то только в том случае, если в этом путешествии случалось какое-нибудь интересное приключение, малоизвестное или прочно забытое.
Путешествия и приключения бывают разные – героические и трагические, курьезные и нелепые, необычные и смешные. Но все они по-своему великие. Даже те, что не остались в благодарной памяти человечества, а сохранились в воспоминаниях всего одного человека – самого путешественника.
В путешествиях, кроме приключений, как правило, совершаются открытия. Они тоже бывают разного качества и значимости, иногда весьма неожиданные.
Одно дело, когда путешественник открывает небывалые, незнаемые им ранее свойства своего характера – ну и флаг ему в руки, кому это интересно? А другое дело – открыл он, положим, остров, или даже целый архипелаг, или вообще континент, либо новый путь среди морей и океанов, лесов и гор – честь, хвала и благодарность потомков.
В наших заметках и записях найдется место для открытий всякого рода, полезных человечеству, либо никому не нужных, кроме самого «открывателя», курьезных и невероятных.
И надо бы сразу оговориться, что так уж от века повелось, что каждое событие в путешествии обзывается покорением. Пространства, времени, препятствий и трудностей на пути. Вот тут мы желали бы разобраться, внести ясность в это спорное понятие.
Возьмем, к примеру, многолетнее покорение Сибири: это присоединение к России новых земель и народов, географические и другие познания, использование природных богатств – сила рек, нефть, золото, алмазы, древесина, пушнина и много всего другого на общую пользу людей и государства.
А вот другого сорта покорение. Пересек, положим, отважный и мужественный человек на небольшой яхте большой океан, сошел на берег, повернулся лицом к морю, воздел руки и провозгласил с торжеством и гордостью:
– Я покорил тебя, океан!
А океан об этом и знать не знает. Он этого «покорения» вовсе не заметил, как и самого «покорителя».
И он что, этот покоритель, познал тайны океанских глубин, законы движения ветра и волн, природу существования его обитателей, освоил на практическую пользу его сокровища? Ведь даже ученые, всю жизнь посвятившие изучению океанов и морей и познавшие многие их тайны и внутренние законы, обогатившие разные морские науки – они никогда не скажут даже в шутку, что они покорили океан. Потому что знают – покорить океан невозможно. Да и нужно ли?
Вот таким покорителям нет числа. Они покоряют океаны, моря, озера, пустыни, горные вершины. Проехал по Сахаре на велосипеде или колесном буере – покорил! Взобрался на белоснежную вершину, положим, Эвереста, наследил там неряшливо, – покорил!
Больше всего покорителей за всю историю путешествий привлекал Северный полюс. Конец XIX – начало XX века – это было, по определению трезвомыслящих ученых и профессиональных мореплавателей, «белое безумие», международное соревнование за овладение Северным полюсом. Сродни будущим калифорнийской и аляскинской золотым лихорадкам. Однако, к сожалению, с бóльшими жертвами, но, к счастью, и с бóльшей пользой. Историю «овладения» Северным полюсом мы вкратце изложим в соответствующей главе, а здесь два слова скажем о современных нам его покорителях.
Вот призадумался иной путешественник, припомнил: «Северный полюс покоряли на собаках, на воздушных шарах, дирижаблях и самолетах, на морских парусных и моторных судах, на подводных лодках, на снегоходах и аэросанях, даже пешком… Стоп! А вот на лыжах никто до полюса еще не дошел, не догадались!»
И пошел «покорять» Северный полюс на лыжах. Покорил. А дальше что? На дельтаплане, на скейте, на воздушном змее, на роликовых коньках, в домашних тапочках?.. И эта тенденция сейчас в моде, поговорим о ней в своем месте. А здесь заметим, что все вот эти покорители – они не холодный полюс покоряли, не горячие пески бескрайней пустыни, не гордые вершины гор – они покорили самих себя. Свои слабости, усталость, малодушие, голод, нездоровье, страх и отчаяние. Что, несомненно, достойно уважения.
Хотя, конечно, стоит ли оно того, чтобы накарябать лыжной палкой на белоснежной вершине планеты: «Киса и Ося здесь были!»
За покорением следует не менее значительный этап – освоение, который закономерно в свою очередь завершается этапом под названием потребление. Собственно говоря, получается так, что открытия в путешествиях совершаются ради потребления. Закономерно, но грустно. Потому что после потребления природе нашей планеты чаще всего остается безжизненная пустота.
Очарованные Севером
«Велика и необычайна притягательная сила Севера».
Р. Пири, американский полярник
Мы начнем наши рассказы и воспоминания о приключениях в путешествиях на «вершине планеты», как называют полярные области их покорители.
Владимир Визе. Покоренный Севером
Известный советский полярный исследователь Владимир Юльевич Визе (1886–1954) заметил: «Первое знакомство человека с Севером началось не сотни, а многие тысячи лет назад». Хотя и сомнительно, но несомненно. Тем более что это утверждает очень авторитетный ученый, академик, лауреат Сталинской премии, Госпремии СССР, участник знаменитой экспедиции Г.Я. Седова к Северному полюсу (1912). Научный руководитель и участник многих полярных экспедиций («Таймыр» – 1921–1922; «Малыгин» – 1924, 1928, 1931; «Георгий Седов» – 1930; «Сибиряков» – 1932; «Федор Литке» – 1934, «Садко» – 1936); в том числе и поисковой для оказания помощи экипажу дирижабля «Италия»; директор научных арктических институтов и ученых комиссий. Неутомимый путешественник и талантливый ученый.
В своих арктических путешествиях В. Визе испытал и пережил множество приключений. Тяжкие – запланированные и неожиданные, зимовки во льдах, голод и болезни, изнурительный труд и смертельные опасности – все это во имя науки, на пользу человечества.
Именем ученого назван мыс (Северная Земля); долго и успешно служило в Арктике научно-исследовательское парусно-моторное судно «Профессор Визе». Им созданы многие научные и популярные труды по океанологии, метеорологии, ледовитости арктических морей и ледовому прогнозированию. Особой строкой отметим работы В. Визе по мировой истории исследования Арктики, которые мы беззастенчиво использовали при создании этой книги.
Экспедиция Г.Я. Седова. В кают-компании «Св. Фоки». В.Ю. Визе – третий справа. 1913 г.
Морские и пешие путешествия в высоких широтах всегда полны опасных приключений, драматичны и часто трагичны. Полной мерой это испытал молодой географ В. Визе в своем первом плавании в 1912 году – на «Св. Фоке» под командованием Г. Седова. (Подробнее об этой печальной экспедиции мы рассказываем ниже.)
Плавание и двухгодичный дрейф жестоко и безнадежно зажатого льдами «Св. Фоки» были очень тяжелы и опасны не только по их условиям. Правительство не нашло средств на экспедицию; Седов организовал ее на пожертвования; поставщики продовольствия поставили на судно некачественные продукты; снаряжение тоже оставляло желать лучшего; изнурительные зимовки, цинга, истощение, далеко не солнечные перспективы без особой надежды на помощь.
Но начальник экспедиции Г. Седов – волевой и мужественный моряк, экипаж – опытен и закален Севером, ученые – молоды и полны горячего желания работать для науки, для будущего освоения северных морей.
Во втором году зимовки Седов с двумя матросами отправился к полюсу – это была его главная мечта и цель жизни. Остальные участники экспедиции продолжили исследования и изучение Новой Земли, совершая долгие пешие походы.
В одном из таких походов геолог Павлов, географ Визе и два матроса пересекли Новую Землю и вышли к Карскому морю. Прибрежная зона покрыта ледяными «потоками», разбитыми глубокими трещинами, коварно скрытыми снегом. В такую трещину угодил Павлов, шедший на лыжах впереди нарт, и провалился на глубину в 15 метров. По счастью до дна бездонной трещины он не долетел и зацепился за ледяной выступ.
Визе принял мгновенное решение. Связали из постромков, ремней и веревок, которыми крепилась поклажа на нартах, длинный канат, сделали на конце его петлю и опустили в трещину. Благополучно вытащили Павлова на поверхность льда, и… экспедиция отправилась дальше. Такое приключение в арктических льдах было самым обычным и довольно частым. Но редко когда обходилось благополучно.
…Время шло, зимовка продолжалась. Запасы угля подошли к концу, отапливали помещение тюленьим жиром, выламывали на дрова переборки, разобрали фальшборт и частично рангоут. Охотились: свежая медвежатина помогала от голода и цинги.
В этих суровых испытаниях закалялся характер молодого ученого и зарождалась его неизбывная любовь к неласковому Северу.
…Вернулись матросы, сопровождавшие своего капитана. Вернулись одни – Седов навсегда остался на своем пути к Северному полюсу.
«Св. Фока» наконец-то вырвался из ледового плена. Но впереди был еще нелегкий путь. Угля для паровых топок не было. Идти можно было только под парусами. Но рангоут сохранился лишь частично. Часть форштевня, стеньги были сожжены за зиму. Однако сумели поставить паруса на остатках мачт. Очень сложно было с таким парусным вооружением пробираться среди льдин и айсбергов – судно плохо управлялось при такой аварийной оснастке, а чтобы избежать столкновения со льдом, необходимо сложно и быстро лавировать, ловить парусами нужный им ветер. Но экипаж – бывалые русские поморы – успешно справился: «Св. Фока» вернулся в Архангельск.
А Визе на всю будущую жизнь остался покоренным суровым, безжалостным и прекрасным Севером.
1932 год. Ледокольный пароход «Сибиряков» делает попытку пройти на восток Северным морским путем за одну навигацию. Научной частью экспедиции руководит В. Визе. Этот героический рейс ему запомнился двумя необычными приключениями.
«Сибиряков» то бодро и уверенно шел чистой водой, делая запланированные научные станции, то настойчиво таранил мощный торосистый лед, то прокладывал себе путь взрывами аммонала. Уже у Чукотского побережья обломились все четыре лопасти винта. Чтобы заменить их, нужно было поднять корму парохода над водой. Капитан «Сибирякова» объявил аврал. Весь экипаж и все научные работники взялись разгружать корму – перетаскивать запасы угля (сотни тонн) в носовую часть. В мешках, в ящиках, в ведрах, на кусках брезента.
Справились – корма поднялась над водой, обнажились обломки винта. Лопасти заменили. Уголь взялись перетаскивать обратно в кормовые угольные ямы.
«Сибиряков» обрадованно получил ход.
Он ровно шел еще несколько суток. А затем – опять тяжелейший лед. Корпус судна испытывал огромное напряжение. В носовой части открылась течь. Ее устранили, но случилось новое приключение – обломился гребной вал. Это уже непоправимо, «Сибиряков» беспомощно застыл, зловеще окруженный торосами.
Прошла тревожная ночь, к утру льды разрядились, и капитан принял решение… поставить паруса! Их сшили из брезентовых чехлов и шлюпочных парусов, раскрепили тросами радиомачты и грузовые стрелы.
Ледокол под парусами пошел. Медленно, трудно управляясь на такой малой скорости, но шел. И вышел победителем к северу от Берингова пролива. И каждый на «Сибирякове» вновь убедился: силу и мощь Севера медленно, но верно преодолевают воля и мужество людей. «Север покоряется тем, кто его любит», – подумал В. Визе.
Но, пожалуй, самое важное и значимое в его творческой жизни приключение – это необитаемый остров Визе…
В 1930 г. ледокольный пароход «Георгий Седов» направился в ходе очередной полярной экспедиции к Северной Земле с расчетом пройти те координаты, где предполагалась неизвестная земля.
Это предположение было высказано и опубликовано в 1924 г. на основании изучения дрейфа паровой яхты «Св. Анна» – драматического и трагического плавания лейтенанта флота Г. Брусилова в 1912–1913 гг. Внимательно рассмотрев сложные и прихотливые зигзаги перемещения судна во льдах, сопоставив их с течениями и ветром, В. Визе убежденно пришел к заключению, что между 78° и 80° с.ш. несколько восточнее дрейфа яхты находится какое-то препятствие, преграждавшее ей движение на Восток. Несомненно – это неизвестная земля. Визе вычислил ее координаты, нанес их на карту Карского моря и смело опубликовал эти данные.
И вот 13 августа 1930 г. капитан «Георгия Седова» В. Воронин спустился с ходового мостика и, зачехляя бинокль, сказал: «Прямо по курсу земля!» Земля, открытая шесть лет назад в тиши рабочего кабинета, за письменным столом.
На следующий день человек, ее открывший, с волнением ступил на каменистый берег. Это был остров площадью 288 кв. км. Несколько позже открыватель скупо и сдержанно описал его: «Остров низменный, из осадочных пород, покрытый скудной тундровой растительностью. Крайне бедна и его животная жизнь. Даже птицы, обычно встречающиеся на арктических островах летом в большом количестве, здесь наблюдались только в единичных экземплярах. Затерянный среди арктических льдов, он производит крайне унылое и безотрадное впечатление».
Но это был его остров…
Такие приключения вовсе не редкость в истории морских путешествий и открытий. Уместно здесь напомнить еще об одном, подобном.
Петр Кропоткин. Мятежный князь
Вторая половина XIX века не отличалась в России вниманием правительства к изучению и освоению Арктики. Но в научных и промышленных кругах вдруг «пробудился интерес к плаванию и рыбным промыслам в русской части Ледовитого океана». Толчок к нему, как не раз уже было в нашей истории, дали успехи иностранцев. Норвежские китобои, к русскому изумлению, на небольших шхунах смело проникли в непроходимое Карское море – в «ледник, постоянно набитый льдом». Они избороздили его во всех направлениях, даже добрались до места давней зимовки Баренца.
Открытия норвежцев, их алчное хозяйствование в наших исконных водах подтолкнули передовую Россию к арктическим исследованиям. Русское географическое общество создало комиссию, чтобы выработать план полярной экспедиции и определить для нее комплекс и диапазон научных работ.
Один из докладов в этой связи готовил секретарь отделения общества Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921).
В своем докладе среди других мер он рекомендовал разведочную экспедицию в район Шпицбергена, где должна, по его мнению, находиться еще неоткрытая земля.
Откуда взялось это мнение? Из творческого изучения материалов доклада о течениях Ледовитого океана, сделанного русским офицером флота бароном Шиллингом; из путешествия Лютке на Новую Землю; из знакомства с общими географическими условиями этой части Арктики. На это же указывали неподвижное состояние льда на северо-запад от Новой Земли, камни и грунт на дрейфующих ледяных полях. И еще из многих других признаков. В частности, от взаимодействия холодного и теплого течений.
Все это вкупе было весьма убедительно для ученых и мореплавателей. Но не для Министерства финансов. Денег на экспедицию не нашлось, хотя их требовалось всего-то около тридцати тысяч. Не такая уж сумма для открытия целого архипелага.
Кропоткин: «Земля, которую мы провидели сквозь полярную мглу, была открыта австрийцами Пайпером и Вейпрехтом». Два года спустя. И названа Землей Франца-Иосифа.
(Кстати, Кропоткин, как и многие его современники – ученые, промышленники и моряки – был уверен в существовании еще одной неоткрытой земли – Санникова. Но о ней, о приключениях вокруг нее скажем в своем месте и в свое время.)
П.А. Кропоткин в 1864 г.
Князь Кропоткин – человек необычайно яркой судьбы. Потомственный военный, путешественник и исследователь неведомых земель, географ и геолог, «особа, приближенная к императору», чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири, узник Петропавловской крепости и французской тюрьмы, революционер, писатель, «апостол анархизма», ученый с мировым именем. Великий труженик – он не бросал научной работы даже в заключении.
Ему предстояла блестящая карьера. Она началась на костюмированном балу в честь Николая I. Восьмилетний уставший мальчик уснул, положив голову на колени будущей императрицы, и проснулся кандидатом в Пажеский корпус.
Его отец, хороший, добрый и жестокий к «хамскому отродью» человек, имел 1200 душ в трех губерниях. В семье из восьми человек – пятьдесят человек прислуги в Москве и более шестидесяти в деревне. Четыре кучера на двенадцать лошадей, три повара и кухарки для «людей», двенадцать лакеев для прислуживания за столом, без числа горничных и др. Ну, как тут не стать революционером?
Петербург. Пажеский корпус. После выпуска – любой привилегированный полк, а особо одаренным офицерам – назначение камер-пажами к членам императорской фамилии, к государю и к государыне.
«Внутренняя жизнь в корпусе была жалка…» Отношения между «старичками» и «новичками» сродни тюремным. Избиения, издевательства, унижения. «Нравственные понятия в корпусе были таковы, что, чем меньше о них говорить, тем лучше».
Очень скоро Кропоткин попал в карцер «за дерзость». Скука смертная. Он боролся с ней гимнастикой, пел отрывки из опер. А потом… Потом придумал новое занятие, весьма оригинальное: стал учиться лаять по-собачьи. И достиг совершенства. Мог изображать любой лай – грозный, виноватый, трусливый, вой на луну. Мог даже лаять одновременно за двух собак: строгий лай большого пса и робкое ответное тявканье маленькой собачонки.
И это умение впоследствии получило практическое применение в странствиях по неизведанным краям.
…Почтовая лодка идет по Амуру. Темная безлунная ночь. Надо пристать на ночлег возле какого-нибудь селения. А где они, эти редкие, без единого огонька в ночи, селения? Тьма – даже берегов не видно.
– Будь добр, князь, полай немножко.
И достойный потомок славных князей Смоленских оглашает ночные окрестности звонким собачьим лаем.
– А ну-ка, тявкни еще разок.
Наконец, где-то на берегу отзываются собаки. Жилье, стало быть, можно приставать. Правда, порой отзывалась тайга не собачьим лаем, а зловещим волчьим воем.
И в Маньчжурии бывало. Подходили караваном к какому-нибудь селению, и вылетали на чужаков яростные псы. Но стоило только князю рявкнуть грозным рыком – только тех собак и видели!
«В жизни всякое знание может пригодиться», – говаривал Кропоткин.
Кропоткин произведен в фельдфебели Пажеского корпуса, одновременно назначен камер-пажом государя. Началась придворная служба. Лакейство, шпионство, интриги, разврат – разочарование и отвращение. «Пошлость светской жизни тяготила меня». Но и гвардия – это придворные балы и парады. Кирасирский полк Его величества, Преображенский полк, конная гвардия – выбор был широк и значителен.
– Кропоткин всегда со своими шутками!
Он выбрал Амурское казачье войско. Он мечтал о Сибири и Дальнем Востоке. Мечтал романтически и практически. «Там я найду широкое поприще для настоящей деятельности… Мне хотелось путешествий и приключений».
И он их нашел. С избытком. Более 70 тысяч верст по неведомым, девственно диким просторам, на перекладных, на пароходах и плотах, в лодках, верхом и пешим. «С несколькими фунтами хлеба и маленьким запасом чая в переметных сумах, с котелком и топором у седла, с кошмой, чтобы прикрыть ею постель из молодого листвяка… Как мало в действительности нужно человеку, когда он выходит из зачарованного круга условной цивилизации». В этих суровых и опасных походах он осознал человека не властелином природы, а органической частью ее. И положил впоследствии много научных трудов к уважительному ее познанию.
Плавания по Амуру, Уссури, Сунгари, Лене. Горные тропы Саян и Витима, экспедиции в Маньчжурию… Путешествия, труды и приключения.
…Сопровождал по Амуру караваны барж с продовольствием для войск и переселенцев. Соль, мука, солонина, чай. Одна баржа налетела на подводный камень у крутого утеса. Через пробоину хлынула вода, размывая бесценный груз, потеря которого означала голод для многих людей. Нашелся: приказал заткнуть пробоину кулем с мукой. Получилась «пробка» из теста, скрепленная коркой. Вычерпали воду и, с большим риском, перегрузили продовольствие на другие баржи.
…Речная навигация, особенно по мало изученным и коварным рекам, много сложнее и опаснее морской. Особенно с экипажами из случайных, неумелых и постоянно пьяных людей.
Однажды спешил в лодке к месту гибели сорока четырех барж, чтобы организовать спасение хотя бы части провианта. По реке бушевала буря. «Я отливал воду старым ковшом, причем она набиралась скорее, чем я успевал ее вычерпывать». Гребцы надрывались, порой на секунду выпуская весла, чтобы перекреститься. Наконец, к счастью, лодку нагнал пароход. Однако, счастье было не полным – выяснилось, что капитан его допился до чертиков, прыгнул за борт и, спасенный и связанный, лежал в каюте в белой горячке. Кропоткину пришлось заменить его в рулевой рубке. Что ж, русское дворянство всегда отличалось силой духа и ясностью ума. Кропоткин благополучно довел пароход до Хабаровска и сдал его Амурской компании.
Чтобы достойно преодолеть приключение, нужны незаурядное мужество, самообладание, мгновенная находчивость. А порой – лишь остроумие.
Исследовательская (разведывательная) экспедиция в недружелюбную Маньчжурию требовала конспирации. Китайские власти закрыли ее для европейцев. Никто из них до Кропоткина туда не проникал, а который бывал, тот не возвращался. Не допустили бы тем более ни русского офицера, ни российского ученого.
Кропоткин замаскировал экспедицию под торговый караван. А сам стал московским купцом. Без особого труда – он частенько и с успехом играл их в любительских спектаклях. Манеры, говорок, гардероб, ухватки.
– Покорнейше благодарим-с за чаёк. – Садился на краешек стула, выпучив глаза, дул на блюдечко с чаем и грыз кусочек сахара, с которым выпивал три-четыре чашки.
Рисунок П.А. Кропоткина в сибирской экспедиции. Между 1862 и 1865 гг.
Одно только могло его выдать. Как сказал казак из отряда, «их благородие шибко хорошо верхом ездют».
Да, опасность была велика. В случае разоблачения князю – самое малое – грозила отправка в Пекин в деревянной клетке на спине верблюда.
Однако обошлось. Хотя слух впереди каравана бежал: «Какой-то князь Рапотский должен ехать». И какой-то бдительный китайский чиновник потребовал… паспорт.
– Какой-такой паспорт?
– А вот такой – как у меня, – и развернул свиток в полметра, исписанный китайскими знаками сверху донизу. – И печать должна быть.
Вот тут и нашелся Кропоткин – важно представил в качестве паспорта номер «Московских ведомостей» с отпечатанным государственным гербом в названии. Указал на двуглавого орла:
– Хороша печать?
Чиновник взял в руки газету, с уважением спросил:
– Это про вас все написано?
– Все про нас. И тут еще написано, что за все препятствия спрос будет очень строгий.
Путешествия закончились, но приключения продолжались. Физмат Петербургского университета. Научные работы, доклады и сообщения в изданиях РГО, статьи в газетах – высокая оценка в ученом мире. Золотая медаль РГО за отчет об Олекминско-Витимской экспедиции.
Революционная деятельность. Изучение политических идей. Анархизм.
В нашем расхожем представлении анархист – это полупьяный матрос с маузером в одной руке, с черным знаменем в другой, с бомбой за поясом: «Анархия – мать порядка». Кропоткин полагал анархизм передовой теорией, полностью отвечающей интересам трудящихся масс. Равенство, отсутствие угнетения со стороны капитала, бюрократии, государства. «Свобода каждого есть условие свободы всех». Особо подчеркивал: анархия есть нечто большее, чем способ действия или идеал свободного общества, это, кроме всего, философия, как природы, так и общества.
Впрочем, это не наша тема, хотя поиски истины тоже есть своего рода увлекательные приключения.
После Сибири Кропоткин (по А.И. Герцену) живет «во все стороны». Учеба, научная и революционная деятельность, заседания в Географическом обществе, долгие часы в Публичной библиотеке, научные изыскания в области истории и биологии, географии и биологии, общественных знаний, революционная деятельность, светские развлечения. Обобщает материалы Сибирских экспедиций. Начинает исследование причин и характера «великого оледенения» в Европе. И продолжает его уже в Петропавловской крепости.
Начались приключения иного рода и свойства, не менее трудные и опасные.
Нелегальный кружок «чайковцев». Арест. Обвинение: «Принадлежность к тайному сообществу, имеющему цель ниспровергнуть существующую форму правления, и в заговоре против св. особы ЕИВ».
Одиночная камера, допросы. Чтение, научная работа, ежедневные семь верст по камере и гимнастика с тяжелой табуреткой. Дух не сломлен, но силы истощались. Цинга, недостаток свежего воздуха: прогулки по 15 минут через два дня на третий.
Следствие тянется уже два года. За это время в крепости покончили с собой несколько заключенных, многие сошли с ума, скончались от чахотки. Здоровье все хуже и хуже. Старый солдат-часовой пожалел: «Не дожить тебе, сердечному, до осени».
Тюрьма при военном госпитале. Стал поправляться и крепнуть. Мысли о побеге. Друзья и соратники на воле сделали все для этого. Было много планов – серьезных и курьезных. Один из них: в дождливую ночь часовой задремлет в своей будке, два товарища подползут к ней и опрокинут – солдат окажется в мышеловке, а Кропоткин тем временем выпрыгнет в окно, заранее подпилив решетку.
Неожиданно один из солдат шепнул:
– Проситесь на прогулку!
Князь понял, что ему нужно ознакомиться с обстановкой в тюремном дворе – где и какая охрана, где калитка и ворота. И не ошибся. Через несколько дней какая-то дама передала для князя Кропоткина карманные часы. В них находилась крохотная шифровка с планом побега.
Побег состоялся. На прогулке Кропоткин скинул тюремный балахон и бросился в ворота. Растерявшиеся солдаты – за ним, один из них несколько раз пытался достать беглеца винтовочным штыком, но не сумел. Кропоткин прыгнул в пролетку, где сидел «офицер» с обнаженным револьвером, и великолепный призовой рысак, специально для этого купленный, взял с места галопом. Крики, выстрелы! Но только их и видели! Караульный офицер остановил конку и приказал кондуктору отпрячь одну из лошадей, чтобы верхом догнать пролетку. Кондуктор отказался, офицер не настаивал. Побег блестяще удался.
Через несколько времени снабженный чужим паспортом Кропоткин через Финляндию переправился в Швецию. Начались его скитания в эмиграции.
Англия, Швейцария, снова Англия, Франция… Четыре с лишним года в тюрьме по делу анархистов. И опять Англия.
1917 год. Возвращение в Россию, уже в другую, «не по милости монарха, а по воле русского народа», после сорокалетия на чужбинах. Торжественная встреча, многотысячная толпа, дамы с цветами, министры Временного правительства, черные знамена анархистов, почетный караул офицеров Семеновского полка, оркестр, пламенные речи…
Кто же все-таки он, князь Кропоткин? Пламенный революционер, искатель приключений, самоотверженный ученый? Некорректные вопросы. Каждый настоящий ученый, по сути, есть революционер. Завершив одну из своих работ, он произнес знаменательные слова: «В человеческой жизни мало таких радостных моментов, которые могут сравниться с внезапным зарождением обобщения, освещающего ум после долгих и терпеливых изысканий». Самое прекрасное приключение!
Это Кропоткин сказал, когда его логические умозаключения безупречно подтвердились экспедицией австрийцев, открывших землю, которая фактически уже была им открыта.
Юлиус Пайер. Приключения на «Тегеттгофе»
Российское правительство отказалось от исследований области Ледовитого океана к северо-востоку от Новой Земли. Эту задачу первыми начали решать иностранцы.
Экспедицию возглавили лейтенант австрийского флота Юлиус Пайер (1842–1915) и Карл Вейпрехт. Они вышли в море в июне 1872 г. на деревянном пароходе «Тегеттгоф» с запасами продовольствия на три года. Это обычная практика в таких экспедициях, продолжительность которых предусмотреть невозможно – запасы делаются с двойным и даже с тройным перекрытием.
Тот год в Баренцевом море выдался крайне «ледовитым». Уже в августе судно было затерто льдами. Навсегда.
Два года длился этот безвольный, изнурительный для людей и судна дрейф по прихоти льдов, ветра, течений. С наступлением полярной ночи обрушились на пароход зимние шторма, беспощадно сдавливающие льды. Непрерывный грохот льда и треск корпуса. Нередко громадные льдины заползали или обрушивались на палубу. Четыре с лишним месяца люди жили в постоянной тревоге, в ожидании гибели судна, каждую минуту готовые его покинуть, высадиться на лед.
К весне «Тегеттгоф» находился уже много севернее Новой Земли, в водах, которые до них еще не посещались человеком.
Наступило и закончилось лето, не оставив надежды на освобождение ото льда. Зато принесло открытие. Ради таких мгновений и переносят люди небывалые трудности, жертвуя здоровьем и жизнью.
– Земля!
Предположение Кропоткина о существовании неизвестной земли на севере Баренцева моря блестяще подтвердилось. Событие произошло 30 августа 1873 г.
Что это была за земля, отметил Пайер: «суша, состоящая только из снега, голых скал и смерзшихся камней… На земле едва ли мог существовать более печальный и безнадежный уголок… Но нам он казался настоящим раем».
Нисколько не умаляя заслуг открывателей, заметим только то, что оно в какой-то степени было случайным, по воле волн и ветра. Теоретическое же открытие этой земли было сделано на основе долгого, тщательного, рационального научного труда.
Юлиус Пайер в одежде полярника
Обследовать открытую землю не скоро пришлось – следовало ждать четыре месяца до истечения черной полярной ночи.
Вновь потянулись однообразные дни. Усилилась цинга, потеряли одного человека. Начали излечиваться медвежатиной – добыли почти семьдесят белых медведей.
Начались санные экскурсии при пятидесятиградусном морозе, ночами мерзли в палатках. Собак было только три, груженые сани тащили люди. Добрались до северной точки новой земли. По пути собирали образцы горных пород, изучали строение островов и покрывающих их ледников, знакомились с животной жизнью архипелага, заснимали и положили землю на карту. Впоследствии, многими годами позже, выяснилось, что это удалось не точно. Пайер был уверен, что Земля Франца-Иосифа есть два больших массива суши, разделенных проливом. Не заметив, что это архипелаг из семидесяти крупных островов и без счета маленьких.
Во время перехода по одному из ледников каюр с собаками провалились в трещину, заметенную снегом. Пайер помчался в лагерь за веревкой, вернулся через четыре с половиной часа, с помощником. В глубине трещины была зловещая тишина.
Но, к счастью, обошлось. Каюр и собаки задержались в падении на выступе, на глубине двенадцати метров. Вытащили почти замерзшего каюра и всех трех собак.
Между тем стало ясно, что «Тегеттгоф» скован льдами навечно, и выбраться людям из ледяной ловушки можно только добравшись на шлюпках до Новой Земли, где есть надежда встретить русских промышленников.
Шлюпки поставили на сани, загрузили продовольствием (две с половиной тонны) и снаряжением (две тонны). Каждые сани должны были тащить по снегу и льду по пять человек.
В конце мая 1874 г. экипаж простился с судном. Начался неимоверно тяжкий и практически напрасный труд. Предстояло пройти не меньше 250 миль. За первый месяц преодолели милю с четвертью. Позади все еще виднелись мачты покинутого судна. А третья часть продовольствия уже была израсходована. Южные встречные ветры относили лед назад, к северу, с той же скоростью, с какой люди тащили сани к югу.
Через два месяца пути по льдам, мокрому снегу и редким разводьям отошли от судна на… 15 миль. Представлялось наиболее разумным и спасительным – вернуться к пароходу. Отказались от этого из-за опасения не найти его во льдах – тут уж верная гибель.
В минуту отчаяния льды начало разводить, появилась возможность идти на шлюпках, правда, периодически вытаскивая их на льдины и снова тащить на себе.
Но вот в середине августа показалась кромка льдов, а за ней безграничная ширь открытого моря. Пайер записал: «Мы вышли из темной, холодной гробницы для новой жизни». А вот что он написал чуть ниже: «Но, несмотря на всю безумную радость…все же мы не могли без боли подумать о том, что нам теперь навсегда предстоит проститься с застывшим полярным царством, с царством льдов, которые сверкали позади нас во всей ослепительной красоте».
В. Визе к этому добавил: «Полярные страны властно влекут к себе человека, раз побывавшего в них, даже если это пребывание было связано с тяжелыми лишениями». Очарование Севером велико и непреодолимо.
Пошли на шлюпках вдоль западной кромки Новой Земли. Продовольствия оставалось на десять дней. А сил на сколько?..
На южном острове Новой Земли в конце августа 1874 г. увидали две русские промысловые шхуны. «Разместившись на судне “Николай”, обогрелись и ожили».
Да, нелегко дается людям Север.
И еще одно «приключение» экипажа «Тегеттгофа», о котором он, надеемся, не узнал. Один норвежский ученый утверждал в 1930 г., что архипелаг Франца-Иосифа открыт не австрийцами, а норвежскими промышленниками в 1865 г. Это утверждение совершенно неосновательно «и даже не может служить объектом исторических спекуляций».
Вернемся, однако, как замечал В. Визе, «на многие тысячи лет назад».
В священных свитках древних индусов (6–7 тысяч лет до н. э.) тоже говорится о полярной ночи и полярном дне. В священной книге персов описывается некая страна, где зима длится десять месяцев, а лето – только два; и «год здесь кажется как один день и одна ночь». Последнее замечание просто… замечательно: на полюсе, как нам известно, ночь и день длятся по полугоду. И ясно каждому, что эти древнейшие сведения не могут быть измышлениями, плодами народной фантазии, а отражают вполне конкретные знания. В Гомеровой «Одиссее» есть строки о “стране туманов, возле океана, в бесконечной и безотрадной ночи”».
Пифей. «Наихудший лжец»?
Очень древний грек Пифей Массалиот (ок. 380 – ок. 310 до н. э.) был очарован Севером. Так говорили о нем его современники, это отмечали историки наших дней. «Он одержим космической тайной Севера… Его не оставляло наваждение Севера».
Надо сказать, это наваждение в античные времена было едва ли не всеобщим. В нем удачно сочетались практический интерес, мистика и фантастика, мифы и легенды.
Пифей, первый исследователь Северной Европы и Арктики, – небогатый купец, морской торговец.
Однако следует заметить, что именно купцы с самых дальних времен, с изначальной своей деятельности – это отважные и пытливые путешественники. Им все надо заметить, понять и изучить, запомнить и знать – «где какая рыба и почем; за каким морем телушка – полушка».
Самые первые и разносторонние сведения о дальних странах и неведомых народах доставляли из своих плаваний и пеших хождений именно купцы. Такие люди, обладающие огромным интеллектуальным любопытством, влечением к неизведанному и неизвестному, двигали вперед познание мира, связывали страны и вносили новое в быт и культуру народов.
Пифей наряду с этими качествами был дерзким и отважным, но осторожным и рассудительным мореплавателем, а главное – выдающимся географом, астрономом, естествоиспытателем.
Он первым побывал у Полярного круга, которого тогда еще не было, первым сообщил миру о Ледовитом океане. Первым описал полярный день и полярное сияние. Рассказал в своих путевых записях о «морских легких» и «свернувшемся море» – так образно, с его легкого слова, стали называть и называли вплоть до средних веков море, покрытое льдом.
Он настолько живо и ярко описал все увиденное в плавании, сделал такие опережающие его время выводы, что ему не поверили тогда и не верили долгие века, подвергая сомнениям не только им рассказанное, но и само его путешествие.
В свое великое плавание Пифей отправился в 325 г. до н. э. из Массалии (нынешний Марсель) отыскать по поручению и предложению, так сказать, местной администрации и купеческого сообщества выгодные морские пути в страны «олова и янтаря» с тем, чтобы разорвать монополию атлантической коммерции карфагенян. Олово и янтарь попадали в Средиземноморье через третьи руки, и обмен их на железо был не очень выгоден. Требовались, как сейчас сказали бы, прямые связи с поставщиками.
Надо сказать, что мотивы древних мореплавателей имели преимущественно коммерческий характер; наука и географические открытия носили характер случайный, были целью побочной. И нередко пытливые мореплаватели скрывали свои устремления к познаниям новых морей, земель и народов. Тот же Колумб, как позже стало известно, стремился не столько за землями, пряностями и золотом для испанской короны, сколько за славой первооткрывателя.
Маршрут плавания Пифея
У Пифея кроме экономической, так сказать, программы была и широкая научная. Но на пути ее решения предстояло многое преодолеть.
Первое приключение – без потерь пройти Гибралтар, надежно закрытый дозорными судами и береговой стражей Карфагена для прохождения чужеземными мореходами.
Экспедиция Пифея состояла из двух парусно-гребных галер – торговых, а не боевых. Вместительные, широкобортные, прочные и надежные, они в то же время имели меньший ход, чем суда военные. Поэтому расчетливый Пифей выждал темную ночь с попутным ветром, чтобы не плескать веслами, не скрипеть ими в уключинах, и проскользнул в Атлантику, рискуя своими судами, товаром, свободой, а то и жизнью. Взяв курс сперва на запад, пошел потом на север, вдоль побережья – в открытый океан в те давние годы еще ходить не решались. Да и незачем было.
Долгое время галеры шли скрытно, избегая встреч с судами финикийцев и карфагенян, в отдалении от берегов, но не теряя их из виду. Шли пока известным «оловянным путем».
Устье Луары (г. Карбилон), полуостров Бретань, юго-западная оконечность туманного Альбиона. Здесь Пифей закупил олово и, загрузив его на одну из своих галер, отправил в Карбилон, продолжив путь вдоль западных берегов Англии. В опасную неизведанность. Приключение за приключением, открытие за открытием.
От Северной Шотландии Пифей совершил свое беспримерное плавание в загадочную страну Туле. Кажется, до наших дней нет ясности, какая это страна – Норвегия, Гренландия, Скандинавия? Скорее всего – Исландия.
Здесь южных мореплавателей повергли в смятение необыкновенная стужа, невиданные ранее льды, густо-молочные туманы и то самое «свернувшееся море».
Пифей был отважен, но осмотрителен. Описав увиденное и посчитав, что здесь, к северу от Туле, кончалась доступная человеку среда, он решил вернуться в Массалию. И правильно сделал, иначе, вполне возможно, мир лишился бы его великих открытий – из тех, что движут вперед познания человечества.
Пифей писал: здесь ни земля, ни вода, ни воздух не существуют раздельно, а в своего рода смеси, наполняющей «морские легкие».
Что это такое, не установлено учеными и историками до сей поры. Загадка и ныне. Тонкий колышущийся лед, мерно шуршащий на воде, словно дышит спящий сказочный гигант, властитель Ледовитого океана? Или замерзающее море, тяжелые густые туманы, насыщенные снежными крупинками, слой снега на волнах?
Скорее всего – образное поэтическое выражение этого впечатления.
Еще в Массалии Пифей поставил себе задачу узнать: Британия – это остров или часть Европейского материка, и на обратном пути обошел ее кругом, «измерил» ее и нанес очертания на карту в виде вытянутого треугольника.
На южных берегах Северного моря Пифей достиг местности, где волны щедро выбрасывали на берег множество янтаря. И немало подивились южане, узнав, что здешние аборигены расточительно используют драгоценный янтарь в качестве топлива, вместо дров.
Выменяв янтарь на железные изделия, Пифей завершил «коммерческую часть программы» и отправился домой, на родину.
На всем пути – с юга на север и с севера на юг – Пифей вел астрономические, географические и этнографические наблюдения. Несмотря на то, что обе его галеры были тяжело загружены янтарем и оловом, Пифей делал частые остановки, сходил на незнакомые, а порой и враждебные берега, заполнял путевые дневники записями о флоре и фауне, климате и образе жизни, обычаях, особенностях племен и народов, изыскивал возможности будущих торговых сношений, тщательно наносил на пергамент прихотливые линии берегов. Скрупулезно, с дотошливостью настоящего ученого он отмечал все, что казалось ему нужным и интересным.
Чужие моря, чужие берега – великие открытия, полезные сейчас и необходимые для будущих времен.
Одержимость Севером сделала Пифея первым его исследователем.
Пифей установил прямую зависимость между географической широтой и продолжительностью дня и ночи. Убедился, что движение приливов и отливов связано с притяжением Луной водной оболочки Земли. Сделал открытие, что направление на Полярную звезду не является точным указанием на Север. Первым, как мы отмечали, описал полярный день, полярное сияние, вечные льды.
Он обошел всю Британию, и весь мир узнал о том, что это остров, тогда как даже ее коренные обитатели не догадывались об этом. Пифей обрисовал ее конфигурацию и определил ее размеры – конечно, не очень точно, но довольно близко к фактическим. И это сделал Человек за 300 с лишним лет до новой эры!
Многие ученые считают плавания Пифея по смелости предприятия и по результатам не менее значимыми для истории человечества, чем открытия Колумба.
В пути он пережил много приключений, да, собственно, само по себе такое плавание в неизведанное и есть одно большое приключение. Также как и сделанные в нем открытия.
Однако самое большое приключение случилось с Пифеем, когда он благополучно вернулся в Массалию и опубликовал свои путевые записи и впечатления. Когда удивительное и небывалое, чему он был свидетелем и участником, станет обсуждаться и подвергаться сомнениям, не стесняясь в выборе выражений.
Те времена были довольно мрачные, впрочем, они всегда такие. О северных землях и морях ходили самые нелепые слухи и упорно держались самые дикие мифы (многие из них Пифей истребил). Об этом мы подробно скажем в своем месте. И в то же время даже самые правдивые рассказы бывалых мореплавателей вызывали недоверие. Такое же недоверие обрушилось и на Пифея. Причем недоверие – протяженное в веках. Яростнее всех нападал на Пифея географ Страбон: «отъявленный лгун… все сообщения Пифея есть вымыслы… наихудший лжец». (Можно подумать, наилучший лжец почетнее.)
Даже его несомненное плавание вокруг Британии подвергалось сомнениям. Якобы по протяженности во времени оно не могло состояться. В те далекие годы пройденные моряками пути измерялись так называемыми «парусными днями». В расчет бралось время, пройденное за день под парусами. Нелепость этого довода – на поверхности. На «парусный день» выпадали и штили и бурные дни, судно подвергалось влиянию течений, да и частые остановки у берегов, которые делал Пифей, искажали картину.
Позже более объективные исследователи утверждали, что все эти и другие нападки были «профессиональной ревностью… яростной враждебностью кабинетного ученого, потесненного в своих теориях практикой навигатора».
Но мы должны быть признательны оппонентам Пифея: цитируя его с целью дискредитации, они таким образом, сами того не делая, способствовали сохранению в веках добытых им сведений – ведь подлинников время не пощадило.
Однако самое главное приключение Пифея было далеко-далеко впереди, в тумане будущих столетий.
Почти через две с половиной тысячи лет открытия и сообщения Пифея были убедительно признаны достоверными и утвердили за ним славу великого мореплавателя и ученого.
В память и в ознаменование заслуг этого древнего первооткрывателя имя Пифея в 1935 г. Международным астрономическим союзом было присвоено лунному кратеру. Был также издан роман на основе «Бортовых дневников» античного мореплавателя.
Однако сам Пифей об этом вряд ли узнал… Впрочем, это судьба всех, кто опережал время.
Знания человечества о Севере складывались из скудных реалий и размашистых легенд. Холодный, бесконечный, безжизненный, ледяной простор. За гигантской скалой – свободное море, теплый материк, населенный красивыми великанами. Гиперборея. Молочно-белые туманы. Загадочные острова – то возникающие из ничего, то исчезающие в никуда. Волшебные сполохи в черном небе. Белое безмолвие. Вечная тишина. Только шорох замерзших звезд…
В 552 году византиец Прокопиос (ок. 500 – после 565) (или Прокопий), писатель-историк, сопровождавший в походах полководца Велисария, добирается до великой северной страны (скорее всего, это будущая Норвегия) в десятки раз больше Британии, где солнце ни разу не заходит в течение сорока дней, а затем в течение сорока дней господствует над страной длительная ночь.
(Ф. Нансен по этим данным вычислил описываемое место – 68° N. А это уже за Полярным кругом.)
Вот что Прокопиос писал о северном народе: «Он ведет животный образ жизни: не пьет вина, не употребляет чего-либо, даваемого землей, не носит платья из материи».
Своеобразное у византийца представление о животном образе жизни, особенно в том, что касается вина. Что же касается продуктов земледелия, то в этих навсегда замерзших краях произрастает лишь олений мох – нет ни виноградников, ни хлебных полей. Нет там возможностей возделывать лен и хлопок, разводить тутовый шелкопряд. Да и одежда из материи, а не из теплых шкур была бы для этих народов губительна.
Даже просвещенные народы, имевшие своих ученых и мореплавателей, представляли себе далеких северных обитателей в виде фантастическом и пугающем: живут там люди с двумя головами, но с одной ногой, на которой шибко скачут, а также киноцефалы – то бишь с собачьими головами люди; а девы там беременеют от одного глотка воды…
А далее, в восточной стороне, живут люди «самоедь». Ростом не велики (в полчеловека), носы малы, но «резвы велми и стрелцы скоры и горазды… А стрелба ж у них такова: трубка железна, да стрелку ту вкладывают в трубку да бьет молотком… А не говорят… летом живут в море, а на сухе не живут – тело трескается».
А в той же стороне – аки человеки, но без голов, «рты у них меж плечами, а очи в грудях».
Но вот что интересно – не имеют ли такие впечатления какой-нибудь реальной основы? Ведь любые, самые фантастические и невероятные измышления в основе своей какую-то каплю реальности содержат, иначе им не на чем вырастать. (Мы, естественно, не о беременности от глотка воды.) Вот европейцы говорят о киноцефалах, а славяне – о песеглавцах. Стало быть, и те и другие не единожды видали что-то похожее в разных северных краях, одни на Западе, другие на Востоке.
В общем и целом очевидцы-путешественники тех далеких времен отзывались о народах Севера однозначно неприязненно. «Народ этот крайне некрасивый, нечистоплотный и отвратительно пахнущий. Едят они только сырое мясо, делают себе одежды из звериных шкур, с которых волосы не сняты».
Такие впечатления оставил для нас английский путешественник и писатель Варнефрид (720–790), добравшийся до древней Скандинавии и назвавший тамошний народ «скридфиннами» – скользящие по снегу люди – видимо, в Европе еще не знали лыж. «Своим разумом они не отличаются от животных», – добавил.
Ну, это спорный вопрос. Если людям хватает ума и стойкости выживать там, где даже летом зима, где ничего нет кроме льда и снега, делать себе одежду из теплых шкур, употреблять мясо в сыром виде, как лучшее средство от цинги – не повернется язык называть таких людей глупыми животными. А относительно того, что дурно пахнут, что ж, в ледяной стране согреть тазик воды для мытья – это подвиг. Но вот просвещенные европейцы (им современные и даже более поздние) пахли намного сложнее, поскольку свой дурной запах нечистого тела пытались забивать духами и одеколонами. А насчет помыться в тазике – так это только личико и декольте, по большим событиям.
И в более поздние времена, в близкие нам годы не иссякали заманчивые рассказы и россказни о чудесах и тайнах северных земель. Вспомним хотя бы Землю Санникова, которую безуспешно искали много лет и которую разыскал и населил романтически народом онкилонов академик В. Обручев. А таких островов в Северном океане великое множество, и все они имеют свою историю и свои приключения.
Да и до наших дней влечение к высоким широтам не уменьшалось, а становилось для многих исследователей неудержимой страстью.
И то сказать: Запад уже скучен. Что там может быть неожиданного в «цивилизованной» Европе? Юг романтичен, но уж слишком жарок, ленив и неряшлив. К тому же романтика южных морей в далеком прошлом. Все острова и земли давно открыты, туземцы выходят в море не на каноэ с парусами из циновок, а на пластмассовых лодках с мощными американскими моторами, прекрасные островитянки с алыми цветками в волосах танцуют «хулу» на эстраде, а не под пальмами в лунную ночь. Восток? Восток – дело тонкое, но он теряет свою экзотику стремительным сближением с Западом. С его «ценностями».
А вот Север… Север все еще непочат, суров и загадочен, трудно доступен и полон неизведанного. И непередаваемо красив. Нетронутое человеком белое безмолвное величие.
История освоения Севера – это драматическая летопись поражений и побед, яростной конкуренции и искренней взаимопомощи, жестокого эгоизма и самопожертвования. Величия духа и низости предательства.
Какого огромного количества жертв стоило человечеству изучение Севера. Сколько трагических судеб, мужества и упорства. Сколько погибших кораблей и несбывшихся надежд.
И сколько побед!
А сколько мрачных тайн и трагедий сокрыто в глубине тяжелых волн океана, под вечно плывущими глыбами льда и снега, в неизвестных, случайных зимовьях на замерзших навечно островах.
Мы постараемся рассказать об этом. О великих полярных мореплавателях, о незаслуженно забытых и вовсе неизвестных первых морепроходцах Арктики. Об экспедициях удачных и не очень, о пропавших навсегда. О героическом, трагическом и даже о курьезном.
О беззаветных тружениках ледовитого моря.
Великие путешествия ведь не только великие открытия новых земель и морей, новых путей на планете. Это еще и величие силы и духа, ума и воли. Покорение не только пространств, но и собственной слабости, отчаяния и голода, нездоровья и безмерной усталости. Неуверенности в себе и страха неизбежности…
Взаимоотношения человечества и Арктики также можно разделить на три условных этапа или, точнее, эпохи: открытия, освоения и потребления. Накопленные веками знания, полученные трудом, лишениями, жизнями мореплавателей, землепроходцев и ученых, ныне в полной мере служат делу извлечения и получения уникальных природных богатств Севера. Но разделение это крайне условно – открытия не завершаются раз и навсегда, процесс этот перманентный и будет, скорее всего, длиться до тех пор, пока будет жива наша родная многострадальная планета. То же относится к освоению – форма его будет изменяться с внедрением все новых и новых технологий, методов изучений, средств достижения результата. Самая страшная пора – потребление северных ресурсов. Как везде, так и на Севере, человек ведет себя на новых территориях как завоеватель. С одной стороны, он вроде бы рьяно трудится для будущих поколений, а по сути, ведет себя как солдат, которому на три дня отдали захваченный город.
Богатства Севера человек начал прибирать очень давно. И так в этом преуспел, что в самых богатейших регионах Ледовитого океана избил всех китов, уничтожил всех северных оленей, поставил под сомнение существование моржей, тюленей, нерп. В одно время спохватились и в территориях Шпицбергена на какое-то время установили лимиты на некоторые виды добычи, а уже в наше время полностью прекратили китобойный промысел. Это охотничий, зверовой промысел, а сколько урона нанесла Северу алчная добыча сокровищ его недр – нефти, угля, редких металлов. Как оправдать те следы на девственно чистых просторах Северного океана, которые оставляют после себя «покорители» Севера – экспедиции, всякого рода станции и опорные пункты – горы мусора, с уничтожением которого природе не справиться и веками – железо, пластик и прочая ядовитая дрянь.
Очень тревожно. В последнее время активизировалась работа на Севере. А что это значит, мы уже знаем по тому, что сделано с нашими главными океанами. Они загажены и не просто мусором, а мусором ядовитым, неисчезающим, гибельным для всего живого в этих наших прародителях. А великие реки? Они дурно пахнут, периодически исчезают и вот-вот исчезнут навсегда. Но человечеству этого мало. Загадив свою планету, оно лезет гадить и дальше. Околоземное пространство уже опасно для космических станций – столько в нем скопилось хлама «великой космической деятельности» человека, далеко не «сапиенс».
Тревожно. Человек неразумный весьма и постыдно неряшлив. В отличие от птиц и зверей человечество гадит в собственном доме. Страшно подумать, что ждет Север нашей планеты в ближайшие годы освоения и потребления. Даже в годы куда менее интенсивной эксплуатации полярных областей на их просторах остались навсегда незаживающие раны – следы жизнедеятельности тернового венца природы.
Поэтому от этих грустных тревог и бесполезных сожалений вернемся в те времена первых взаимоотношений человека и Севера, когда они сходились в единстве и борьбе противоположностей на девственно чистых просторах при взаимном уважении и практически равных возможностях.
Отар. Бесстрашный
Бедный плывет за добычей, богатый – за славой. Так говорят викинги в своих сагах. И несомненно – первые славные географические открытия на Севере сделаны ими. Вестфольдинги (западные люди в прямом переводе), дети фьордов, потомки бога Вотана. Племя богов. «Мир принадлежит тому, кто сильнее». Не отсюда ли взялся нацизм?
Впрочем, это не наша тема.
Викинги – морские разбойники и профессиональные воины. Отрядами в несколько десятков мечей они брали и подчистую выгребали крупные европейские города: «Мы не воруем, а отнимаем».
Викинги – дерзкие мореплаватели и неутомимые землепроходцы. Они могут грести тяжелым веслом от рассвета и до заката, от полуночи до полудня. Они могут проходить своим мерным волчьим шагом, не снимая стальных доспехов, до ста миль за сутки, неделями обходиться без пищи, крепко спать на жестком днище своего драккара или на голом холодном камне. Им не страшны ни люди, ни звери. Ни жара, ни холод. Викинги не боялись сурового и жестокого моря. Они считали себя его детьми и верили ему. А больше всего верили в себя. Они бродили по всему свету, по волнам океана, не боясь потеряться в его просторах. Они читали путь по звездам, у них были свои тайны в навигации. До сих пор никто не разгадал секрета их «солнечного камня», который задолго до китайского компаса безошибочно указывал викингам путь к цели и обратную дорогу домой.
Викинги – прекрасные корабелы. Суда викингов – драккары – совершенны по своей конструкции и мореходным качествам. Изящные и прочные обводы обеспечивают им легкий ход под веслами, устойчивость и остойчивость под парусом. Они приспособлены как для сложного плавания во фьордах и шхерах, в прибрежных скалистых водах, так и в открытом океане.
Эти искатели приключений и легкой наживы, занимаясь чудовищным разбоем, сделали ряд очень значимых, выдающихся географических открытий в полярных областях. Они открыли Гренландию и Северную Америку, основали колонию в Исландии, которая в темные Средние века стала светочем культуры.
Викинги – отважные воины и расчетливые купцы, открыватели и завоеватели земель, покорители народов. Им неведом страх необозримого и непознанного…
Скальды поют о страшном царстве Утгарды, где обитает злой бог Локи. Сюда, в бездонную яму, без конца сливается море. А и в самом деле – море извечно течет мимо земли фьордов на север. «Вся вода из рек, питающих море, тоже уходит на Север и никогда не возвращается». (Гольфстрим, однако.)
Король Гаральд Древний (начало IX в.), отважный викинг и опытный покоритель морей, желая узнать, куда течет море, заплыл далеко на север. Безлюдные берега, тревожное море, все ускоряющее свой бег к пропасти. Драккар короля едва не был увлечен в Утгарду. Судно развернулось в обратный путь, гребцы едва справлялись с течением; помог северный ветер. Гаральда не испугало море – викинги бесстрашны, но они и расчетливы. Рисковать без шансов на успех не в их правилах.
Викинг Отар оказался более настойчивым и решил дойти до края земли фьордов (870–890), не страшась беспощадного стремительного потока.
Драккар – корабль викингов из Осеберга
…Викинги расчетливо, вдумчиво, опытно собирались в дальнее плавание. Они знали: успех любого дела зависит от его добротной подготовки.
Драккары Отара все ниже оседали в мутную морскую воду от тяжести погружаемых запасов. Грузили прежде всего оружие, доспехи, вывешивали за борта боевые щиты. Хороший запас тетив и охапки стрел для луков, пращных ядер, метательных копий. Полный набор инструментов для починки оружия, судов, порванных ветром парусов. Запасы вяленого мяса оленей, соленой рыбы, тюленьего жира, муки. Тюки и бочки с товарами на обмен.
Викинги настойчиво добивались своих целей не только торговлей и мечами, но и жестокими пытками. Без пыточных орудий на морской разбой не выходили, и в этом деле изощрены были не менее, чем в морском, торговом и ратном. Цитируем: «воронки для пытки водой, смолой и горячим маслом. Иглы и крючки для ногтей, наборы клещей для вырывания из тела кусков мяса, вытягивания жил и ломания ребер; пилки и долота для костей, решетки для поджаривания, тиски для пальцев рук и ног и головы; специальные ножи и плоские деревянные клинышки для сдирания живой кожи».
Все это пригодится в пути, в чужих неведомых землях, где на века останутся в людской памяти страшные дела пришельцев в железе и рогатых шлемах.
…Сброшены причальные канаты из китовой кожи, разом опустились на воду длинные весла, отошли черные драккары от скалистого берега и скрылись в туманной и мрачной морской дали…
Черные драккары Отара осторожно шли вдоль берегов в кильватер, на три полета стрелы один от другого.
Незнакомые воды. Обильные стадами синих китов, тупорылых кашалотов, бесчисленными лежбищами моржей, рев которых заглушал порой шум прибойной волны.
Берега неприступные, изрезанные фьордами и шхерами, опасные. Иные скалы, скрытые водой, выбегали далеко в море, и только зоркий глаз кормчего оберегал днища драккаров от возможных пробоин. Потому, из разумной осторожности, шли чаще на веслах, чем под парусом – так надежнее и вернее в управлении судном.
Уводить драккары мористее практичный Отар не хотел. Его не столько интересовала мифическая яма Утгарды, сколько незнакомые берега, их полезная обитаемость. А это – новые данники, даже рабы, сокровища новых земель – меха, драгоценная кость, речной жемчуг.
Упорно, как волк по кровавому следу, шли и шли к таинственному Северу. Шли одинаково – и днем, и светлой ночью. Одна смена гребцов в работе, другая отдыхает. Шли и шли…
По правому борту – сурово – злобные берега, уродливые скалы, сумрачные провалы ущелий, грозный прибой. С расселин сползают в море льды и плывут ледяными горами на страх мореплавателям, на погибель судов.
А земля мрачна и пустынна. Места для обитания богов и духов. Злых и беспощадных.
Давно миновалось то место, которого достиг Гаральд Древний и не решился идти дальше, опасаясь черной ямы Утгарды, куда изливается море. Не было здесь никакой ямы. Просто усилилось течение, а в один из узких фьордов в сильный прилив море и впрямь изливалось, ровно в бездонную пропасть. Отлив возвращал эти воды в море.
Отар был смел, но осторожен. Он не хотел рисковать своими людьми, драккарами и будущей добычей. В удобной бухте он высадился с десятью викингами, поднялся на высокие скалы. Тучи птиц взмыли в небо, закрывая солнце. С высокого мыса, содрогавшегося напором вспененных волн, открылась тайна Утгарды: море неистово, со звериным ревом врывалось в чудовищной глубины фьорд. Но выпить море ему не под силу. Однако и зрелище было страшным и не каждому по силе.
Это приключение кануло в прошлое без следа. Очередное ждало Отара на палубе – верный кормчий шепнул ему, что назревает бунт, викинги отказывались плыть дальше – туда, где кончается море и исчезает земля. Они в зловещем молчании, наклонив головы, стучали рукоятями мечей в свои щиты, ждали.
С верными людьми Отар железной рукой подавил бы бунт, но неизбежно потерял бы на этом воинов и гребцов.
Викинги были отважны, но суеверны. Отар расчетливо и коварно сыграл на этом.
Отар развязал священный мешочек с рунирами – белыми палочками каждая со своим знаком, накрылся с головой плащом для общения с Вотаном.
Тревожное молчание нависло над людьми.
Отар отложил в мешочек руниры, грозящие бедой и опасностью, откинул плащ и бросил на камень те, что обещали удачу в пути и в конце его.
Кормчий поднял палочки и громогласно разъяснил их смысл:
– Несомненный. Успех. Ждет. Смелого!
– На борт!
Но вот через три дня и три ночи ветер и течение повлекли драккары на восток. Обогнули (первыми в мире) северный край земли фьордов и пошли на юг за бесчисленными стадами китов, моржей и тюленей. И через пять дней пришли к устью большой реки. Это была Северная Двина.
Драккары Отара прошли морем Баренца вдоль Мурманского берега и вошли в Белое море. Пришли, стало быть, на Русь.
И здесь Отара и его дружину ожидало самое бесславное, даже позорное приключение.
У ярла Отара было много побед: на дальних берегах и в дальних странах, над своими соотечественниками, над морями и океанами. И с полной уверенностью в очередной победе он ступил на богатые и мирные земли русичей.
Действия викингов по захвату земель и народов предварялись примитивной, но результативной разведкой – пытками первых схваченных местных обитателей. Получив таким образом нужные сведения, Отар разграбил и сжег несколько поселений простодушных биарминов. Узнал от пленников, что здешние земли и воды небывало богаты и щедры, и приступил было к их обычному опустошению. С одновременным наложением дани на напуганных небывалой напастью жителей.
Но не вышло веселое приключение. Викинги получили жестокий отпор собравших силы биарминов и новых поселенцев, породнившихся и подружившихся с ними – пришельцев с новгородских земель.
Новгородцы с одинаковым умельством работали плотницким и боевым топором, рогатиной на зверя и копьем на воина; биармины же владели древним тайным знанием отравлять стрелы неминуемым ядовитым зельем.
Потеряв едва ли не половину дружины, запалив погребальный костер, побежденные викинги спешным шагом рванулись к морю, теряя и теряя людей на этом пути, подгоняемые мечами и дубинами.
Стоя на носовой палубе драккара, уходящего в туманную даль Белого моря, глядя на потрясающих оружием непобежденных, Отар с невольным уважением промолвил:
– Они оказались сильнее меня.
Так и должно быть. Поморяне сражались плечом к плечу, друг за друга, за своих близких и за свою землю. Викинги бились, хоть и умело, каждый за себя, каждый для себя.
Тем не менее этот поход вестфольдинга Отара очень высоко значим в истории северного мореплавания. Он открыл путь из Норвегии в Белое море – по сути, это первый этап освоения Северо-Восточного прохода (из Атлантики в Тихий океан). Но об этом речь впереди.
Напомним только, что Отар, бродячий пират и купец, разбойничал еще долго. «Положил в мешок» немало городов Европы. А потом исчез на семь или восемь лет. Считается, что именно он первым пересек Атлантику и проводил «разведку» на берегах Америки. Если это так, то в рамках истории и географии это самое великое его приключение.
Добавим для полноты картины: викинг Отар не только открыл путь на восток – он распахнул туда двери своим соотечественникам, которые не столько торговали с нашими предками, сколько грабили и убивали их беспощадно и безжалостно.
920 год, устье Северной Двины. Явился с дружиной Эйрик Кровавая Секира – «убил множество народа, опустошил страну и взял несметные богатства». Соль, меха, шерсть, железо, бивни мамонтов и моржей, речной жемчуг – викинги ничем не гнушались, забирали у местных жителей даже домашние обиходы.
Сын Эйрика Гаральд Серый плащ также совершил долгое плавание в богатые земли (965 год) и разбойничал там по примеру отца. В исландских сагах изящно сказано: «блестящий меч свой окрасил в кровавый цвет».
И внук Эйрик (нач. XI в.) от деда в разбоях не отставал и в грабежах не уставал.
Какой-то викинг, Торер Собака (1026 г.), в устье Северной Двины начал с мирной торговли, а заменил ее грабежами. Кстати, излюбленная викингами тактика – выгодной торговлей провести глубокую разведку – где, что и сколько – и взять все это вооруженной рукой.
И долго еще навещали викинги богатейшие места на Беломорье, где «совершали великие дела, грабя и убивая».
Правда, в свое время получили достойный отпор, когда местные биармины объединились с пришлыми новгородцами. Жестко и убедительно надолго отбили охоту разбойничать.
Все эти плавания викингов отмечены еще и тем, что в горле Белого моря драккары на обратном пути, обремененные грузом добычи, задерживались сильным приливным течением. Тот же Торер Собака вынужденно ожидал смены бурного течения на отливное. В 1222 году дружинник норвежского короля Ивар с Залива, совершив очередные «великие дела», лишился корабля в горле Белого моря из-за сильного течения и водоворотов.
Нашим поморам стремительные приливно-отливные течения были хорошо известны, они их учитывали и приноравливались к ним, но тем не менее горло Белого моря до 1922 года именовалось «кладбищем кораблей». А затем специальная советская гидрографическая экспедиция составила атлас течений, который обезопасил навигацию в опасных местах Беломорья.
Робин Базза. Взор к небесам
Здесь будет вполне уместно нарушить хронологию нашего повествования рассказом об отважном плавании искателя приключений Робина Баззы, нашего современника.
Викинг Отар, как нам известно, прошел со своей дружиной на своих драккарах вдоль всего западного побережья будущей Норвегии, обогнул ее с севера и вошел в Белое море.
Робин Базза через тысячу с лишним лет прошел этим же путем на старенькой гребной лодке. Он не искал новых земель, не делал великих открытий. Он искал «одиночества, общения с природой, познания настоящей жизни». Путешествие ради приключений. Что ж, он полной мерой получил то, к чему стремился.
Драккары викингов, даже по нашим временам, вполне мореходные и надежные суда. Отработанные поколениями, воплотившие в своей конструкции вековой опыт и мастерство северных корабелов. Они ходили на веслах и под большим парусом. В далекой древности едва ли не первыми пересекали Атлантику. Были остойчивы под крутой волной и штормовым ветром, хорошо и легко управлялись.
Лодка, на которой прошел полярными морями Р. Базза, была малой копией древнего драккара (5,5 м). Те же «обоюдоострые» нос и корма, те же приемистые обводы, то же расчетливое соотношение длины и ширины. Но без мачты и паруса.
Строили их когда-то на Шетландских островах. Туда и отправился будущий викинг, чтобы заказать такую лодку. Однако на весь архипелаг нашелся только один мастер, да и тот имел заказы на годы вперед.
Лодка (семидесяти лет от роду) нашлась в сарае пожилого фермера, давно им позабытая. Была она изрядно потрачена гнилью и временем, с пробоинами в бортах и днище. Изрядно пришлось потратиться и на приведение ее в порядок. В такой порядок, чтобы лодка выдержала суровое плавание в суровых морях – в высоких северных широтах – и отвечала бы относительной безопасности плавания в них.
Робин закрепил вдоль бортов блоки пенопласта, чтобы увеличить остойчивость лодки и способность возвращения на ровный киль при опасном крене и опрокидывании. Поставил на днище три водонепроницаемые переборки, уложил на них настил – это было спальное место, а под ним – укладка продовольствия. Натянул поверху брезентовый тент небольшой высоты, около полуметра. Не очень удобная «рубка», не совсем комфортная, но ниже уже некуда, а выше нельзя – увеличится парусность.
Особое внимание – спасательному оборудованию: надувной плот, капковый спасательный жилет, аварийный радиопередатчик, сигнальные ракеты и фальшфейеры, водоотливная помпа. В носу установил тоненькую мачту, на топе которой закрепил отражатель для радаров встречных судов.
Подготовив лодку, Робин стал готовить самого себя. По полной программе: восьмимесячные тренировки, 500‐мильный пеший поход по Исландии, ежедневные пробежки с десятью килограммами груза за спиной, ежевечерние отжимания на руках, по 50 раз.
Р. Базза вышел в свой рейд из Леруика и взял курс на Норвегию. Это где-то двести миль. И, по сути, этот переход стал испытанием лодки и гребца.
Приключения начались сразу. Пенопластовые блоки для «самовосстановления» лодки оказались бесполезными. Да и ненужными: загруженные снаряжение и продовольствие надежно играли роль балластного киля. А люки в настиле безнадежно протекали. Пришлось все продукты расфасовывать в полиэтиленовые мешки; их получилось 300 штук.
Робин Базза перед выходом в море. 2015 г.
Приступ морской болезни. Такой жестокий, что Робин выбросил плавучий якорь и залег под тент.
Излечил его налетевший шторм. Опасность и тяжелый труд – лучшее средство от морской болезни. Трое суток подряд Робин бросал весла только для того, чтобы работать на помпе – волнение достигало восьми баллов, и лодку постоянно заливало. Трое суток он питался только шоколадом и бренди.
Когда волнение и ветер немного стихли, Робин бросил плавучий якорь и попытался уснуть. К счастью, не успел. Якорь оторвало, лодка стала бортом к волне. «Об этом страшно вспомнить… Я не раз обращал взор и мольбы к небесам».
Но все кончается. Или прерывается. В том числе и шторм. Робин на веслах, гребет непрерывно, по 12–17 часов. Нормально питается и получает от природы те впечатления, ради которых пришел к ней. «Великолепные закаты, окрашивающие небо сполохами малинового и пурпурного цвета». Полная тишина, лишь плеск весел. Полное одиночество, которого так ощутимо не хватает человеку в современном мире.
В конце второй недели плавания показались скалистые берега Норвегии. Вот уж, как говорится, веслом подать. Но путешествий без приключений не бывает. Северо-восточный шквал, вынеся лодку в открытое море, превратился в трехдневный шторм. Лодку понесло на юг, и Робин всерьез опасался, что ее выбросит на датский берег.
Он потерялся в море, шторм не давал возможности определиться. Оставалось терпеливо ждать.
К вечеру третьих суток Робин увидел вспышки света на горизонте: маяк на острове Утсира (Норвегия, к счастью).
Двенадцать часов он греб к острову, оставалось совсем до него немного, но не осталось уже сил. Робин бросил весла и уснул.
Следующим днем – еще 10 часов гребли, и уставшая лодка касается носом причала.
День отдыха, пополнение запасов пресной воды, замена весел, мелкий ремонт судна – и снова в море. Курс – на Нордкап, северную оконечность Норвегии.
Несколько дней ясной и тихой погоды. Робин, не бросая весел, любуется морем и скалистыми берегами. Лабиринт фьордов, шхер и рифов. Красиво, но неизбежно опасно даже в спокойные дни.
И вдруг пал на море непроницаемый туман – густое молоко, где не углядеть опасности. Робин заблудился. Трижды он чудом избегал столкновения с рифами. Туман поглощал звуки, и плеск волны о коварные скалы мог быть услышан только в последнее мгновенье от гибели.
Лишь к вечеру ветер развеял пелену тумана. Робин пристал к берегу и переночевал у костра. Отдыхая от ярких впечатлений «настоящей жизни».
…День за днем. Против волн, ветра, изнеможения. «Очень мерзну. Пальцы рук сводит от усталости, ноги ноют от неподвижности». Иногда, на пределе, бросает весла и сидит неподвижно, сгорбившись, без мыслей в голове и без чувств в сердце. «Тебе это надо?»
Выходит, что надо. И не каждый, кто подобное испытал, ответит на главный вопрос: «Зачем? Ради чего?» Человек многое не может объяснить. Даже то, что глубоко в себе.
Вблизи Полярного круга несколько изменил режим плавания. Предпочитал идти ночью. Во-первых, по ночам стихает северный бриз – основной противник. А кроме того, по ночам почему-то меньше каботажных судов; и они лучше заметны своими ходовыми огнями.
Пересек Полярный круг, скромно отметил это событие глотком бренди.
Все больше затрудняют плавание приливные и отливные течения. Порой из узкого фьорда стремительно выносится поток, словно мощная горная река. Отбрасывает лодку в открытое море, сбивает с генерального курса.
Усталость нарастает, копится в организме. Короткий, беспокойный и тревожный сон не дает восстановить убывающие силы.
Но море великолепно, скалы величественно и причудливо прекрасны под огромным северным небом. Мерно дышит волна, плавно колышет неспешно идущую лодку. И так же неспешно, чисто и просторно, думается среди неба и моря.
След на воде недолго держится, зато в памяти людей остается на века и тысячелетия. Сколько прошло здесь кораблей до него и сколько пройдет после. Страх перед неизвестным, трудности и опасности в пути, волны и ветер – это противники, но не преграды упорству и мужеству.
Плещет волна, играют солнечные лучи на белоснежных гребнях, тревожно кричат чайки. А нос лодки с шуршанием режет зеленую воду, за кормой растворяется во времени неверный след.
Совсем немного остается до цели: сколько-то тысяч гребков. И вовремя заметил Робин стремительно набегающий с севера шквал. По правому борту – неприступные скалы, там не укрыться, там вдребезги разобьет безжалостный прибой беспомощную лодку и не сжалится над моряком.
Небо и море на севере уже слились в единое черное марево, уже доносится угрожающий гул ветра и шум набегающего вала. В последние мгновения Робин разглядел узкую щель в монолите скал – крохотный фьорд.
Лодка скользнула туда, как мышка в норку. И пошла подальше от буйства моря в глубину скал.
Вовремя. Сзади послышался гулкий удар, и взлетела на невозможную высоту над скалами первая прибойная волна. Казалось, что под этими ударами не устоит каменный берег. «Взор к небесам».
Наверное, у каждого человека в жизни случается что-то яркое, что остается в его памяти до последних дней.
Кто-то написал хорошую книгу, кто-то нашел клад, кто-то сделал научное открытие, кто-то женился на богатой красавице, кто-то увидел северное сияние.
А кто-то три месяца сидел на веслах и прошел 1600 миль от Шетландских островов до мыса Нордкап. И это было самое яркое в жизни Робина Базза. Оно навсегда оставило мозоли на его ладонях и гордость в сердце.
Дальний путь не самый долгий…
Что может быть романтичнее наших представлений о великих морских путешествиях прежних далеких лет! Но как же иначе? Шаги в неведомое, загадки и тайны, непредсказуемые и неизбежные опасности, открытие новых путей, земель и народов, необычных явлений природы – новые взоры на нашу планету. Аромат и привкус отваги, авантюризма, мужества. Кристально чистые, бирюзовые днем и опаловые на закате, воды океана, по которому плывут под белоснежными парусами смелые люди с кристально чистыми помыслами и мечтами – а что там, за горизонтом, какие откроются чудеса в небывало сказочном мире?
Но не все так просто и мило. В этих великих плаваниях корысти, жестокости и коварства куда как больше чистой романтики. Правда, знающие люди уверяют, что, к примеру, великий Колумб тщательно скрывал свою истинную и искреннюю страсть к открытиям новых земель, маскировал ее прозаическим стяжательством, более понятным королям и торговцам. Да и не он один. Все-таки героические дела редко совершаются из-за денег. И в расчете на благодарность. Разве что в памяти потомства.
Колумб… Открыл Америку?
Конец XIV и начало XVI века. Эпоха великих географических открытий. Героическая, трагическая и весьма плодотворная. Ее начал Христофор Колумб, он же открыл и Америку.
«Америка – часть света, открытая Х. Колумбом и названная по имени А. Веспуччи». Который, кстати, тоже не знал, что это – Америка.
И кто только ее не открывал!
Древние берберы, арабы, египтяне, карфагеняне, кельты, валлийцы и финикийцы, шотландцы и ирландцы, рыцари-тамплиеры и викинги, даже инопланетяне (есть и такая версия). И все эти открытия сделаны за тысячи и более лет до Колумба. И, строго говоря, он открыл не Америку, а так называемую Вест-Индию, населенную индейцами.
Открывали Америку и после Колумба. Америго Веспуччи, Педро Алонсо Ниньо, Алонсо де Охеда, Висенте Яньес Пинсон, Родриго де Бастидас, Васко Нуньес де Бальбоа, Хуан де ла Коса, Гонсалу Коэлью. Да и Колумб, собственно говоря, открывал острова, архипелаги, а до побережья Южной Америки добрался только в третьем плавании. И, кстати говоря, есть сведения, что плыл он в Вест-Индию не вслепую, а имел какую-то старинную карту, сделанную задолго до него.
Словом, долгое время не было полной ясности в этом вопросе, и мир, наконец, решил пальму первенства оставить Колумбу. В общем-то, справедливо.
«Колумб Америку открыл!» Честь ему, хвала и слава. Однако сердитые люди говорят, что лучше бы он ее не открывал. В этом случае в свое время неоткрытие Америки оградило бы ее коренное население от ужасных бедствий, а в наши дни от жестоких амбиций и всемирного диктата.
Ну, это в какой-то степени спорно, но бесспорна слава Колумба как великого мореплавателя и первооткрывателя.
Он, как известно, пересекал Атлантический океан восемь раз (считая туда и обратно), и это во времена «скромных» каботажных плаваний в виду берегов.
Колумб открыл много островов и великих рек, обогатил Испанию, а за ней и всю Европу, землями, рабами, золотом, пряностями и другой достославной добычей. Главная из которых – познание, расширение кругозора.
Но, едва затихли споры о Колумбе как о первооткрывателе, начались прения о нем как о великой личности.
