Гуманитарный потенциал философии медицины и НФ-философии технологизированной медицины
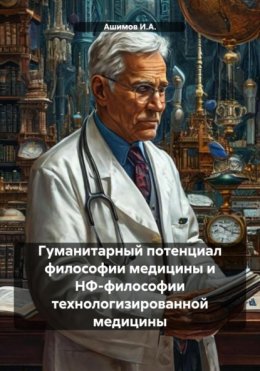
Введение
«Философию медицины» и «НФ-философию медицину, следует рассматривать не только как познавательно-образовательную систему, но и как гуманитарную технологию. Общеизвестно, XXI век характеризуется стремительным проникновением во все сферы жизнедеятельности человека нового технократического уклада, что может привести к нарушению сложившегося баланса между гуманитарной (далее – High-Hume) и технической технологией (далее – High-Tech). Как показывает история, их дисбаланс неизбежно приводит к кризису, трагедии, катастрофе. В особенности, это касается медицины – самой гуманизированной отрасли, где все построено на милосердии, сострадании, гуманизме: «все во имя жизни, здоровья и благополучия человека». Между тем, никто не оспорить тот факт, что современная медицина высокотехнологична, а следовательно, в ней, некогда монолитной и глубоко гуманизированной, так или иначе наметился раскол и появилась тенденция дегуманизации. Какова роль и значимость в такой ситуации высоких гуманитарных технологий в технологизированной медицине? «Человек – мера всех вещей» – говорил Платон. В этом аспекте, человечество считает, что весь научно-технико-технологический прогресс (НТ-ТП) ничто по сравнению с благополучием Человека. Согласно этой идее, каждый человек воспринимает и оценивает мир через призму своих собственных чувств, восприятий и опыта, и эти индивидуальные меры становятся основой для понимания и оценки всех вещей.
Известно, что А.Назаретян разработал модель техно-гуманитарного баланса, описывающую причинно-следственные связи между человеческой деятельностью, антропогенными кризисами, социальными катастрофами и социально-историческим прогрессом. На основе этой модели можно увидеть, что рост технологической мощи, с одной стороны, повышает внешнюю устойчивость общества, с другой – усиливает ощущение всемогущества и безнаказанности, которое в результате приводит общество к кризису. Возрастает социальное насилие, разрушается природная среда, и снижается внутренняя устойчивость общества. В условиях глобализма, технократии, постмодернизма, экстропии (биотехнологизация, цифровизация, киборгизация) возникает острая необходимость выстроить новый баланс между такими явлениями как «технологический императив», с одной стороны, и «принципом технологической предосторожностью», с другой стороны. Если технологический императив – это, когда технологическое развитие невозможно остановить – прогресс технологий неизбежен и необратим, поэтому остаётся только научиться с ними справляться, то применительно к медицине «технология предосторожности» – это полезная стратегия принятия решений, когда у врачей и пациентов нет доказательств относительно потенциальных результатов, связанных с различными вариантами выбора.
В некоторых западных странах общество уже пришло к пониманию того, что высокие технологии требуют не только серьезной социальной экспертизы, но и формирование High-Hume не столько по научному обоснованию и прогнозированию различных сценариев использования High-Tech, сколько разработать меры, позволяющие минимизировать возможные риски их распространения и внедрения. Безусловно, тема ответственности ученых за свои разработки крайне актуальна – в условиях повышения мировой конкурентоспособности. В этом контексте очевидна большая роль классических университетов, которые, согласно стратегий, готовит не узкого профессионала, а профессионала, способного видеть проблемы и находить системные способы ее решения в ситуации глобальной неопределенности и технократического прорыва. До недавней поры определенный техно-гуманитарный баланс в обществе существовал, пока такие социальные инфекции, как тотальная цифровизация, искусственный интеллект, автоматизация, кибернетизация, нейросеть, биотехнологизация, киборгизация, алгоритмизация, аватаризация, виртуализация распространились по всему миру широчайшим фронтом, представляя собой социальную пандемию технократического характера. О такой тенденции и перспективе мы писали в трехтомнике «Философия социальных инфекций» (2024). В нем говорится о том, что искусственный интеллект уже прошел тест Тюринга, что свидетельствует о том, что нейросеть приравнялся по своим возможностям и функциям человеческому головному мозгу. В этом аспекте, шанс сохранить в себе человеческое и не превратиться в роботизированное общество у человечества, к сожалению, тает на глазах. До сих пор не было четкой концепции или теории, отражающих «технологию предосторожности» в отношении искусственного интеллекта и нейросети. Разработать их уже поздно. Но ведь есть и другие, не менее опасные по прогнозным последствиям High-Tech, в отношении которых человечеству следует разработать ту самую «технологию предосторожности» по принципу «Пока не поздно!».
Естественно, обоснование High-Hume в медицинской сфере требует в первую очередь разработки их теоретико-методологической основы, то есть изучения вопросов о сущности гуманитарного знания, об идеалах рациональности и их применимости в этой сфере, о научных и ценностных установках гуманитаристики. Именной этой практикой – практикой High-Hume в медицине мы и занимаемся на протяжении ряда лет. Мы исходили из того, что без разработки теоретико-методологической основы еще более основательной гуманитаризации медицины невозможно решить, какие новые гуманитарные знания, идеи, проекты, семиотические системы, личностные характеристики, духовные, ментальные, общественные ценности необходимо осмыслить с точки зрения возможности их интеграции в медицинской сфере, как осуществить их перевод на уровень технологий. Это возможно лишь на междисциплинарном уровне, путем выявления методологического потенциала в новых философских, социологических, психологических концепциях, наконец, культурологических идеях. Важно, чтобы медицина обогатилась бы интерпретированными идеями и понятиями современного не только философского, культурологического значения как становление человека в культуре, культуротворческий процесс, обмен ценностями и смыслами и многими другими, но и технологическими значения: применение высоких High-Tech (роботизация, киборгизация, информатизация). Р.М.Фрумкин (1999) писал: «в отличие от представителей точных и естественных наук, гуманитарии не часто обременяют себя размышлениями о методах и процедурах, которыми сами они постоянно пользуются. Исследователи не склонны задавать себе вопросы о том, какие положения принимаются как само собой разумеющиеся, а какие остаются в области сильных, а то и сомнительных допущений, какие познавательные установки доминируют, каковы актуальные ценностные ориентации и что происходит при их смене».
Разрабатывая соответствующие High-Hume в медицинской сфере, мы в той или иной мере выступаем некими конвергентами и интерпретаторами стратегий гуманитария, разнообразных социально-культурных феноменов, важных для гуманитаризации этой области знания и практики. Для нас было важным разработать определенную систему популяризации, затем концептуализации и, наконец, философизации новых знаний, понятий и феноменов. Такая система под называнием «Системно-ответственная популяризация, концептуализация и философизация знаний» (2013) нами разработана, используется и пропагандируется в течение ряда лет. Этот алгоритм являются объединяющими для интерпретации гуманитарных систем и процессов, для гуманитарных практик, для тех рациональных действий, которые отвечают смыслу High-Hume в медицине. В соответствующей главе наша High-Hume будет описана и разумеется, она важна не сама по себе, а как теоретическое основа овладения гуманитарными технологиями в медицинском приложении. Безусловно, в сфере медицины и здравоохранения без основательной гуманитарной подготовки невозможно освоить гуманитарную деятельность, гуманитарные практики и High-Hume. Важно отметить, что процесс приобщения к гуманитарным технологиям у соответствующих специалистов должны обязательно обрести форму совершенного «языкового существования», то есть сопровождаться технологиями говорения, технологиями диалога, речевого и невербального взаимодействия, технологиями работы с различными текстами (интерпретация, создание). Речь идет об овладении умением проектировать и анализировать речевые ситуации, быстро и точно интерпретировать речь собеседника, оппонента. Наконец, High-Hume должны быть поддержаны хорошей гуманитарной образованностью, психологической тонкостью и компетентностью. На наш взгляд, адекватная современности научно-мировоззренческая культура должна базироваться на адекватной научно-образовательной стратегии, которая, в свою очередь, должна основываться на парадигмальности, диалектичности, алгоритмичности, диалогичности, полемичности, последовательно-поэтапности и системности пополнения знаний индивида. В связи с этим, следует упомянуть, что в наших книгах «Научное открытие: предметизация, проблематизация, презентация» (2024), «Теория Ашимова» (2022), «Теория формирования научно-мировоззренческой культуры: анализ, синтез, комментарии» (2023) изложена инклюзивная онлайн-технология пополнения уровневого багажа знаний через принцип последовательно-поэтапного «вопрос-ответа». Нами выполнен просветительский проект с оформлением специального учения о Круге, сущность которого изложена в монографии «Итератизм» (2025). В свое время, нами была выдвинута и утверждена научная идея «Триадный синтез научно-мировоззренческой культуры индивида» (РФ, Свидетельство №25-I, регистрационный №649 от 28 апреля 2017 г.), а затем сделано научное открытие «Закономерность формирования и изменение состояния научно-мировоззренческой культуры индивида (Теория Ашимова)» (РФ, Диплом №67-S, регистрационный №656 от 9 января 2018 г.). Основные положения этой теории легли в основу новых High-Hume.
Исходя из собственного опыта, мы считаем, что один из самых сложных вопросов в High-Hume – это определение степени свободы (вариативности) действий, соотношения предопределенности и непредсказуемости, воспроизведения и творчества – в противовес жёсткости любого технологического процесса. Все эти вопросы активизируют мысли человека, побуждают его проявлять дисциплину ума, большую, нежели это свойственно гуманитариям, а также строгость рассуждений. Естественно, эти мысли и настроения нарушают устойчивость профессионального сознания, вызывают желание понять иное, то есть нарушают привычный ход мыслей, вызывают их «разлом», порождают новый субъективный профессиональный опыт, новое личностное знание, вызывают глубокую рефлексию, заставляя специалиста мучиться вопросами, которых раньше не было. Работа над проектом создания соответствующих High-Hume, нами, во-первых, освещены сущность, задачи соответствующих High-Hume; во-вторых, отражена целесообразность их применения в оценке технологий; в-третьих, выполнена оценка их в реализации «принципа предосторожности»; в-четвертых, возможности их для сохранения устойчивого баланса между High-Hume и High-Tech.
В данной книге «Философия медицины и НФ-философия технологизированной медицины приводятся общие сведения о High-Hume, а также излагается сущность авторской High-Hume, а также излагаются сущность, во-первых, научной идеи «Триадный синтез научно-мировоззренческой культуры индивида», а, во-вторых, научного открытия «Закономерность формирования и изменение состояния научно-мировоззренческой культуры индивида (Теория Ашимова)». Основные положения указанных достижений служат теоретической базой для разработки ряда High-Hume. В книге делается акцент на роль и значимость «Философии медицины» и «НФ-философии» медицины не только как познавательные системы, но и как гуманитарных технологии.
Глава I
Общие сведения о гуманитарных технологиях.
Системно-ответственная популяризация,
концептуализация, философизация знаний
как гуманитарная технология
Сегодняшний мир – особый, глубоко технологизированный мир. Сохраняется тенденция перевеса High-Tech над High-Hume. В этих обстоятельствах, как считает Б.Г.Юдин, традиционное гуманитарное знание должно быть четко сориентировано на глубокое понимание социального и человеческого мира, а выражениями его результативности должны быть, прежде всего, интерпретации и переинтерпретации этого мира, постольку, поскольку эти элементы High-Hume, во-первых, призваны переформатировать сознание человека, а, во-вторых, изменять общественное сознание в соответствии с изменениями внешнего мира. Интерпретации, как элемент High-Hume, получившие признание, могут затем становиться основаниями, определяющими человеческие действия. В таком их функционировании уже заложены элементы технологичности гуманитарного знания – в той мере, в какой оно используется для изменения (социальной и человеческой) реальности. По мнению, С.Э.Зуева, High-Hume – это особая технология, которая помогает сделать такое знание человекосоразмерным. Что это означает? Означает то, что отдельный человек или отдельная группа людей не просто знает что-то о мире, а умеет превратить это знание в виды и формы деятельности, которыми они, люди, могут сами управлять. При этом акцентируется важность культуры в проблеме гуманитаризации, так как она представляет собой систему впитанных ценностей или взглядов на мир, способствующая формированию культа человекосоразмерности всех процессов.
Данная глава отражает вводные сведения о High-Hume и общие положения авторских и инновационных High-Hume. Начнем с определений. А.Г.Шмелев (2007) приводит следующие определения понятия «гуманитарные технологии»: во-первых, технологии социальной инженерии или инструменты влияния, мягкого взаимного воздействия институтов, корпораций и отдельных лиц друг на друга; во-вторых, совокупность технологий, направленных на создание, образование, обработку либо изменение правил и рамок сообщения и взаимоотношения людей согласно вызовам внешней среды; в-третьих, технологии по внедрению в массовое сознание под видом объективной информации желательного для определенных групп общества содержания; в-четвертых, набор тщательно выверенных и научно обоснованных приемов и специальных техник непрямого воздействия гуманитарных технологов на общество. Таким образом, данное понятие отражает, во-первых, способ изменения сознания человека, а, во-вторых, способ управления социальным поведением на этой основе. Причем, они тем более эффективны, чем сильнее могут воздействовать на болевые точки индивидуального и общественного сознания. По мнению автора, литература, социология, психология, методология и философия находятся ближе к познанию объективных закономерностей функционирования человека в обществе. В рамках такого понимания, качество продуктов, способов, услуг, доведенных до уровня технологии, это такое качество, которое не зависят от субъективных пристрастий, установок, убеждений, предпочтений исполнителей. В этом аспекте, High-Hume выполняют важную функцию объективного переформатирования сознания людей, ибо, объективность является важнейшим условием справедливости в оценке человека и в принятии на основе этой оценки других решений, касающихся его профессиональной судьбы, образовательной карьеры, здоровья и пр.
Значение High-Hume растет и это связано с тем, что ныне человечество переживает эпоху высоких технологий, девиз которой: «Да Здравствует Их Величество Наука – Техника – Технология!». Очевидно то, что мир все дальше отходит именно от человекоразмерности. High-Tech покорили мир, сделав ощущение «я» иллюзорным, виртуальным, стирая нашу идентичность, что, по всей вероятности, приведет, во-первых, к кардинальной трансформации сознания человека и общества, а, во-вторых, возможно, даже к порождению новых типов людей будущего. Даже на вскидку можно мыслить о том, что население Земли в будущем будут составлять и представлять «постчеловек», «трансчеловек», «неочеловек» с новым Сознанием, порожденными «Их Величеством Наука – Техника – Технологии». Итак, наступило время гипертехнологической и циничной культуры постмодерна, требующая переформатирования сознания людей уже сегодня. К сожалению, большинство ныне живущих людей даже не помышляют о последствиях новых и сверхновых технологий. А ведь на горизонте уже вырисовывается громадный вопросительный знак. Причем, очертания глобального вопроса – выживет ли человеческая цивилизация? Какова ее дальнейшая судьба?
В указанном глобальном процессе, особую роль играет коммуникационные технологии. Тотальная цифровизация, безусловно, повлекла за собой появление гуманитарного инструментария, так как самый эффективный способ воздействия на целевую группу в целях преотвращения негативных последствий High-Tech является все же непосредственное включение человека в процесс принятия решения. С.М.Елисеев указывает на то, что High-Hume решают, с одной стороны, проблему самореализации человека и группы и, с другой стороны, – проблему развития коммуникации в рамках коммуникативной стратегии. В контексте High-Hume человек выступает как своеобразная знаковая система, высокоинформативная и открытая для контактов, что облегчает актуализацию индивидуально-личностных смыслов, выступающих в этом случае в качестве преобразующего и преобразуемого начала. Автор считает, что «гуманитарные технологии представляют совокупность методов, применяемых в гуманитарных науках, включая: системы методов изучения человека и способов влияния на его сознание и поведение; системы методов изучения социума; системы методов извлечения информации и формирования знаний; системы методов формирования профессиональных и социальных компетенций». А.П.Валицкая пишет: «если иметь в виду, что мы имеем дело не с самим процессом, а с его теоретическими моделями, с материалом принципиально «вторичным», с конструкциями сознания, в этом смысле можно строить модели гуманитарных процессов, более или менее адекватно отражающих их структуру и содержание. При этом исследователь-гуманитарий понимает, что модель и процесс при совмещении принципиально не совпадают, что всегда остается «люфт» изменчивости, коль скоро движущийся процесс порождает явления, не учтенные теоретической моделью, по необходимости – статичной».
Итак, в мире быстрыми темпами развивается процесс «мегамашинизации» цивилизации, то есть High-Tech: цифровизация, кибернетизация, биотехнологизация, аватаризация, виртуализация, киборгизация и пр. Под их влиянием в чреве гностической научной фантастики рождаются невероятные и парадоксальные сюжеты. Причем, по контекстам «НФ-философии», большей части с темными предчувствиями фиаско высоких технологий, а также предощущениями развития технологического апокалипсиса в виде деперсонализации, дереализации, деэтизация, деморализация и пр. Применительно к медицинской тематике, которая нам близка, возникают вопросы: к чему приведет бесконтрольная High-Tech в виде: во-первых, нейротрансплантации с пересотворением человека путем пересадки головного мозга; во-вторых, нейропротезирования путем создания интерфейса естественного и искусственного интеллекта; в-третьих, внедрения сеттлеретики – переноса сознания на электронные носители; в-четвертых, роботизации и киборгизации конкретной сферы деятельности, скажем хирургии; в-пятых, аватаризации – создание вируализированной личности на основе соединения «мозга в контейнере» и нейросети; в-шестых, клонирования человека путем генной инженерии и пр.? Между тем, к сожалению, относительно мало ученых, философов и фантастов, которые, во-первых, могут в силу своего уровня познания, мировоззрения, моральной ответственности произвольно перескакивать через дисциплинарные и теоретические границы в целях концептуальной проработки глобальных технологических проблем и обобщать мысли и суждения в русле «технологической предосторожности», а, во-вторых, могут в той или иной степени указать на «правильные» направления и предположить парадоксальные, жёсткие и непривычные проекты их разрешения в целях создания необходимой подпорки для выживания человеческой цивилизации.
Известно, что High-Hume характеризуются ресурсоемкостью. Под ресурсом в них понимается наличие: во-первых, идей, концептов и пр. и их перевод в разряд деятельностных целей и задач, программ и проектов; во-вторых, людей, способных разрабатывать и реализовывать развивающие проекты и программы; в-третьих, финансов и требуемой материальной базы. Нужно осознавать, что High-Hume проектируются с использованием комплексного знания: гуманитарного и естественнонаучного. Следовательно, нужно исходить из того, что High-Hume – это система научно-гуманитарных знаний, использование которых позволяет реализовать конкретный человековедческий замысел при помощи определенных условий, средств и способов, которые определяют в технологии все остальное: какие нужны научно-гуманитарные знания, условия, средства, способы процесса реализации замысла. Информация в таких технологиях рассматривается как отдельный элемент, который в технологии выполняет посредническую функцию, позволяющую не только оперативно взаимодействовать между всеми субъектами технологического процесса, его активными участниками, но и в значительной степени «сжимать» и «технологизировать» время, работая на базе технологии цифровизации и кибернетизации всех процессов в режиме реального времени. Индифферентность к содержанию является одним из главных признаков технологии.
Научно-фантастическую литературу люди склонны оценивать, как вид словесности, главным образом, с точки зрения, во-первых, популяризации науки, новых знаний и технологий, а во-вторых, массовой культуры, её категорий и форматов. Между тем, следует оценивать их и с точки зрения философии. В этом аспекте, общей задачей данной книги «Гуманитарные технологии в технологизированной медицине является обоснование новых High-Hume. На наш взгляд, «Философия медицины» и «НФ-философия медицины» являются не только познавательно-образовательными системами, но и как High-Hume. В данной книге мы попытались выстроить логическое обоснование собственной концепции на этот счет. В свое время нами была разработана система (И.А.Ашимов. Система. – Б., 2014): «Системно-ответственная популяризация, концептуализация и философизация знаний». Причем, используя научный, философский, социально-психологический и литературный инструментарий, обозначив своеобразие ряда авторских научно-фантастических романов, которых следует рассматривать и как философские произведения. Моему (Ашимов И.А.) перу принадлежат, во-первых, серия научно-фантастических романа «Пересотворить человека» (2012), «Биовзлом» (2015), «Фиаско» (2015), «Биокомпьютер» (2019), «Клон дервиша» (2016), «Аватар» (2023), а, во-вторых, серия социально-психологических романов «Тегерек» (2014), «Поиск истины» (2023), «Грани отчаяния» (2014), «Проклятье Круга Зла» (2022), «Нулевой пациент» (2023), «Разворот времени» (2025), «Вперед в прошлое» (2025). Нужно отметить, что указанные выше научно-фантастические и социально-философские романы тематически неоднородны с литературоведческой точки зрения, но однородны с позиции философского научного труда. Потому, отнести их к массовой литературе мешает то, что их читателя массовым не назовёшь, ибо, во-первых, понять философские допущения в вышеприведенных научно-фанастических и социально-философских трудах, а, во-вторых, результаты их осмысления и обобщения с позиции “Философии медицины” и «НФ-философии» поймёт и оценит не каждый, так как состоят из множества компактной, однородной массы философских текстов.
Следует отметить, что данная «компактная масса» при более глубоком рассмотрении не так уж однородна – как по глубине философской интерпретации и комментариев текста, так и по степени научности. Границы научно-фантастических и, так называемых социально-психологических романов, во многом условны, но различимы. Если первая группа романов (научно-фантастические) можно определить, как «условный цикл романов «философской фантастики», то вторую группу романов (социально-философские) можно расценить как откровенную и сознательную «социально-психологическую провокацию». Однозначно, использование романов, как первой, так и второй серии в качестве пропаганды определённых научных, философских, социально-психологических идей и взглядов автора, касающихся злободневных и сверхактуальных проблем, можно считать намеренно-провокационными и, по сути, представляют собой новую форму концентрации новых философских идей, изъятых из контента научной фантастики, а в целом новую форму High-Hume. В своих научно-художественных сочинениях мы пытались заострить внимание читателей на пересечение границы не только между фантастикой и реальностью, но и между реальностью и виртуальной реальностью. Там, где ещё не кончилась реальность, но уже началась условность, читателем ощущается странность наступающего времени (роман «Аватар»). Позволяя себе некий максимум свободы в воображении, мне (Ашимов И.А.) пришлось выстраивать сюжет из того, чему только предстоит произойти и на изображение чего в обществе пока наложены строгие табу. Речь идет о клонировании человека, генной модификации человека, создания нового Сознания с помощью интерфейса человека и искусственного интеллекта, деперсонализации хирурга в условиях роботохирургии и пр.
На наш взгляд, вышеперечисленные книги можно отнести к когистике (от cogito – мыслить), указывая на то, что их основа – не умозрение и утопия, а научный прогноз тенденций той или иной технологии будущего, так как в качестве «логического и паралогического типов фантастического текста», так как в них художественно обыгрываются разнообразные научно-технологические темы. В рамках серии научно-фантастических и социально-философских романов, на мой взгляд, созрели относительно однотипные темы: во-первых, техногнозис сознания, мозга, нейросети; во-вторых, трансфера сознания как в форме пересадки головного мозга, так и на искусственный носитель; в-третьих, переформатирования сознания за счет интенсивной и целевой High-Hume; в-четвертых, нового сознания путем «скрещивания» естественного и искусственного интеллекта. Мною (Ашимов И.А.) написаны ряд монографий: «Контуры философии предупреждения человечеству» (2025), «Контуры философии когнитивных искажений сознания и реальности» (2025), в которых изложены перипетии осознавания не только сути «неосознавания происходящего», но и глобальных угроз человечеству. С моей стороны это была попытка выявить и осознать глубинные механизмы и факторы неосознавания реально протекающих явлений и процессов. Однако, главным и сквозным для всех книг (научных, научно-художественных) является «прогноз-предостережение». Такая композиция выбрана намеренно, желая последовательно показать этапы приближения новых угроз и вызовов человечеству, тем самым помогая на основе авторских и инновационных High-Hume осознать сингулярность нашего мира, подготавливая читателя к грядущим глобальным изменениям, связанных как с глобальной технологизацией мира, так и кардинальной биотрансформацией природы самого человека.
Хотелось бы особо подчеркнуть важность нашего (Ашимов И.А., Сагымбаев М.А.) научного открытия «Закономерность формирования и изменение состояния научно-мировоззренческой культуры индивида (Теория Ашимова)» (РФ, Диплом №67-S, регистрационный №656 от 9 января 2018 г.), формула которого звучит следующим образом: «Теоретически установлена неизвестная ранее закономерность постепенного формирования и устойчивого изменения состояния научно-мировоззренческой культуры индивида, заключающейся в том, что нынешнее состояние научно-мировоззренческой культуры зависит от стратегий постнеклассической научной рациональности, характера диалектической взаимосвязи и динамической трехфазности таких основных компонентов научно-познавательной стратегии, как «популяризация науки», «концептуализация науки», «философизация науки», определяющих адекватность наращивания знания и благоприятность фона науки, а также от рефлексивно-рекурсивной процессуальности и диалогичности познания, определяющих целостность научно-познавательной стратегии, составляющего основу и сущность научной теории формирования и циклического развития современной научно-мировоззренческой культуры». Из изложенного становится понятным, акцент нами сделан создание универсального «рецепта» в деле осмысления всего негативного, опасного, включая и High-Tech. В нем раскрыта логика объективно-мыслительного процесса установления закономерности формирования и развития современной «научно-мировоззренческой культуры» («Н-МК»), обозначаемая, как динамически и циклически развивающееся система научных взглядов, убеждений, ценностей и идеалов индивида, определяющая направленность его деятельности в свете постнеклассической науки («П-НН») и через оптимизацией «научно-познавательной стратегии» («Н-ПС»). Открытие выполнено по классической схеме: «от научной идеи к научному открытию через научную гипотезу» на принципах поэтапно-последовательной верификации «от философского факта к контексту открытия через контекст обоснования» в рамках фундаментального закона «От частного к общему, через особенное».
С учетом того, что данная глава является вводным и для остальных книг трилогии, находим нужным вкратце отразить сущность как научной идеи, так и научного открытия. Итак, в рамках «Контекста обоснования» вначале была выдвинута и утверждена научная идея «Триадный синтез научно-мировоззренческой культуры индивида» (РФ, Свидетельство №25-I, регистрационный №649 от 28 апреля 2017 г.), формула которой звучит так: «Теоретически обосновано, что системно-ответственное повышении уровня научно-мировоззренческой культуры индивида на основе динамической трёхфазности основных элементов триады научно-познавательного компонента (популяризация науки, концептуализация науки, философизация науки), определяет сущность рефлексивно-рекурсивной процессуальности и диалогичности формирования и циклического развития научно-мировоззренческой культуры («триадный синтез научно-мировоззренческой культуры индивида»). Согласно нашей научной идеи, основными компонентами формирования и развития «Н-МК» являются триада процессных явлений во взаимосвязи: «популяризации знаний» («А»), «концептуализации знаний» («В»), а также «философизации знаний» («С»). Системная иерархия и траектория движения парадигм «Н-МК» и «П-НН» условно обозначены: «А» → «В» → «С»; «Х» → «Y» → «Z» («Х» – «проблематизация знаний»; «Y» – «синкретизация знаний»; «Z» – «телеономизация знаний»). Систематизированые триады (n-122), выступающие в качестве семантического конфигуранта, способствуют воссозданию иерархии Аn→Вn→Сn или Хn→Yn→Zn.
На первом этапе нами доказано структурно-смысловое тождество контекста предикатов контексту соответствующих парадигм («А» ≡А; «В» ≡В; «С» ≡С; «Х» ≡Х; «Y» ≡Y; «Z» ≡Z), а также одной парадигмы контексту другой парадигмы («А» ≡ «Х»; «В» ≡ «Y»; «С» ≡ «Z»). Использованы синкретичная и линейная формы изображения триад: 1) «А» + «В» + «С» и «А» → «В» → «С»; 2) «Х» + «Y» + «Z» и «Х» → «Y» → «Z». Триады, как конструкты, как впрочем применение технологий унификации доказательного текста, характерные для естественных наук, во многом облегчают фиксацию содержания и обсуждение объектной неполноты, полноты, изменяемости, развиваемости, переходимости к иным объектам, соотнесенности со средой, выявления границ обнаруженного. Траектория движения триад «А», «В», «С» и «Х», «Y», «Z» в совокупности отражают объективность обобщения содержаний соответствующих триад предикатов. При этом высказывания, как субъективно-предикатное строение общепринятых суждений, обобщенных нами в виде триад (со сквозной нумерацией!), условно обозначены так: Аn,Вn,Сn и Хn,Yn,Zn.
Сущность «научной идеи» заключается в том, что научно обоснована концепция повышения уровня «Н-МК» на основе закономерных взаимосвязей элементов триады «А», «В», «С», которые предполагает отправную философско-категориальную сетку, в которой на каждом уровне или этапе («А», «В», «С») осуществляется перенос моделей знания из менее развитого в более развитое, в конечном итоге, определяющий процесс «приращения» новых знаний. При этом сохраняется прямолинейное движение от «А» к «С» через «В». На базе «научной идеи» была выдвинута «научная гипотеза», сущность которой заключалась в том, что «С» является смыслоформирующим, то есть основополагающим компонентом формирования и развития «Н-МК». «С» означает выход на самый высокий уровень абстракции, обеспечивающий идеальную форму репрезентации нового знания в сознании индивида, когда абстрактные объекты, транслированные из одной системы знаний, соединяются с новой структурой другой системы знаний, а в результате такого соединения формируется уже аналоговая модель теории, на первых порах гипотетическая, требующая своего конструктивного обоснования. Так была составлена структурно-функциональная модель взаимосвязи триады компонентов «Н-МК».
Согласно «Контекста открытия» нами было теоретически обоснованы ряд новых научных принципов, составляющих основу «научной теории», отражающей закономерность формирования и развития современной «Н-МК»: 1) Принцип диалектической взаимосвязи идеализированных объектов «научной теории» («П-НН», «Н-ПС», «Н-МК»), сущность которого в рамках парадигмального подхода состоит в том, что смена научных парадигм, вызванная «П-НН» сопровождается сменой «Н-ПС», а в свою очередь такая смена отражается на контекстах «Н-МК»; 2) Принцип динамической трёхфазности основных компонентов «П-НН» и «Н-МК» («А», «В», «С» и «Х», «Y», «Z»), сущность которого в рамках процессного подхода состоит в том, что выявляется, как тождество между соответствующими парадигмами («А» ≡ «Х», «В» ≡ «Y», «С» ≡ «Z»), так и тождество в траектории их движения («А» → «В» → «С» и «Х» → «Y» → «Z») в сторону полноты и целостности «Н-МК»; 3) Принцип процессуальности, рефлексивности и диалогичности формирования «Н-МК» в условиях «П-НН», сущность которого в рамках синергетического подхода состоит в том, что выявляется, как тождественный синергизм соответствующих парадигм («А» + «В» + «С» и «Х» + «Y» + «Z»), так и тождественная их иерархия («А» → «В» ↑ «С» и «Х» → «Y» ↑ «Z»); 4) Принцип цикличности развития «Н-МК», сущность которого в рамках рекурсивного подхода состоит в том, что, выявляется внутренний и внешний рекурсивные циклы соответствующих парадигм («А» ₪ «В» ₪ «С»; «Х» ₪ «Y» ₪ «Z»), отражающиеся на качестве «Н-МК».
Итак, научное открытие – это раскрытие логики объективно-мыслительного процесса установления закономерности формирования и развития современной «Н-МК». Нами выявлены следующие механизмы взаимосвязи основных компонентов («А», «В», «С» и «Х», «Y», «Z»): 1) В единой научно-познавательной структуре элементы триады «А», «В», «С» и «Х», «Y», «Z», как, впрочем, таковые триады их предикатов Аn Вn Сn, Хn,Yn,Zn, эффективно взаимодействуют друг с другом, формируя, в конечном итоге, «Н-ПС», определяющую инкорпорацию нового знания в контекст «Н-МК»; 2) В каждом случае в контекстах триад Аn,Вn,Сn и Хn,Yn,Zn есть общие признаки, соответствующие контексту элементов триады «А», «В», «С» и «Х», «Y», «Z». Причем, каждая триада Аn,Вn,Сn и Хn,Yn,Zn может быть эксплицирована, как и триады «А», «В», «С», «Х», «Y», «Z» по схемам: Аn→Вn→Сn или Аn+Вn+Сn; 3) Любая флуктуация элементов триады «А»,»В»,»С» отражается на силе связи между ними и, в конечном итоге, на контексте «Н-МК». Причем, в свою очередь, контекст новой «Н-МК» по типу обратной связи влияет на контексты элементов «А», «В», «С». В этом случае, мы имеем триаду, которая развивается по спирали; 4) Силы триады, взаимодействуя друг с другом, по очереди проходят через цикл нестабильности, стремясь с каждым циклом умножить качество «Н-МК». Причем, при условии, когда все элементы триады («А» → «В» → «С»; «Х» → «Y» → «Z») усиливают друг друга, возникает положительная обратная связь, укрепляющая систему в целом.
Механизмы взаимосвязи: 1) Эмпирическое содержание («А») постепенно ассимилируется, осмысливается и элиминируется в теоретическое содержание («В»). Этот синтез приведет к созданию нового типа теоретического обобщения («С»); 2) Если в «А» какое-либо событие приобретает черты проблемной ситуации, требующего изучения и осмысления, то в «В» тот или иной факт, как фрагмент объективной реальности подлежит категоризации и концептуализации; 3) На этапе «С» происходит репрезентация в форме философского обобщения. «С» требует удержания в идеальном плане несоизмеримо большего объема знаний. Таким образом, в реальном теоретическом знании эмпирия представляет собой результат «вписывания» тех или иных фактов в образ действительности («А»). Это описательный уровень. «В» представляет собой научно-теоретический уровень, а «С» – есть мировоззренческий уровень. В целом, познавательная деятельность – это сложная, многоуровневая, многослойная система, развернутая в глубину. Движение внутри известной парадигмы – это уровень «А» и «В», тогда как «С» – есть выход за пределы этих парадигм, а это и есть расширение научно-познавательных горизонтов. При этом «А» – есть исходные контуры этого расширения. Открытость концепции «Н-МК» по отношению к своим исходным основаниям, обусловленными содержанием основных ее компонентов (триада «А», «В», «С») и есть проявление принципа процессуальности и диалогичности. Речь идет о прямой причинной обусловленности «Н-МК» от триады «А», «В», «С». В указанном аспекте, функция триады «А», «В», «С» – это установка на «раскодирование», «распредмечивание» знания. Внутренние закономерности развития триады «А», «В», «С» «работают» на их внешние задачи и функции как ведущие компоненты «Н-МК». В свою очередь «Н-МК» – это «вращенность» научного знания в определенный социокультурный и социально-исторический контексты.
Важно то, что лишь на уровне «С» предполагается возможность серьезного пересмотра содержания знаний. Именно на этом уровне обобщенные итоги отдельных фрагментов научного знания («А», «В») выкристаллизируются в философские категории, понятийные схемы большей степени общности («С»), выступают как нечто новая мотивация для смены модели «Н-МК». То есть они выступают в качестве некоей «априорной структуры» «Н-МК». С этого момента вся «Н-ПС» становится уже «апостериорным» результатом научно-познавательной деятельности. Вот здесь возникают основания для разработки новой «Н-ПС», взамен старой, изжившей. Данное утверждение является производным в «научной теории». Если на уровнях «А» и «В» имеет место рост знания без существенного изменения оснований науки, то на уровне «С» имеет место рост знания, связанный с перестройкой оснований науки. Конечным итогом индустрии триады «А», «В», «С» является формирование и развитие «Н-МК». Они детерминируют «Н-МК». Это очередное производное утверждение. «Н-ПС», как система, основанная на закономерностях взаимосвязи триады «А», «В», «С» представляет собой воплощение рекурсивного принципа, потому что она направляет рефлексию назад, на повторение и осмысление познанного, на движение мысли вглубь себя в поисках смысла, её самовоспроизведение и усложнение благодаря одновременному существованию единого во многом и многого в едином. Следовательно, «Н-МК» является динамичным из-за того, что знания у индивида постоянно приобретаются, обновляются, трансформируются. «Н-МК» развивается на рубеже слияния сознаний (диалога) индивида, как автора и интерпретатора, в результате которого происходит рождение нового смысла, способствующего формированию и развитию «Н-МК».
Рекурсия познания, как поиск и уточнение смыслов, представляет собой как особая мировоззренческая тенденция с характерным для него процессом изменения самой себя благодаря повторению/возврату и движению вглубь себя. Это ведёт не только к усложнению системы, сколько на повышение эффективности познания, основанной на рекурсивной форме движения. Итак, рекурсия – это дополнительное вхождение в приобретенное знание с тем, чтобы путем сознательного убеждения в истинности приобретенных знаний на основе общезначимых для науки норм и критериев формировать основания для «Н-МК». В целом, сущность «научной теории» заключается в том, что без знаний уровня «А» и «В», не может возникнуть знание уровня «С». «С» вырастает из знания «А» + «В». «С» отличается более глубоким смыслом, а это, между тем, более оптимальное решение возникших ситуаций. Именно такое решение инкорпорируется в «Н-МК». В рамках принципа рекурсии, стрелка, указывающая обратную связь указывает на существование причинно-следственной связи предикатов-суждений (Аn,Вn,Сn), обусловленные психологической неудовлетворенностью индивида полученными знаниями, его уровнем эмпирического обобщения («А»), теоретического исследования («В»), философского осмысления («С»). В свою очередь «Н-МК» влияет на содержание каждого предикат-суждения (триада Аn,Вn,Сn). В конечном итоге такое влияние отражается на конфигурации триады «А», «В», «С». Так начинается новый познавательный цикл и формируется новая «Н-МК». Считаем важным и то, что имеется вторая сущность «научной теории» – это «технологическая предосторожность». Смысл заключается в том, что в настоящее время ценностная, системно-ответственная популяризация («А»), концептуализация («В») и философизация («С») науки и технологий (триада «А» + «В» + «С») с известной импликацией (триада «А» → «В» → «С») является безусловным компонентом адекватной «Н-МК». Следовательно, такое движение познание обозначают уже как познание «вширь» сущности, как выражение совокупности триады и ее траекторию («А» + «В» + «С», «А» → «В» → «С»). На наш взгляд, возвращение («А»₪ «В»₪ «С») в рекурсивный «цикл», то есть возврат в пройденное рекурсивное поле создает новые познавательные образцы, а, следовательно, и новые мотивы и новые усилия в познавательной деятельности индивида. После завершения рекурсии новое значение, новый смысл осуществляет переход в следующее рекурсивное поле («А»₪ «В»₪ «С»). В целом, все объекты рекурсии проходят двойную обкатку до завершения познавательного цикла. Такое движение знаний способствует наращиванию положительного баланса, как в познавательном процессе, так и в структуре «Н-МК». Следовательно, первый и последующий повторы в осмыслении объектов рекурсии выглядят как расширяющаяся рефлексирование и репрезентация научно-философского сегмента «Н-МК». На основании вышеприведенной закономерности нами составлена структурно-функциональная модель формирования и развития «Н-МК».
Закономерность можно отобразить математическим уровнением. Триады (X1-79,Y1-79,Z1-79), как впрочем триады (А1-43,В1-43,С1-43) можно представить в виде ориентированного графа из трех элементов, характеризуемых взаимосвязями, которых можно отобразить системой дифференциальных уравнений общих парадигм («А», «В», «С») и («X», «Y», «Z»): 1) «А» – f1 (Аn Вn Сn); «В» – f2 (Аn Вn Сn); «С» – f3 (Аn Вn Сn); 2) «Х» – f1 (Хn Yn Zn); «Y» – f2 (Хn Yn Zn); «Z» – f3 (Хn Yn Zn). fn – в общем случае нелинейные функции. Следовательно, три элемента в единой структуре интенсивно и эффективно взаимодействуют друг с другом, и в итоге определяют структуру «Н-МК». Таким образом, по своей сути «Н-МК» – это полифункциональный интеграл «А», «В», «С» ≡ «X», «Y», «Z». То же самое касается триады «X», «Y», «Z». Указанные выше дифференциальные уравнения составляют доказательную часть ядра «научной теории». Итак, экстраполируя траекторию «X», «Y», «Z» на предметную область триады «А», «В», «С» нужно отметить, что лишь в вышеуказанном аспекте триада «А», «В», «С» становятся внутренней сутью упорядоченного познавательного процесса.
Нами выявлены следующие общие правила: 1) Триада «А», «В», «С» как компонент «Н-МК» тесно взаимосвязаны между собой, зависят друг от друга и обуславливают друг друга. Причем, такая связь является корреляционной, когда каждому значению аргумента типа Аn,Вn,Сn соответствует не одно, а несколько значений функций и между аргументом и функциями можно установить строгую зависимость; 2) Связь между аргументами типа триады «А», «В», «С» могут быть умеренными либо сильными. Но во всех случаях такая связь полная и прямая. То есть с увеличением аргумента «Х» функция «Y» также увеличивается; 3) Связь между элементами триады «А», «В», «С» является не только повторяющейся, но и необходимой, существенной, а потому следует говорить о закономерности взаимосвязи и взаимодействия этих компонентов «Н-МК»; 4) Каждый из них (триады «А», «В», «С»), (триада «X», «Y», «Z») попадая в систему связей с другими компонентами, в той или иной мере будет изменяться под их влиянием и в то же время, изменившись, окажет в той или иной мере обратное влияние; 5) В совокупности эти компоненты меняет регулирующую силу «Н-МК», увеличивая или ослабляя ее. Именно неразрывность указанных компонентов обуславливают процессуальность и динамичность формирования и циклическое развития «Н-МК». В этом аспекте, положения теории можно трактовать как универсальный High-Hume.
Носителем любой High-Hume является сам человек-гуманитарий. Такой человек, как правило, склонен к творчеству и коммуникации, потому, что у него, во-первых, есть стремление к творческой реализации; во-вторых, есть хорошая работа воображения, проницательности; в-третьих, у него имеет место превалирование эмоциональной сферы при принятии решений; в-четвертых, есть легкость коммуникации с разными типами людей; в-пятых, есть любовь к изучению и анализу мотивов поведения людей. Именно этими качествами он отличается от технарей, у которых, как известно, есть такие черты: во-первых, обостренное внимание; во-вторых, усидчивость и спокойствие; в-третьих, четкость в принятии решений и упор на факты. Разница между гуманитарием и технарем заключается в образе мышления. Если технические специалисты будут действовать согласно алгоритмам, обращать внимание на нюансы и детали, принимать решения с позиций логики, то гуманитарии – эмоциональные и креативные люди, ими движут порывы и психологические реакции, они стремятся создать что-то необычное и новое. Таким образом, противоречия между High-Tech и High-Hume кроется в самом человеке и он же сам должен искать выход и решения.
Важно отметить, что большинство современных High-Hume базируются информационных платформах. Ныне все общество трансформировалось в информационное общество как новой исторической фазы развития цивилизации, главными продуктами производства являются информация и знания. Отличительными чертами информационного общества являются: во-первых, увеличение роли информации и знаний в жизни общества; во-вторых, возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте; в-третьих, создание глобального информационного пространства (искусственный интеллект, нейросеть), обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам, а также удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах, в том числе в режиме «суперсервиса». Нужно заметить, что и наша вышеприведенная High-Hume, выраженная в инклюзивной онлайн-технологии пополнения уровневого багажа знаний через принцип последовательно-поэтапного «вопрос-ответа» реализуется на такой же информационно-коммуникативной платформе. Нужно заметить, что ныне информационные технологии с применением искусственного интеллекта и нейросети дают практически всякому, применяющему их, возможность глубокой и относительно произвольной перестройки массового и тем более индивидуального сознания. Значительная часть применяемых в настоящее время информационных технологий с вышеприведенной «начинкой» изначально предназначена именно для такой перестройки сознания. И эта перестройка является не побочным продуктом достижения какой-либо цели, в нашем примере, системное повышение уровня научно-мировоззренческой культуры индивида и общества в целом.
В мире созданы целые комплексы риск-менеджмента, мозговые (корпорация РЭНД) и когнитологические центры (институты сложности в Санта-Фе, национальная лаборатория в Лос-Аламосе и др.), разрабатывающие не оружия, а High-Tech, провоцирующие создания интерфейсов искусственного интеллекта, нейросети, как способы завоевания каналов и платформ мировой информации. Считается, что именно сетевая монополия на эксклюзивное знание сделает любое государство всемогущим. Причем, господство обеспечивается лабиринтами сетей высшего ранга, где принимаются решения, которые элитарно неприступны, но вездесущи. Благодаря таким сетевым технологиям происходит капитализация психических ресурсов. В этом аспекте, в мире все большее развитие получает «психоинжиниринг», понимаемая как общая методология проектирования и управления квазисознанием общества. Еще в послевоенные годы Уинстон Черчилль говорил: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». В этом смысле высокие High-Hume – это технологии проектирования будущего, которое закладывается уже сегодня и предполагает не только мощный технологический прорыв, но и возможность управлять этим будущим уже сейчас.
Естественно, High-Tech и High-Hume различаются по задачам и целям. Если High-Hume ориентированы на культуру, искусство, литературу, историю, психологию, философию, развивают критическое мышление, эмпатию, то High-Tech акцентируют внимание на решении инженерных и информационно-технологических задач, совершенствуя количественный анализ, технические навыки. Интеграция обоих подходов приводит к инновационным, удобным для пользователя технологиям, расширяя возможности в различных сферах жизнедеятельности человека и общества. Если High-Hume направлены на усвоение, осмысление и интерпретацию человеческого опыта, фокусируясь на культуру, искусство, историю, языки, социологию, психологию, философию, то High-Tech, в свою очередь, ориентированы на практическое применение научных знаний, акцентируя внимание на решение проблем и инновациях в областях, таких как инженерное дело, информатика и математика. Если в сферу задач High-Hume входит критический анализ, интерпретация, осмысление того или иного явления, часто прибегая к качественному обобщению многоаспектных гуманитарных исследований, то High-Tech опираются на эмпирические данные, количественную информацию, и экспериментальные методы для проверки гипотез и разработки новых технологий. Если High-Hume направлены на развитие критическое мышление, готовя людей к ролям, требующим глубокого понимания человека и эффективного общения, то High-Tech формируют количественный анализ, техническое мастерство и навыки решения проблем, необходимые для карьеры в технических отраслях. В отличие от High-Tech в High-Hume акцент делается следующие навыки: во-первых, знания в области культуры, этики, религии, искусства; во-вторых, выбор простых способов познания мира; в-третьих, эмпирический подход; в-четвертых, сбор данных из источников информации; в-пятых, коммуникабельность, общение с людьми; в-шестых, организация взаимодействия и навык проведения переговоров; в-седьмых, умение аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, а следовательно грамотная речь, навыки работы с текстами и документами; в-восьмых, готовность к публичным выступлениям и разработка стратегий продвижения; в-восьмых, профессиональная интуиция, владение психологическими приемами и их применение; в-девятых, исследовательская деятельность, проверка эффективности работающих теорий и постулатов; в-десятых, стремление к модернизации и трансформации существующего порядка, решение цифровых и технических задач.
Как подчеркивалось в оправдании трилогии важно восстановить равновесие между High-Hume и High-Tech. В свое время А.Назаретян разработал модель техно-гуманитарного баланса, описывающую причинную зависимость между человеческой деятельностью, антропогенными кризисами, социальными катастрофами и социально-историческим прогрессом. Сущность этой модели заключается в том, что рост технологической мощи повышает внешнюю устойчивость общества, но одновременно с этим усиливается ощущение всемогущества и безнаказанности. Причем, чем больше объем ресурсов для экстенсивного роста у общества и дольше не поступает обратная отрицательная связь от среды, тем устойчивее выработанные поведенческие стереотипы и меньше шансов на благополучное разрешение кризиса. В итоге возрастает социальное насилие, разрушается природная среда, нарастает негативные социально-психологические явления, а также возрастают факторы несправедливости, необъективности, отчуждения человека и общества, как правило, снижающие внутреннюю устойчивость человеческого сообщества. Пока единственным рецептом против такого дисбланса между High-Hume и High-Tech является совершенствование социально-психологических и научно-мировоззренческих факторов-регуляторов: этики, морали, нравственности, поведенческих установок традиций, прав и законов. Можно ли нивелировать разрыв в уровнях развития High-Hume и High-Tech? Профессор Э.Галажинский в воем интервью газете «Ведомости» (2024) указывает на то, что в естественных и технических сферах деятельности человека технологии относительно монопарадигмальны, тогда как в гуманитарной сфере они изначально полипарадигмально. Иначе говоря, имеет место множество противоречивых, альтернативных концепций. Если High-Tech с позиций гуманистической психологии больше и напрямую подвержена коммерционализации, то High-Hume – менее и по большей части коммерциализирована опосредованно. На вопрос о том, есть ли у человечества шанс вернуть прежний баланс, прежде чем «роботизированное» общество поглотит «человеческое»? Э.Галажинский отвечает: «Скорее, не «вернуть прежний баланс», а создать новый. Пока человечество производит роботов, а не наоборот, значит, определенный баланс уже присутствует». Автор считает, что задачей High-Hume является формирование и поддержание техно-гуманитарного баланса. «Чтобы реализовать шанс не превратиться в «роботизированное» общество, значительной части человечества нужно поверить, что выражение «красота спасет мир» – это не литературно-философская утопия, а вполне прагматичная стратегия выживания», – говорит автор. Следовательно, нужно наладить по всему миру, во-первых, мониторинг и строгий контроль за любым технологическим и сверхтехнологическим нововведением, а, во-вторых, системную техническую и гуманитарную экспертизу в целях выявления ее возможных негативных последствий для людей. Между тем, технократы пока «больны» такой социальной инфекцией как «технологическим императив». Тому свидетельство, что несмотря на беспрецедентное наращивание потенциально опасных High-Tech человечество медленно, но уверенно переходит «точку невозвраты», скажем в экологии, что случилось в 2024 году, или скажем в кибернетизации на основе искусственного интеллекта и нейросети, которые недавно преодолели тест Тюринга. Проводники гуманитарных технологий не устают повторять, что только человек и только он как мыслящие, чувствующее и осознающее мир способен сдержать негативный баланс High-Hume за счет адекватной High-Tech, проявив волю и усилия для выживания и развития в будущее. Данная книга состоит из трех глав. Если задачами 1-й главы является дать общие понятия и информацию о предназначениях High-Hume, включая авторские, то задачами, соответственно, 2-й и 3-й глав являются определение места и роли «Философии медицины» и «НФ-философии» технологизированной медицины, не только как познавательно-образовательной системы, но и как High-Hume, предназначаемых для развития и адаптации человека и общества к условиям, обстоятельствам и содержаниям технологизированной медицины.
Глава II
Философия медицины как познавательная система
и гуманитарная технология
Безусловно, философия и медицина одинаково древние по происхождению феномены культуры. Они посвящены человеку, призваны помочь человеческому существу адаптироваться в окружающем мире. Несмотря на общность задач, философия и медицина изначально выбирают разные пути своего развития: медицина – путь практического действия, философия – путь теоретического обобщения и рефлексии. B.H.Сокольчик пишет: – «Медицина занимается человеческой телесностью, философия – человеческим духом. Однако на протяжении всей истории человечества философия и медицина шли «рука об руку», стремясь к гармонии разума и чувства, души и тела в человеческом существовании. Главная проблема, которую они решали сообща, – проблема выживания человечества на Земле и проблема самоопределения человека как гармоничного природного и культурного существа». Философия медицины как особая отрасль научного знания особенно популярной становится в XX в., когда появляется огромное количество исследований, находящихся на стыке философии и медицины. В них разрабатываются практики и техники лечения, самооздоровления, самосовершенствования с учетом внутренних возможностей организма, резервов человеческого духа, а также наследуемых структур психики (архетипы коллективного бессознательного К.Г.Юнга).
Выдвигаемые сегодня предложения по технологическому «улучшению» человеческой телесности диктуют необходимость нового обсуждения старого философского вопроса о том, что есть человек, что есть норма и патология применительно к человеческому здоровью, как физическому, так и духовному. Основные проблемы, которые встали сегодня во главу угла философии медицины, – здоровье личности и здоровье нации, здоровый образ жизни, влияние общества и природной среды на патологические изменения в человеческом организме, проблемы человеческой духовности как основы психического и физического здоровья человека, социальные причины «болезней века», этика взаимоотношений врача и пациента, эстетические основы современной медицины и др. Среди большого числа замечательных философов и медиков XX и XXI вв., стремившихся объединить философскую и медицинскую проблематику с целью решить насущные проблемы человечества, можно назвать таких врачей философов как З.Фрейд (1856-1939), К.Г.Юнг (1875-1961), А.Швейцер (1875-1965), Г.Селье, Ф.Углов, Н.Амосов и др. Современная философия выступает сегодня и как методологический фундамент медицинского знания, призывая объединить разрозненные частные исследования и системно применить их к исследованию качественно своеобразной живой системы – человека. На первый план в деятельности современного врача выступает диалектический метод, поскольку только он обеспечивает комплексный, системный подход к вопросам болезни, её лечения, профилактики, проведения реабилитационного периода.
Сама по себе болезнь уже есть процесс диалектический и противоречивый. А.А.Богомолец, говоря о единстве в организме таких противоположных начал как норма и патология, писал: – «Первая включает в себя вторую как свое внутреннее противоречие», поэтому анализ болезни и процесса патогенеза в целом невозможен вне осмысления и применения законов, принципов, категорий диалектики». Диалектический метод применим уже на начальной стадии – осмыслении сущности и причин болезни. Современное состояние медицинского знания дает право утверждать, что никакое заболевание нельзя сводить к случайному эпизоду экзогенного происхождения, к простому попаданию в организм, скажем инфекционного начала. Сущность болезни состоит не во внешнем воздействии, а в содержании нарушенной жизнедеятельности. Диалектическое единство локального и общего в течении болезни проявляется в том, что степень локализации патологического процесса, его относительная автономность, характер протекания зависят от состояния организма как целого. Клиническая практика и эксперименты доказывают, что в организме нет абсолютно локальных и абсолютно общих процессов. Учет сложной диалектики части и целого, общего и локального в работе практического врача во многих случаях является основой разработки правильной тактики лечения. Системный подход в современной философии и науке характерен в целом для познания объективной реальности, в медицине же он наиболее важен, т.к. она работает со сложной живой системой – человеком, сущность которого отнюдь не сводится к простому взаимодействию его частей и «механизмов». Сама по себе теория лечения есть специфическая теория управления живой системой, поскольку лечение есть система мер, направленных на психосоматическую оптимизацию состояния человека.
В живых системах величина отклонения от нормы («сигнал рассогласования») приводит в действие регулирующее устройство, которое через ряд переходных промежуточных процессов ведет к уменьшению величины отклонения. Внутреннее «регулирующее устройство» стимулирует включение механизмов компенсации, восстановления, которые и возвращают систему к заданному уровню (или к норме). Это и есть основной внутренний двигатель в развитии как физиологических, так и патологических процессов, поскольку как в основе тех, так и других лежат одни и те же механизмы саморегуляции. Требования системного мышления в медицине предполагает, как минимум три основных постулата: во-первых, рассматривать организм как совокупность малы х систем и, в свою очередь, слаженную единую систему, действующую по определенным закономерностям; во-вторых, рассматривать человека (пациента) как единство души и тела, своего рода психосоматическую систему, закономерности существования и развития которой не сводятся только к соматическим изменениям; в-третьих, стремиться к объединению разрозненного медицинского знания, формированию общей теории патологии, которая реально станет фундаментом всей современной медицины.
С сожалением сегодня можно констатировать тот факт, что теоретическая медицина (учение о болезни, компенсаторно-приспособительных процессах, механизмах компенсации нарушенных функций, связях и взаимоотношениях частей в организме и пр.) пока еще представлена в виде отдельных фрагментов, но не целостной системы знаний. В связи с технократическим прогрессом актуализировались ряд специфических проблем философии медицины, предложены множество современных концепций развития технлогизированной медицины сегодняшнего дня. Общеизвестно, изучение философии составляет фундамент общекультурной и общетеоретической гуманитарной подготовки специалиста любого профиля, в том числе и в области медицины. Современное общественное развитие неизбежно способствует тому, что возникают новые мировоззренческие проблемы и по-новому переосмысливаются старые. Этого, кстати, в первую очередь, касается и сферы медицины – самой динамично развивающейся отрасли. Как известно, целью философии является желание помочь человеку совершенствоваться и выработать мировоззренческие духовно-нравственные установки, идеалы и ценности личности, с помощью которых возможно переживать жизненные невзгоды и добиваться успеха, осознать мир и себя в нём. Между тем, человек – есть самый главный предмет медицинской деятельности.
Философия как родоначальница всех наук оказала влияние и на развитие медицины в самые ранние периоды истории человечества. Во все времена считалось, что изучение философии – это апробированная многовековым опытом человечества лучшая школа разумного мышления, которая позволяет свободно оперировать понятиями, обосновывать и подвергать критике те или иные суждения, раскрывать взаимосвязи всех явлений действительности. Выделяя методический аспект философии применительно к медицине, можно отметить два момента. Во-первых, философия является методологической основой научного знания, одной из областей которого является медицина. Следовательно, изучение курса философии при подготовке медиков способствует формированию его научного мировоззрения. Во-вторых, философский анализ человека является основой медицинской этики, так как учит целостному подходу к пациенту и к сути самой патологии. Нужно исходить из того, что философия – это искусство рационального предположения – как нужно поступать, если хотим найти истину. Если говорить об условиях эффективного философского анализа, то в первую очередь нужно избавиться от конкретики, то есть от воззрений, целиком зависящих от настоящих обстоятельств, условий, окружения, времени, пространства. Философ должен абстрагироваться от таких факторов, задавая себе вопрос о том, какого рода знание менее сомнительно, чем другие, и почему, соблюдая при этом осторожность в умозаключениях и выводах, иногда придерживаясь сразу многих полярных точек зрения и противоречивых мнений. Люди, не обученные такой логике, склонны делать необоснованные и противоречивые выводы, бросаясь от одной крайности в другую. От философа же требуется поиск компромиссных суждений, абстрактного анализа, разрешения на их основе сущностных противоречий и эффективное разрешение полярных воззрений.
Для философа важно научное знание, но не подробности науки, а ее принципиальные результаты, история и в особенности метод научного исследования. Цель науки состоит в открытии общих законов, и факты ее интересуют, в основном, в той мере, в какой они представляют собой свидетельства «за» или «против» этих законов. Очевидно, философ в поиске знания, обращаясь к общепринятому научного закону, должен рассматривать его как приблизительно верный. При этом философ должен обходиться без чувств и эмоций, то есть анализировать и стараться понять, каким образом могли сформироваться те или иные противоположные суждения или иначе «дойти до сути». Очевидно и то, что философ должен обладать сильным желанием понять, насколько это возможно, тот или иной феномен. И во имя понимания он должен хотеть преодолеть все те предрассудки и узость мировоззрения, мешающую правильному восприятию. В какой мере можно преодолеть человеческую субъективность? Можем ли мы вообще что-либо знать о том, что такое мир на самом деле, в противовес тому, как он предстает перед нами? Именно это и хочет знать философ, и именно к этой цели он стремится.
Из курса философии известно, когда рассуждают, что тело – это иллюзия, порожденная сознанием, то мы их считали идеализмом, а когда рассуждают, что сознание – это не что иное, как способ проявления тела, то – материалистами. Такой дуализм невозможно разрешить исходя лишь из материализма или идеализма. В этом плане, философ всегда должен мыслить посредством общих понятий, потому что интересующие его проблемы имеют общий характер. Размышление в масштабе огромных расстояний и больших промежутков времени, к чему философ должен привыкнуть, способно сыграть определенную роль в формировании общности и беспристрастности его взглядов. В такой ситуации, зачастую, некоторые вещи, которым мы склонны приписывать огромную важность, покажутся незначительными, если на них взглянуть с точки зрения Универсума, а другие вещи, наоборот, кажущиеся сейчас менее важными, предстанут весьма существенными. Философия и медицина одинаково древние по своему происхождению феномены культуры; их тесная связь проявляется в близости предметов исследования (изучение человека, его личности и влияния общества на личность), сходстве целей и задач, единстве методологии, ценностной ориентации. Несмотря на разные направления деятельности и разные пути поиска истины (медицина выбирает на заре своего существования путь практического действия, философия – путь теоретического обобщения и рефлексии), обе они решают одну и ту же проблему – проблему выживания человечества на Земле, проблему самоопределения человека как природного и культурного существа. В указанном выше вопросе философия и медицина не могут не объединить свои усилия, поскольку порознь они лишены цельности – философия удаляется от эмпирии, «витает в облаках», медицина же, погружаясь в исследование организма, забывает о личности, «утопает» в деталях и частностях. На всем протяжении истории культуры идеи объединения философского и медицинского знания ради постижения тайны жизни и тайны человека претворялись в трудах самых известных философов, медиков, естествоиспытателей. Нами изданы ряд монографий по тематике связи медицины и философии: «Философия медицины» (2017); серия «BIOфилософия», включающая «Трансплантология: мораль, право, этика» (I том); «Медицина: диалектика познания, развития, адаптации» (II том); Рискология: дилеммы, суждения, решения (III том) (2012).
Соотношение философии и медицины в эпоху Нового Времени диктуется интересом к человеку, его новыми интерпретациями. Так, в философии французского материализма (идеи врачей Дж.Локка (1632-1704), Ж.Ламетри (1709-1751) человек понимается как машина, действующая по аналогии с макрокосмом (по законам классической механики Ньютона). В философии ХХ в. осмысляются проблемы человека как социального существа, проблемы влияния психики на развитие патологических процессов в человеческом организме. Идеи ХХ в. (З.Фрейд, гештальтпсихология и т.д.) послужили возникновению в начале ХХ в. психосоматической медицины, опиравшейся в лечении человека на взаимосвязанность психических соматических и даже социальных процессов, сопровождающих развитие человека. Философия медицины как особая отрасль научного знания особенно популярной становится в ХХ в., когда появляется огромное количество исследовательских программ, находящихся на стыке философии и медицины: разрабатываются практики и техники лечения, самооздоровления, самосовершенствования с учетом внутренних возможностей организма, резервов человеческого духа, а также наследуемых структур психики.
Современная философия медицины развивается по нескольким направлениям, руководствуясь различными принципами, методологическими основаниями и философскими установками. Основные проблемы, которые встали сегодня во главу угла философии медицины: 1) Здоровье личности и здоровье нации; 2) Здоровый образ жизни, влияние общества и природной среды на патологические изменения в человеческом организме; 3) Проблемы человеческой духовности как основы психического и физического здоровья человека; 4) социальные причины «болезней века»; 5) Этика взаимоотношений врача и пациента; 6) Эстетические основы современной медицины. Таким образом, философия и медицина на протяжении многих веков своего развития взаимообогащают друг друга, взаимопересекаются; как самостоятельная отрасль знания философия медицины особенно актуальной и разработанной становится в наш технологизированный век. Глобальности медицинских проблем состоит в том, что они затрагивают не отдельные страны с той или иной общественной структурой и разными способами производства, а цивилизацию в масштабах земного шара. Ряд философов настроено пессимистично и говорят о тупиковости человеческой цивилизации, ее обреченности на вымирание. Другие считают постановку и осознания проблемы уже важным шагом на пути ее разрешения и видит его в смене направления и способов развития, так называемый ко-эволюции, совместного существования человечества и природной среды. Возможно в самой вопрошающей в природе человека скрыты пути решения проблем дальнейшего развития общества, и в наших силах изменить стратегию познания и обрести новое понимания действительности. Все сказанное демонстрирует, что круг проблем философии медицины необычайно широк, особенно на современном этапе, она становится все более и более актуальной.
Современная концепция сохранения здоровья населения страны предусматривает всемерную индустриализацию и технологизацию медицины и здравоохранения на основе инноваций, создаваемых в процессе научно-практической деятельности. С позиций философии медицины врачебная деятельность – это деятельность, направленная на эффективное практическое использование результатов научных исследований и технических разработок во имя сохранения и укрепления здоровья населения страны. Медик на окружающую его реальность в процессе своей профессиональной деятельности смотрит с практической точки зрения, он постоянно осмысливает рациональность и практическую пользу своих действий. Для того, чтобы выполнить свою миссию, с одной стороны, философия должна «опуститься» c высоких абстракций до осмысления конкретных проблем медицинской практики, а с другой – философия не должна подменять медицинское решение вопросов. То есть медик должен не «философствовать», а решать конкретные практические проблемы. Задача философии состоит в том, чтобы четко определить границы и функции, реализация которых принесла бы пользу. Эти границы и функции философии по отношению к медицинской практике, High-Tech определяет философия медицины. Медик имеет дело только с человеком, а затем уже с системными комплексами, в которые включены технологический процесс, природная и социокультурная среда. Без философского мышления здесь не обойтись. Умение пополнять и обновлять свои знания, самостоятельно учиться связано с четкой ориентацией на нужную информацию в огромном информационном массиве. Это возможно лишь с видением всего поля НТ-ТП, определением его основных направлений и тенденций развития. Здесь требуется философская мировоззренческая ориентация медика, соответствующая логика его мышления и новаторская ее направленность. Необходимо учитывать, что в какой бы ипостаси не выступала High-Tech, ее функционирование направлено на реализацию поставленных людьми целей. Являясь для общества средством достижения определенных целей, для инженера техника выступает как цель его деятельности. Медик реализует намеченную цель – обеспечить определенный лечебно-диагностической или профилактической процесс. При этом мысли медика часто не простираются за рамки этого процесса.
Медик, не осознавая социальной значимости своей деятельности, выступает не как творец, а как простой исполнитель, ремесленник. «Посвящается мыслящим хирургам, которые смогли преодолеть в себя ремесленничество», «Посвящается хирургам, которых можно отнести к категории беспокойных исследователей, осознавших то, что хирургия – это не только сфера профессиональной деятельности, но и научная специальность», «Посвящается хирургам, которые осознают, что «хирургия слишком серьезная специальность, чтобы доверять ее только хирургам. Речь идет о хирургах, которые осмысливают современную хирургию, как сложную биоинженерную специальность, а не просто рукоделие». Помнится, вот с такими посвящениями начинаются серия «Проектируемая хирургия» (Ашимов И.А., 2015): «Развенчание мифов» (Хирургия в проекции PopSc); «Рейтингование операций» (Хирургия в проекции ICH-GCP); «Фундаментация медицины» (Хирургия в проекции BioMed). На наш взгляд, преодоление профессиональной ограниченности (ремесленничество) предполагает выход за пределы тех понятий, которые связаны лишь с созданием артефактов, технологий, преодоление технократического мышления, ориентацию на социальный простор, социально-философское осмысление своей медицинской практики. Между тем, это – одна из главнейших функций философии медицины. Важно расмотреть философию медицины в аспекте преемственности, кумулятивизма, парадигмализма.
Сейчас мы переживаем время технологического прорыва, в связи с чем, меняются мысли, идеи, концепции, теории. Реализация цели алдаптации медицины требованиям High-Tech возможно на основе отражения философской методологии в медицинской практике, разъяснения необходимость к формированию новых подходов и взаимодействию дисциплин. Кумулятивизм – истолкование процесса научного познания как состоящего только в последовательном накоплении все новых и новых истин путем совершенствования методов наблюдения и эксперимента и все более общих научных теорий. Такое истолкование динамики науки не соответствует ее реальной истории как в прошлом, так и в настоящем. Наряду с ростом информации в науке постоянно происходил и происходит также отказ от устаревших истин и их интерпретаций, отказом от них как ложных, неточных или односторонних утверждений. Отрицание кумулятивного характера развития науки вовсе не означает отрицание преемственности в развитии научного знания. Однако преемственность эта имеет отнюдь не механический, а диалектический характер, включающий в себя не только сохранение истин, но и отказ от их значительной части как устаревших или просто ложных. Кумулятивизм – есть следствие классической прогрессисткой идеологии науки, согласно которой научное познание в отличие от других видов когнитивной деятельности развивается только прогрессивно, от одних истин к другим, от менее общих истин к более общим, от менее фундаментальных истин к более фундаментальным, от относительной истины к абсолютной. С точки зрения современной философии науки кумулятивизм является слишком простой и наивной концепцией, чтобы быть истинной.
Как известно, медицина является одной из важнейших разделов науки как сферы общечеловеческой культуры. Она в системе наук представляет собой некое проблемное поле естествознания, обществоведения и гуманитарных наук, прежде всего философии. Последняя способствует совершенствованию понятийного аппарата всего практического здравоохранения. Более того, она развивает научно-мировоззренческие взгляды врача и эвристический (творческий) потенциал в целостной системе материальной и духовной культуры медиков. Медицина совместно с философией постигает сложный мир жизни человека, управляет его здоровьем. При этом она и сама становится объектом специального философского познания. Общие контуры медицины в критериях античной философии обозначил еще великий Гиппократ. Оформление медицины в самостоятельную естественнонаучную и гуманитарную сферу воздействия на человека относится к Новому времени, когда она стала органично связываться с философскими концепциями жизни Ф.Бэкона (1561-1626), И.Канта (1724-1804) и др. Медицина нуждается в укреплении связей с философией как живительной средой духовного обитания и дальнейшего развития предметно-понятийного мышления. Это важнейший принцип постнеклассической науки (далее – П-НН), активным проводником которого мы являемся. П-НН зародилась в результате очередной, четвертой по счету, научной революции (конец 70-х и начало 80-х гг. XX в.). Современная наука стала политеоретичной, полидисциплинарной, полисинтетичной, «человекоразмерной». В этой связи, для ученых и научных коллективов есть необходимость четко уяснить: чем характеризуется современная мировая наука? В чем заключаются особенности современного этапа развития науки в мире? Насколько наши научные методы, результаты наших научных исследований соответствуют современным требованиям мировой науки? насколько идеалы, нормы и методология познания соответствуют современным типам научной рациональности? Однако, реальность такова, что многих ученых интересует в лучшем случае такие вопросы: насколько их научные методы и результаты соответствуют уровню мировой науки? Конкурентоспособны ли в мире полученные ими новые знания? Сопоставимы ли новые результаты с теоретическими и методическими подходами, принятыми в научных центрах стран СНГ и мира? К сожалению, приходится констатировать, что мы пока отстаем в деле осмысления и внедрения в сознание канонов новой научной рациональности. А между тем в настоящее время классическая и неклассическая наука все чаще неадекватна для исследования сложных процессов, протекающих в природе, человеке, обществе.
Помнится, начиная с 2001 г., нами был проведен ряд научных форумов под эгидой «Неонеклассическая наука – наука XXI в.». Главной целью было довести до научной общественности страны специфику, принципы, подходы и системы постнеклассической науки (П-НН). В указанном ракурсе, мы часто говорили о том, что неонеклассический этап развития науки характеризуется переходом к поиску: во-первых, ценностно-целевого, то есть аксиологического содержания научных работ; во-вторых. ценностно-целевой сопряженности в научно-практической деятельности. Именно в этот период мы впервые осознали насколько важным является разработка и применение High-Hume в технологизированной медицине. Итак, нами была предприняты попытки убедить научно-медицинскую общественность в том, что назрела необходимость внедрения подхода, дающего возможность рассмотреть сдвиг мировоззренческой парадигмы в науке и медицине в условиях High-Tech, причем, в самых широких аспектах: философии, методологии, синергетики, математики, неонеклассического образования, социологии, медицины, религии, психологии и пр. Речь шла о поиске адекватной High-Hume. К сожалению, в те годы, да и в последующие десятилетия, для многих, казалось, что мы «изобретаем» проблемы, что решаемые нами «такие» проблемы, далеки от запросов нынешней, чрезмерно прагматизированной науки и медицины. Между тем, не может не насторожить тот факт, что ученые-медики, которые имеют дело со сложнейшей системой – больным человеком, ученые-биологи, которые заняты исследованиями жизни и биосферы, пока проявляют неприятие новой научной рациональности в своих науках. Справедливо ли такая ортодоксальная позиция наших ученых? Разумеется, нет. Нами была проведена серия исследований, выполненных с позиции П-НН. Они были направлены, прежде всего, на повышение: во-первых, общетеоретического уровня; во-вторых, фундаментальности; в-третьих, методологичности медицинской науки. Впервые «медицинская» начинка медицинской науки приобретает новый облик, новое ценностное значение, а это и есть знание-инструмент, способный познать не только природу конкретной болезни, «душу» пациента, но и самого себя, свое профессиональное сообщество, внутри которого мы работаем и действуем. Нужно отметить, П-НН имеет дело с системами особой сложности, требующими принципиально новых познавательных стратегий. Это касается многих наук, но, прежде всего, наук, объектом которых является человек, как сложнейшая психо-био-социальная система. Очевидно, классическая и неклассическая науки, уже не могут претендовать на адекватность в познании такой системы и объектов большинства современных наук. На наш взгляд, именно П-НН должна реализоваться во всех, без исключения, современных науках, как более эффективная рациональность. К примеру, без осмысления принципов и основ этой науки нам угрожает безнадежное отставание в осмыслении таких научных направлений, как клонирование, крионика, нанороботизация, сеттлеретика, фантоматика, цереброматика, пантокреатика и пр.
Таким образом, в условиях глобализации, тотальной цифровизации, технологизации появляется некоторая размытость границ медицинских наук, политеоретичность знаний, плюрализм и интегрируемость различных теорий. Между тем, познавательные принципы П-НН имеют кардинальные отличия: во-первых, проблемность; во-вторых, коллективность научно-познавательной деятельности; в-третьих, контекстуальность научного знания; в-четвертых, полезность, экологическая и гуманитарная направленность научной информации. То есть, любой научный факт приобретает проблемный характер, содержит ряд подтекстов, а также ценностное значение. Аналогично происходит и с методологией наук. Если методологической основой классической науки являются: во-первых, количественные методы исследования; во-вторых, эксперименты; в-третьих, математическая модель объекта; в-четвертых, дедуктивный метод построения научных теорий; в-пятых, критицизм, то методологической основой неклассической науки являются: во-первых, отсутствие универсального научного метода; во-вторых, плюрализм научных методов и средств; в-третьих, интуиция и когнитивный конструктивизм.
Очевидно, методологические основания П-НН также имеют кардинальные отличия: во-перых, методологический плюрализм; во-вторых, конструктивизм, коммуникативность и консенсуальность принятия научных решений; в-третьих, эффективность и целесообразность научных решений. По сути, имеет место синкретизм, когда, наряду с достоверно-фундаментальным знанием ставка делается и на социально-прикладное, то есть работоспособное знание. Это направление науки обозначено инновацией и инновационной деятельностью. Между тем, это и есть High-Hume. Но как довести эти методологические нововедения до сознания специалистов от медицины? Нужны были новые High-Hume. П-НН знаменуется тотализацией познаваемости природы, человека и общества. Если специфика неклассики была ориентирована на изучение изолированного фрагмента действительности, выступавшего в качестве предмета конкретной научной специальности или отрасли, то специфику П-НН все более определяют комплексированные научные программы, в которых принимают участие специалисты различных областей знания, то есть исследования отличаются полидисциплинарностью и многоаспектностью. Доказано, что новые научные направления зарождаются в недрах различных наук и, как правило, формируются на стыке научных отраслей. Безусловно, выигрышными оказываются именно уровни полученных новых знаний. Объектом же современной науки становятся – и чем дальше, тем чаще – так называемые «человекоразмерные» системы, в числе которых и в первую очередь, биомедицинские объекты (биофизика, биокибернетика, экология, биотехнология, нанотехнология, искусственный интеллект и пр.). Все чаше становилось понятным, что нужны High-Hume, так как сам облик П-НН определяют системы, характеризующиеся: открытостью; нелинейностью; когерентностью; хаотическим характером переходных состояний в них; непредсказуемостью их поведения; способностью активно взаимодействовать со средой, изменять ее в направлении, обеспечивающем наиболее успешное функционирование системы; гибкостью структуры; способностью учитывать прошлый опыт.
Новые, прорывные направления науки, безусловно, потребует пересмотра многих теоретических воззрений, идеалов и норм самой науки как системы. В настоящее время обсуждается вопрос о построении науки будущего. При этом выдвигается на первый план задача создания соответствующих органов: Институты человека; Институты природы; Институты жизни и пр. В 2020 году нами был создан Виртуальный Институт Челорвека (ВИЧ), который является веб-структурным подразделением НАН КР. Такая сетевая платформа была предназначена для канализации усилий ученых различных специальностей для целенаправленного изучения феномена «Человек». Причем, прежде всего, с позиции П-НН. Мы исходили из того, что в настоящее время активно развиваются такие синтетичные науки как экобиомедицина, физхимия, химфизики, медхимия, биогеохимия, биогеомеханика, биоматематика и пр. Объектами этих наук являются сложнейшие системы, не «подвластные» одной отрасли науки. Таким объектом изучения является сам человек как био-психо-социальное существо. Кроме того, надо заметить, что все чаще внимание ученых привлекают такие исторически развивающиеся системы, как мораль, нравственность, этика. Сейчас активно развиваються биоэтика, экоэтика, биофилософия, философия науки и техники и пр. При этом идет тотальная оценка динамики этих категорий в зависимости от социально-природного фона. Между тем, это актуальнейшая проблема современности, когда речь идет о научной и социальной ответственности ученых за те новшества, которые они привносят в общество, культуру, науку. Все эти попытки следует рассматривать как наладить баланс между High-Tech и High-Hume
Как уже подчеркивалось выше, объектом П-НН являются «человекоразмерные» системы. Внимание ученых все больше привлекают такие глобализационные проблемы, как экобиология, экомедицина, энергомедицина, биотехнология, трансплантология, системы «человек-компьютер», искусственный интеллект, генная инженерия и пр. Следует заметить, что идет широкомасштабное изучение последствий технологизации человеческой жизни, когда облик науки определяют системы, требующие новой методологии их познания. В частности, речь идет о проблемах жизнеобеспечения, биобезопасности, понятийным аппаратом которых является вопросы резерва организма, компенсации систем, биопротезирования, конструирование человека. В настоящее время, помимо клеточного клонирования, появляются и другие работы, нацеленные на воспроизводство органов. В настоящее время постулируется возможность таких манипуляций с человеком, как компьютеризация (нанороботизация), копирование сознания на синтетические носители (сеттлерика), «синтетические радости» (фантоматика и цереброматика) и, наконец, полная переделка конструкции человека и его окружения (пантокреатика). Перечисленные выше феномены являются новейшими в качестве объектов научных исследований. По мнению ученых-нанотехнологов – в 30-е гг. XXI в. с помощью нанотехнологии будет оживлен умерший человек, а с помощью крионики тело живого человека, введенный в состоянии анабиоза можно будет сохранить на века с возможностью последующего возвращении в жизнь. Хотелось бы отметить впечатляющие результаты в области «искусственного интеллекта». Если в 70-е гг. XX в. «может ли машина мыслить?» казался парадоксальным вопросом, то сейчас, когда удалось добиться того, что некоторые программные продукты по результатам своей деятельности оказываются эффективнее, чем деятельность человеческого мозга, то дело идет уже к моделированию человеческого сознания. Уже не секрет, что искусственный интеллект прошел «тест Тюринга». Сейчас серьезно обсуждаются вопросы соотношения искусственного и естественного в биокомпьютерах, когда головной мозг человека рассматривает в качестве модели биокомпьютера. В этой связи, естественно возникает вопрос: насколько наши познания «догоняют» эту проблему и отвечают ли стратегии новой научной рациональности? Готово ли наше общество к восприятию такой перспективы? В чем заключается стратегия развития П-НН?
Классик немецкой философии Л.Фейербах (1804-1872) назвал медицину «колыбелью материалистической философии». В настоящее время, у медиков появилась устойчивая мыслительная потребность в целостном (объемном) взгляде на системную телесно-духовную сущность человека. В конце концов естественным образом сформировалась диалектическая взаимосвязь между философским осмыслением природы, роли и назначении человека и зарождающимся клиническим мышлением, стремящимся объяснить порой парадоксальные явления в человеческой жизнедеятельности. Всё это не могло не сказаться на формировании нового специфического предметно-понятийного мышления медиков. Это явление вполне объяснимо, поскольку философские системы и научная медицина никак не смогли бы развиваться совместно и одновременно быть самостоятельными, если бы они сугубо по-своему не отражали и не выражали бы всеобщий интерес, касающийся сохранения и укрепления здоровья людей. Философия активно помогает медикам на многие известные им вещи смотреть иначе, видеть невидимое, то есть понимать внутренний смысл предметов и явлений. «Исследовать в медицине, – считал канадский патофизиолог и эндокринолог Г.Селье, – это видеть то, что видят все, но думать так, как не думает никто». Данной способностью медицина обязана философии, снабдившей ее специальным (предметно-понятийным) методом клинического мышления. Развиваться полноценно они могли лишь совместно. У них один объект познания (человек) и один и тот же практический интерес- состояние здорового образа жизни как результата действия многих субъективных и объективных факторов. Без медицинских и философских знаний сегодня в принципе не могут нормально функционировать и совершенствоваться такие общественные сферы жизни, как экономика и политика, система образования и спорт, культура и так далее. Медицинское знание есть связующее звено между культурой, человеком и его жизнедеятельностью.
Медицина, как динамично развивающаяся наука обладает огромным потенциалом для познания человека на базе новейшего экспериментального и клинического материала в области био-, психо-, социомедицинских и других видов исследований. Она выступает как цель и смысл этого познания, к которому применимы все параметры системно-структурного анализа. Системно-структурный подход с течением времени превратился в общенаучный метод практически во всех формах исследования, а в наше время он становится нормативом теоретического мышления и в медицинской науке. Обращение к системно-структурному анализу новейших медицинских наблюдений и открытий актуально сегодня прежде всего потому, что они восходят к насущным потребностям в научно-теоретическим обобщении и объяснении таких проблем, как здоровье и болезнь, норма и патология, соотношение биологического и социального, психического и соматического. Комплексное изучение человеческого организма в норме и патологии всегда естественным образом связывается с философией. Медицина, по сути, всегда философична. Более того, фактически она сама уже явление философии, ибо учит людей мудрости правильной, здоровой жизни. Это особая философия, помогающая приводить в порядок все творческие потенции человека во всех сферах его социальной и индивидуальной жизнедеятельности. Таким образом, медицина представляет собой необходимую систему человеческого жизнеобеспечивания.
Анализ системы медицинских знаний направлен прежде всего на философское осмысление медиков и их деятельности по сохранению и укреплению здоровья людей, продления их жизни, устранение эпидемий. Большинство философов, занимающихся общечеловеческой проблематикой, все чаще задает вопрос о том, является ли медицина только искусством лечения или это вид научного мировоззрения людей. Современная медицинская наука представляет собой целый комплекс клинических социально-гигиенических медико-биологических дисциплин. Ее будущее зависит от характера взаимодействия всех естественных, гуманитарных и технических наук. Кроме того, её развитие постепенно всё больше будет связываться с решением проблем общеметодологического и философско-мировоззренческого порядка. Д.С.Саркисов писал: «Должно происходить органическое слияние общемедицинского и философского образования будущих врачей, потому что плодотворное обсуждение таких центральных проблем, как проблемы этиологии, патогенеза, нервизма, основ регуляции нарушенных функций и других, в настоящее время невозможно без рассмотрения фактических материалов медицинской науки через призму основных законов материалистической диалектики, ее категорий, принципов, диалектико-материалистической теории познания.
Если внимательно посмотреть на историю развития мыслительного акта в медицине, то бросаются в глаза три этапа диалектической взаимосвязи философии и медицины: натурфилософский, начиная с времен античности (Аристотель, Гиппократ, Гален), механистический – с эпохи Нового времени (Ф.Бэкон, Р.Декарт, Дж.Локк, Ф.Парацельс), целостный (междисциплинарный) – нашего времени. Во всяком случае, на всех уровнях функционирования медицинской мысли на нее периодически воздействуют те или иные философские системы. Они как бы корректируют и гармонизируют научный уровень мышления и образ медицинского познания, которые всегда связаны с естественно-научным и гуманитарным способами определения правильного, то есть здорового образа жизни отдельных людей и общества в целом. При различении уровней познания в медицине обычно отмечаются два: эмпирический и теоретический. Причем эмпирическое не сводится к чувственному, так как оно обязательно включает в себя логическое (рассудочное), однако на базе чувственных данных. Уже на эмпирическом уровне познания в медицине приходится упорядочивать необходимые и случайные факторы в поведении объекта, отвлекаться от несущественного, нацеливать наблюдение или эксперимент на поиск существенных свойств и зависимостей в изучаемых объектах. Вместе с тем следует признать, что только на научно-теоретическом уровне достигается глубокое постижение жизненной сущности
Многоплановая разработка теории в медицине дает жизнь всему богатству форм и видов медицинской деятельности. Поэтому всегда есть необходимость в философском переосмыслении понятийного аппарата, наработанного на протяжении тысячелетий, в построении строгой современной системы диалектической взаимосвязи медицинских представлений, категорий и понятий, в выработке нового стиля научного мышления у врачей – специфического, предметно- понятийного. Это постепенно приводит к достижению качественно нового уровня овладения принципиально иным способам клинического мышления. Что, несомненно, должно сказаться на развитии и сугубо медицинского способа познания человека. Ведь мышление врача оперирует не только представлениями, но понятиями. Система медицинских представлений и понятий предполагает особый синтетический способ умственной деятельности медика. Теоретическая деятельность врача есть переработка созерцания в представления, а затем в понятия. Последние придают медицинской теории некую целостность, мыслительную конкретность. Только на теоретическом уровне познания в наиболее концентрированном виде предстают все отличительные черты медицинского знания. Многие считают, что разобщенные экспериментальные данные еще нельзя считать достоверным научным знанием. Необходимы связующие их цепи – законы, теории, идеи или хотя бы гипотезы. Это обусловлено природной сложностью процессов саморазвития живого организма и человеческого в особенности, а, следовательно, современная теоретическая медицинская наука остро нуждается в философской – методологической ориентации при проведении экспериментов и последующей критической обработке их результатов. Эмпирическое медицинское знание позволяет фиксировать процессы, явления и связи между ними. Теоретическое же знание дает возможность понимать факты, выделять их из общих наблюдений, вскрывать общную сущность (основу) определенных явлений, отвечать на вопросы о том, почему и каким образом происходят те или иные процессы в организме человека.
Медицинский работник сегодня уже не имеет права быть чистым эмпириком. Именно поэтому в настоящее время так остро стоит задача совершенствования теоретической подготовки медиков, развивая у них философскую культуру мышления. А может ли выступать экспериментальная философия как High-Hume? Теория медицины – это основа научного исследования как совокупность определенных правил, приемов, и норм познания вообще. В самом общем значении – это способ достижения намеченной цели посредством заранее определенного познавательного замысла. Теория медицины неразрывно связана с выдвижением новых концепций, гипотез. Познавательная деятельность ученого-медика предполагает многообразие ее видов и широкий спектр теорий, которые могут быть классифицированы по самым разным признакам. Среди множества теорий выделяют научные и ненаучные, которые, в свою очередь, разделяются на эмпирические и умозрительные. Чтобы создать научную теорию, способную верно описать медицинскую реальность, необходима и строгая логика эмпирии, и философски осмысленная концепция. Необходимо признать, что эмпирическое (опытное) знание является не только историческим предшественником теоретического, но и непосредственным источником исходных данных для теоретического обобщения и философского осмысления. Опираясь на философскую методологию, каждая наука вырабатывает внутри себя и на собственном материале свой метод мышления. Не являются исключением и медицинские науки. В них работает многоуровневая система методологического знания. Она опирается на три основные группы методов: философские и общенаучные методы – это совокупность наиболее общих приемов исследования, применяемых в научном познании. Так, в работах отечественных клиницистов, патологов сформулированы основы видения проблемы гомеостаза (постоянство внутренней среды), а отсюда – феномен здоровья и болезни; предприняты попытки обосновать понимание последних как диалектического единства противоположности.
Существующая на сегодняшний день научная система базируется на критическом осмыслении философской, то есть специфической, предметно-понятийной сферы деятельности врача, охватывающей все процессы течения и исцеления болезни. Философская методология в медицинском познании исполняет важную роль в процессе исследовательской работы и имеет исключительно практическое значение. Ведь она изучает не знание и истину как таковая, а приёмы их получения. Философская методология медицины призвана выполнять несколько функций: эвристическую, координирующую и интегрирующую. Она стимулирует процесс медицинских знаний, провозглашая основой любого исследования диалектический метод познания. Философски-диалектический метод, применяемый в единстве с формально-логическим, обеспечивает приращение новых знаний в собственно медицинской сфере познания. Это приращение происходит в особой систематизированной форме. Идея системности знаний является исходным философским элементом научности во всём естествознании и медицине, в частности. Таким образом, системность в методологи медицинского познания предстаёт сегодня как органическое соединение основополагающих принципов, позволяющих понять законы функционирования живого организма. Системный, структурно-функциональный, вероятностный и многие другие подходы в познании предполагают использование общелогических методов: анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии и других. Сюда же входят эмпирические и теоретические средства и приёмы, характерные для медицинской науки, которые могут быть использованы ею для познания живого и вообще и человека в частности.
Философское исследование медицинского познания, его механизмов и процессов в той мере, в какой они являются элементами практической медицины и реализуются её средствами и методами, выступает как способ самосознания медицины. Речь идёт о методологическом исследовании самой медицины. Методология сегодня включает в себя определенным образом философски переосмысленные и научно уточненные результаты анализа медицинских данных о многих массовых заболеваниях. Значение медицинского познания конкретных фактов в жизнедеятельности людей, влияющих на их физическое и психическое здоровье, поистине велико. Любые позитивные моменты управления общественным здравоохранением, эффективные средства и методы лечения людей должны тщательно изучаться и философски осмысливаться всеми медиками с целью активного и полноценного развития медицинской теории. В самом общем виде задача медицинского познания состоит в выявлении закономерных процессов, происходящих в организме, причин возникновения патологических состояний, а также в научном поиске наиболее эффективных способов и средств их предупреждения, устранения. Таким образом, медицинское познание становится специфическим интеграционным способом постижения жизни, философского осмысления различных областей исследования и синтеза самых разных знаний, касающихся человека, его образа жизни и качества жизнедеятельности. По характеру решаемых вопросов медицинское познание выходит за рамки чисто научной дисциплины и в немалой степени становится междисциплинарной сферой постановки и разрешения всех человеческих проблем. Медицинское познание как особо деликатный способ целостного знания о человеке, его организме, духовности объединяет и интегрирует различные формы исследования: теоретические и экспериментальные. Гуманный характер медицинских задач выходит далеко за пределы научной дисциплины, которая в значительной степени становится социально-гуманитарной сферой познания человеческих проблем.
Современная медицина, представляя собой сложную систему дисциплин, сама развивается на стыке естественных, технических, гуманитарных и философских наук. Это значит, что исходным объектом медицины являются социально-биологические, философско-нравственные, морально-этические сферы человеческой жизни. Современный культурный и научно-технический прогресс, сверхдинамичное развитие медицинской науки и практики, биотехнологии в мировом здравоохранении – все это поставило перед философской мыслью новые морально-этические вопросы. В этой связи представляется важным философское осмысление нравственных оснований вступления ученых и врачей на нетрадиционные участки медицинской науки и практики. Генезис морально-этических взглядов в естествознании и медицине начался очень давно – за четыре тысячелетия до нашей эры. Уже тогда высоко ценилась морально-этическая сторона воздействия на больного. Так, в Месопотамии высокий уровень врачебной этики поддерживался не только значительными размерами вознаграждения медиков за их труд, но и системой строгих наказаний, которые применялись по отношению к врачу, нарушающему врачебный этикет. В Древней Персии медикам законодательно предписывалось не только постоянно овладевать профессиональными навыками, но и вырабатывать в себе этические качества: умение выслушивать больного, быть к нему предельно внимательным и т.д. Среди заповедей древней медицины, дошедших до наших дней, одно из первых мест занимает призыв великого греческого врача и мыслителя Гиппократа «не навреди!», обращенный ко всем медикам. Меэжу тем, много лет занимаямь вопросами трансплантационной медицины как на практике. Так и в теориях выстарвиания стратегии этой высокотехнологизированной медицны, то есть ее философию можем сказать, что этот девиз показывает некоторую пассивность нынешней медицины, для которого больше подходит призыв к активности: «Помоги обреченному!».
Вся история человечества убеждает в том, что развитие медицинского искусства находится в прямой зависимости от образованности и воспитанности людей, уровня общей культуры народа, нравственных принципов справедливости в обществе. А справедливость, согласно Цицерону, заключается в том, чтобы «никому не вредить и приносить пользу». Упадок греческой и римской философско-этической культуры сопровождался долгим периодом застоя и в медицинской теории и практике. Возможно, что морально-этические аспекты медицины практически во всех великих философских системах прошлого характеризуются двумя особенностями: доктринальностью и назидательностью. Доктринальность любой этики означала, что последняя является составной частью общей философско-моральной системы. Примером именно такой этики могут служить учения Гиппократа и Галена. В них уже имела место этико-философская направленность воззрений в сфере медицины. Доктринальность и назидательность медицинской этики воплощались в соответствующей нормативной системе, содержанием которой стала целостная программа нравственного поведения врача. В ХХ в. врач и писатель В.В.Вересаев писал: – «…Как это ни печально, но нужно сознаться, что у нашей науки до сих пор нет этики… Необходима этика в широком философском смысле… Узкие вопросы врачебной практики, прежде всего должны решаться именно с философской точки зрения, и только в этом случае мы сумеем, наконец, создать настоящую медицинскую этику».
Сегодня моральные требования в медицинской среде радикально изменились. Причиной тому служат новые медицинские High-Tech – генная инженерия, трансплантология, искусственное оплодотворение и другие. Немало острейших философско-этических проблем порождают современные биомедицинские эксперименты, проводимые на животных, клонирование. Эти технологии опередили развитие традиционной морали и научной этики. Поэтому мировая общественность вынуждает вырабатывать принципиально новые этические принципы и критерии нравственных оценок в медицине и науке, создавать новые моральные контрольные структуры, действие которых должно быть направлено на объяснения безопасности для каждого члена общества новых технологий. Мораль всегда выражает действительные общественные интересы, при этом выражаясь внутри человеческой личности. Творческий характер врачебной деятельности восходит не только к диалектическим тонкостям клинического мышления, но и к необходимости постижения врачом гносеологических проблем и морально-этических норм профессионального исследования человека, качественного улучшения его сущности.
При формировании современного менталитета врача необходимо обращать внимание на воспитание у него философско-нравственных и этических качеств, на развитие в нем истинного гуманизма. В современных условиях каждый медицинский работник должен настойчиво овладевать психолого-философскими знаниями, профессиональными навыками и обладать высокими нравственными качествами. Указанные требования закрепились в деонтологии как науки о врачебном долге. Благодаря И.Канту деонтология стала синонимом нравственной философии. Философские и этические проблемы в медицине имеют глубокие логические и исторические корни. Они определяются прежде всего теми вечными проблемами, которые составляют сущность мировоззрения медиков – их отношение к жизни, здоровью, смерти. В философско-моральном плане проблема, например, страдания человека занимала мысли философов и медиков практически на протяжении всей истории развития культуры. Так, Аристотель называл страдания важнейшим фактором испытания мужества индивида. Впоследствии многие философы (Ф.Бэкон, И.Кант и др.) учили людей искусству избавления от страданий. Однако, в нашем, ранее сплоченном медицинском сословии происходит некий надлом, обусловоенный развитием такого технократичского и социально-писхологического харатера, как эвтанизация. Это явление как эпидемия распространяется по всему миру. Каким будет для такого казуса High-Hume?
Дошедшая до нас клятва Гиппократа сохраняет своё философское значение и морально-этическую ценность до настоящего времени только потому, что представляет собой кодекс самых разнообразных и принципиальных требований ко всем медикам. Термин «деонтология» в советскую медицинскую науку и практику был введен в 40-х гг. ХХ в. профессором медицины Н.Н.Петровым. Он исследовал его преимущественно для обозначения реально существующей медицинской практики строгого соблюдения врачебного долга. Сегодня деонтология понимается и принимается медицинскими работниками как профессиональное учение о должном в медицине, о высоком гражданском долге врача – не только перед каждым отдельно взятым больным, но и перед обществом в целом. Между тем, эвтанизация, приводимая к испольнению смертообеспечения безнадежным тяжелым больным медиками, делают их клятовпреступниками. Каковы будут в таких случаях High-Hume?
Одним из ключевых требований медицинской деонтологии считается развитие у врача особо гуманного отношения к личности больного, а также высокой ответственности за все свои действия. Врач призван не только профессионально лечить пациента, но и морально поддерживать его. Конечно философская этика заключается не только в вежливости по отношению к больным. Она предполагает прежде всего высочайший профессионализм – владение искусством врачевания. Профессионализм – это показатель подготовленности медика к ответственной работе, его нравственно-этическая характеристика. Высокий профессионализм определяет личный авторитет врача. Но он не мыслится без умения правильно, уверенно, спокойно обращаться с больным. Личное обаяние, доброта, скромность тоже являются составляющими профессионализм медика. В этом выражается единство кумулятивного и некумулятивного характера развития медицинского мировоззрения. Но с накоплением новых научных сведений происходит качественное изменение нравственно-этического медицинского менталитета. Он получает своё новое философско-методологическое и морально-этическое обеспечение. Это даёт повод мыслящим врачам рассматривать современное развитие практической медицины, теоретизацию медицинского знания сквозь призму философского самосознания. Известно, что прогресс медицинской теории и практики находится в органичной связи с философией и общественной моралью, а также зависит от состояния экономики, естествознания и техники. Каким видится High-Hume в аспекте применения для удержания технологизированной медицины в нравственно-цивилизованных рамках деятельности?
