Сын Пролётной Утки
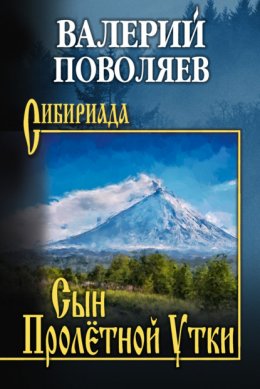
© Поволяев В.Д., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Валерий Дмитриевич Поволяев – известный российский писатель, автор более ста книг. Его произведения переведены на английский, французский, немецкий, арабский, датский и другие языки. По мотивам повестей «Тихая застава», «Место под солнцем», «Таежный моряк» сняты одноименные фильмы. Лауреат премии Ленинского комсомола, Всероссийской премии «Золотой венец Победы», литературной премии им. К. Симонова, А. Фадеева, Б. Полевого, Н. Кузнецова, Г. Жукова и многих других. Награжден орденами Дружбы, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Красной Звезды, орденом Почета.
Сибиряки в «Сибириаде»
Красивое слово было рождено в издательстве «Вече» – «Сибириада». Вслед за запоминающимся словом этим родилась популярная книжная серия, в которой было напечатано много чего интересного: романы, повести, рассказы, литературные исследования человека, обладающего сибирским характером.
Причем мне кажется, что сибиряк, как личность, остается сибиряком всегда, везде, где бы он ни находился, где бы, в какой географической точке ни происходили описываемые события, «привязка по глобусу» не имеет никакого значения. Ведь сибиряк – он и в Краснодарском крае сибиряк, и в Белоруссии с Украиной, и в Турции на отдыхе, и в Сирии, где не так давно был даден крепкий бой террористам, и где-нибудь в Арктике, на обледенелом пограничном островке. Сибиряк интересен везде, всюду, где бы он ни пребывал, везде и всегда.
Автор этой книги Валерий Поволяев довольно подробно исследует характер, о котором идет речь, сам написал для «Сибириады» немало. И вот – его новая книга.
Она состоит из вещей необъемных вроде бы, но в работе трудных – из рассказов. Рассказы всегда считались жанром капризным, непростым в обточке, иногда требующим много времени. Чтобы получилось то, что надо, требовалось набить на пальцах мозоли. Сибиряки в книге – и прямые герои повествования (в большинстве рассказов) и герои косвенные, в действии участия вроде бы не принимающие, но способные создавать психологическую обстановку, нужную автору. Чем автор, собственно, и пользуется.
Не все герои книги, – а их много, – помечены знаком плюс, есть и такие, что несут в себе отрицательный заряд. Причем как человек, свою жизнь связавший с правоохранительной системой страны, знающий не только светлые стороны нашей действительности, но и стороны теневые, хочу отметить, что автор поступает правильно, показывая героев самых разных, во всей их многоплановости… Недаром в книге есть раздел «Новые русские» (назвать раздел «Новые сибиряки» рука у автора не поднялась).
Теперь об авторе, о прозаике Валерии Поволяеве. По происхождению он – сибиряк, точнее – родился на Дальнем Востоке, раньше считавшемся Восточной Сибирью, жил в Свободном – городке на Зее, в Сковородино – узловой станции на железной дороге, ведущей в Хабаровск, в Красноярском крае – на станции Сорокино, потом в Минусинске. Затем перебрался на запад, в нынешнюю Липецкую область, через некоторое время – в Москву. Но везде оставался и продолжает оставаться сибиряком.
Я, как и автор этой книги, – тоже сибиряк. Родился на Байкале, учился и работал в Свердловске, через несколько лет был переведен на работу в Москву, где ныне живу и тружусь. Но в Сибири бываю часто, у меня много учеников и в Улан-Удэ и в Екатеринбурге, поэтому я едва ли не четвертую часть своего времени провожу там… В общем, героев, населяющих эту книгу, я знаю хорошо, вижу их часто – и одних, и других, и третьих.
Словом, «Сибириада» – это мое, как и для многих других читателей, очень близкое, родное, если хотите, и будет родным, близким всегда. Как и всякий сибиряк, он тоже всегда будет земляком моим, желанным в общении человеком, где бы я его ни встретил…
Юрий СКУРАТОВ,доктор юридических наук, профессор,действительный государственный советник юстиции
На фоне синих сопок
Срочный вызов во Владивосток
Силантьев считал, что у него крепкое сердце – столько оно вынесло, столько выдюжило – рвалось-надрывалось, насаживалось на штык, его пытались достать у Силантьева из груди и швырнуть в угли, чтобы запечь, но ничего: сердце все выдержало, работало без перебоев в разную пору – и когда они оставались без еды в занесенном снегом устье безымянной речки и до того докуковались, что уже варили в котелках сосновую мездру, ею, да еще бульоном из коры и питались, и когда ему объявили о втором сроке – ни за что ни про что, и когда он узнал, что оставшаяся на воле жена умерла в полном одиночестве: друзья отвернулись от бывшего капитана первого ранга Вячеслава Силантьева, ставшего врагом народа, родственники – худший вид друзей – тоже поспешили отречься, деньги кончились, хвори и одиночество допекли жену окончательно, и красивая, заставляющая восхищенно обмирать весь флотский Владивосток Вера Сергеевна Силантьева рано ушла из жизни. Силантьеву тоже надо было уйти, но он не мог наложить на себя руки и ночами молил свое сердце, чтобы оно заглохло, остановилось, чтобы горючка кончилась и все питательные проводы оказались перекрытыми, заткнутыми затычками, чопами, пробками, мусором, в конце концов, который способен забить все на свете, но сердце не вняло мольбе хозяина, ослабший организм сопротивлялся и все, что выпало на долю Силантьева, одолел.
Когда было трудно, Силантьев хватал ртом жидкий северный воздух, обжигал им губы так, что они облезали до мяса, сочились красной сукровицей, до одурения глотал комаров и мошку – наелся насекомых на всю оставшуюся жизнь, держался за грудь, за живот свой, боясь, что потеряет какую-нибудь внутреннюю «деталь» – и верно, потери были. Дырка в желудке, проеденная язвой – надо полагать, не одна, рвань и глисты в кишках, протертая до крови двенадцатиперстная, сиплые легкие, хотя легкими он славился на флоте, когда проходили медицинскую комиссию, с такой силой рвал прибор, что вот-вот чуть не опрокидывался, а лица врачей делались изумленными и нехорошо бледнели – этот молодой кап – один мог испортить дорогостоящую аппаратуру, – обмороженные уши, обмороженные пальцы, оттяпанный топором мизинец на правой ноге… Все минусы, минусы, минусы – минусов столько, что всех не сочтешь.
А плюсы? Плюсов только один: отсидевшего с тридцать девятого по пятьдесят четвертый год Вячеслава Игнатьевича Силантьева выпустили на волю, пожали руку и извинились: ни за что, мол, ты, капитан первого ранга, сидел. Но дальше Магадана отлучаться не велели, помогли даже снять каморку в промерзлом, берзинской еще постройки дощанике – какому-то энкаведешному, а точнее, уже эмведешному (министерство внутренних дел образовалось только что) начальнику понадобилось, чтобы все военные люди, имеющие отношение к флоту, находились у него под рукой, никуда не отлучались. Какому именно шефу это понадобилось, Силантьев не знал, а интересоваться его отучили – только и делали пятнадцать без малого лет, что отучали от разных дурных привычек, от любопытства и от желания общаться с другими, от необходимости пользоваться носовым платком, зубным порошком, ногтечисткой, салфетками – слишком много оказалось у Силантьева и ему подобных дурных привычек.
Поселившись в Магадане в каморке, Силантьев долго не мог поверить, что все осталось позади, что он волен открыть дверь, спуститься по гулкой деревянной лестнице вниз, в хорошо протопленный предбанник подъезда, открыть дверь, специально утепленную, обитую старыми одеялами, чтобы хвосты снега не заносило в помещение, и очутиться на улице, – а на улице он волен пойти направо, волен пойти налево, никто не будет дышать ему в спину, щекотать лопатки штыком либо стволом автомата и требовать, чтобы заключенный держал шаг и строго соблюдал направление. «Азимут, яп-понский бог! Р-раз-два! Р-раз-два!»
И нельзя сделать шаг в сторону. Шаг влево, шаг вправо – попытка к бегству, которая будет обрезана короткой автоматной очередью. Длинной тут и не надо, вот так!
Когда холодно и от мороза позванивают кости, звенит замерзшая слюна во рту, звенит одежда – шаг бывает уторопленный. Не дай бог при таком шаге-беге упасть в снег. Это все, конец – прямая дорога к верхним людям. Уж лучше в таком случае шаг влево, либо шаг вправо – все меньше мучиться придется.
Долго не верил Силантьев, что прошлое кончилось, – вечерами, находясь у себя в каморке, замирал, ловя звуки, больше всего боясь, что раздадутся сдвоенные или строенные шаги. Это значит, что идут… вполне возможно, за ним. В нем обмирало, становясь чужим, ненужным все, чем он был начинен, от макушки до пяток. Каждая дырка начинала сочиться кровью – возникала глухая боль, которую ничем нельзя было перешибить, если только другой болью. Но другой боли взяться было неоткуда – у него и так болело все. Куда ни ткни пальцем, на что ни укажи – болит!
Иногда он стоял у окошка, почти прижавшись к замерзшему стеклу и в чистый, специально прожженный монетой кругляшок смотрел на улицу, ловил слабые тени и в мерцании снега отсвет редких фонарей. Света в комнате не зажигал – боялся, что его с улицы засекут и припечатают бог знает какую статью – почище пятьдесят восьмой, хотя чище уже нет: всех, кто проходил по ней, звали фашистами. Это только в книгах, которые были потом написаны, осужденных по пятьдесят восьмой статье беззубо звали политиками, а на деле – фашистами; уголовников, естественно, звали патриотами. Вот «патриот» иногда и скалил зубы на «непатриота», шипел выразительно, с натугой, словно протаскивал сквозь сжим челюстей собственные легкие:
– Фашисты, мать ваш-шу! Придет время – прирежем каждого второго! – И действительно, «патриотам» ничего не стоило перерезать «непатриотов», самое легкое на свете дело – ширнуть хорошо заточенным напильником «фашиста» в бок. За это на фронте даже медали дают. «Странное дело, почему же здесь не дают медалей? – удивлялись «патриоты», когда утром из барака вытаскивали пару скорченных, подтянувших под самый подбородок коленки, уже остывших «фашистов». – Там дают, а тут не дают? Жмется Ус – медалей, видать, мало напечатал».
Если «патриоты» и не произносили такое вслух, то думать думали. Усом те, кто проходил по УСВИТЛу – Управлению Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей, звали Сталина, величали все без исключения, – и статья пятьдесят восьмая, и статья всякая другая, звали вслух, звали про себя, в мыслях, шепотом, в вое и в песне – и отношение к нему у «патриотов» и «непатриотов» было одинаковое.
Но одинаковость взглядов никак не могла примирить «патриотов» с «непатриотами»: «патриоты» делали свое дело и удивлялись, почему же им не дают медалей. Если «патриоты» могли объединиться по одному окрику, поднимались лютой стенкой и были опасны, то «непатриоты», которым сам бог велел объединиться, жили каждый по одиночке, шарахались друг от друга, доносили, если давали бумагу, и слово «Ус» человеку, произнесшему его вслух, не прощалось – такой человек исчезал навсегда.
И не имени у исчезнувшего не было, ни фамилии – все это стиралось бесследно, будто и не жил иной бедолага, только в мелкой, плохо вырытой могиле допревало что-то сваленное в кучку; то, что здесь покоится чья-то душа, подтверждал столбик, на топорном стесе которого черным кузбасс-лаком было начертано «3К №…».
Многое передумал, перевспоминал Силантьев, стоя у затененного закуржавевшего оконца, поверху заросшего снеговой махрой, а понизу гладким льдом, в который на манер фитиля была впаяна тряпочка, протянута через весь подоконник и мокрым хвостом немо смотревшая вниз. Под фитилем стояла консервная банка, в ней собиралась капель, закуржавевшее окно часто таяло, обрастало снегом и снова таяло, процесс был нескончаем, и Силантьев постоянно выливал воду из банки на улицу, «укреплял сугробы».
Надо было устраиваться на работу. Без денег, без картошки, без хлеба и угля в Магадане долго не проживешь. Но кем он может работать в этом городке, главный памятник в котором – ржавый пароход, высовывающий во время отливов сопревшие свои останки из бухты Ногаева? Писарем, курьером, делопроизводителем, сторожем разбитого парохода, бухгалтером? Нет, бухгалтером Силантьев быть не может, не получится, это не по его части, а вот счетоводом – вполне возможно.
Пароход, легший на дно Ногаевской бухты, пришел сюда после войны, в сорок шестом году с грузом динамита, на якорь встал в сторонке – все-таки не мыло с перловой крупой привез. Ночью вода в бухте поднялась гигантской соплей к облакам, взрыв проделал в небе огромную дыру, втянувшую в себя пламя и динамитную копоть. В доброй половине магаданских бараков лопнули стекла, часть вообще осталась без рам и без дверей, – тугая воздушная волна поднимала в воздух бревна, крыши, людей, ящики с мусором и с дерьмом, уличные сортиры, шалманы, в которых торговали чем могли, иногда даже пивом и вяленой корюшкой. Суда, ночующие в бухте, высадило на берег, а якорь, на котором стоял пароход с динамитом, неведомая сила выдернула из воды и запулила на гору, километра за полтора от места взрыва. Пароход раскидало по частям. Из воды и ныне торчит ржавая, ни на что не похожая железяка. В отливы видна еще одна.
В общем, кто-то отгрохал себе достойный памятник. Говорят, была диверсия. Но была не была – поди проверь! Может, действительно похлопотать Силантьеву, чтобы ему дали место сторожа подле ржавых пароходных ребер?
Интересно, кто командовал пароходом – военный человек или гражданский? Впрочем, какое это имеет значение для Силантьева, которому неба бы серенького клочок, да земли чуток под бочок, дикого луку для закуски, еще, может быть, хлебную корку и стеклянную колбочку с малой выпивкой – ну хотя бы граммов сто – сто пятьдесят, не больше, еще чтоб матрас чистый был, нелагерный – в лагерях все матрасы одного цвета, черного, набиты не соломой, поскольку где ж солому-то на Колыме взять, – набиты ветками стланика, с которого хвоя давно уже осыпалась, она вообще осыпается очень быстро, остаются только ветки, бока наминают до волдырей, – и чтоб подушка была тоже нелагерная, и чтоб денег хоть немного имелось, не то очень неохота пухнуть от голода.
А на работу его упрямо не брали – и кто конкретно наложил этот запрет, бывший капитан первого ранга не знал.
В одной конторе потребовался истопник – работа несложная – шуруй кочергой в печке, подкидывай уголек, завезенный с Большой земли пароходом, чаёк регулярно кипяти, вот и все – главное, работа эта теплая, подле печек, которых в конторе было четыре. Силантьева взяли, пообещали отметить в комендатуре и быстро все провернуть, но из затеи ничего не вышло – перед Силантьевым вежливо извинились.
– На нет и суда нет, – произнес Силантьев слишком уж вольнодумно и захлопнул рот рукой, пальцами его снизу подпер: не то он говорит, ой не то…
Пошел в другое место, где была свободна вакансия курьера – это тоже устраивало капитана первого ранга. Всю жизнь мечтал о том, чтобы мотаться туда-сюда с бумажками по городу, от бараков Ногаевской бухты до сторожевых постов Гертнера. Главное, шанцевый инструмент скорохода обещали выдать, обувь – на лето крепкие фэзэушные ботинки с блесткими кнопочками, чтобы не отрывались берцы, на зиму – валенки, подшитые автомобильной резиной, но Силантьеву и там отворот поворот нарисовали: гуляйте, мол, гражданин, дышите воздухом, любуйтесь дивными магаданскими пейзажами.
Силантьев выбрался из конторы наружу и, стиснув коричневые цинготные зубы, втянул в себя воздух, задохнулся – не выдержала грудь, не выдержали зубы, в животе вспух большой стылый пузырь, пополз вверх, под сердце, обжег льдом, и Силантьев в своей худой, изгрызенной мышами и молью военно-морской шинельке скорчился, подхватил живот руками. Постоял немного, ожидая, когда его отпустит.
Отпустило. Силантьев сделал один нетвердый шаг, качнулся, завалился в снег, помог себе одной рукой, зацепился ею за воздух, выбил из груди застойный сгусток, удержался на ногах, сделал второй шаг. Он понял, что его обложили, – до этого посещения сомневался, либо полагал, что есть такие щели, которые не видны с крыши комендатуры, а сейчас осознал, что таких щелей нет – все норки, все щелки, все места, где может двигаться воздух, контролируются.
– А вдруг не все контролируются? – спросил Силантьев с надеждой, глянул в небо, подпертое снизу сугробами, недоброе, серо-гороховое, с изнаночной стороны явно подбитое железом, чтобы никто случайно не пробил пулей, дробью, не проткнул штыком, но какой ответ мог найти Силантьев в небе? Если только что-нибудь унижающее его достоинство, недоброе? Потухшее небо, чужое, ничего хорошего в нем нет.
Никому не нужен на свете Силантьев – ни здесь, в магаданских сугробах, ни дома, на родине, где от него отреклись, чтобы выжить, ни на Колыме, откуда он, как рыбка, скатился в Магадан – будто по реке сплавился, без препятствий и задержек, и Бог ему подсобил – о пороги не разбился. Он отправился домой, слушая по дороге, как уныло подвывает ветер, норовит выдавить глаза, забить ноздри какой-нибудь пакостью, сунуть в рот сорванный с недалекой крыши твердый снеговой обабок, лезет под шинель, шарит по спине, по лопаткам, вытягивает из тела последнее тепло.
Только бы до дома дойти, только бы дотелепаться, перевести дух, сварить кожистого, со шкурой, до гладкого блеска отмытого картофеля. В груди у него возникло ржавое дребезжание, перекатилось в глотку и застряло там. Силантьев не сразу понял, что это смех, шевельнул сморщенными обшелушенными губами:
– А еще в скороходы хотел наняться? Каперанг-каперанг!.. – Добавил примиряюще: – Бывший, впрочем, каперанг, а бывшим многое дозволено, не то что настоящим.
Дома он зажег плошку. Электричества не было. Проверил лампочку, укрытую сверху газетным абажуром – не лопнул ли волосок? Волосок был цел, не порван – значит опять надо переходить на жидкое электричество.
В инвалидном, с выколотым краем блюдце у него была налита судовая отработка – масло, которое идет на слив, черное, с машинной копотью, будто бы замешанное на порохе, – на трех усиках стояла проволочная скрутка с просунутым в нее фитильком. Свет от фитилька, конечно, скудный, на одного человека, книг при нем, конечно, читать не будешь, но все-таки это свет. Растопил плитку – хорошо еще, что уголь есть, целый мешок, – поставил на плитку чугунок с картошкой.
Все равно как бы там ни было – поиски работы надо продолжить. В одном месте слупили по лбу, во втором под глаз навесили фонарь, в третьем тоже навесят, в четвертом перебьют ногу, в пятом помнут ребра, в шестом прокусят ухо, но работу он все-таки найдет. В десятом месте, в двенадцатом, в восемнадцатом!
Хорошо все-таки быть дома. С одного бока потрескивает, гудит радостно плитка, подкормленная несколькими кусками уголька, с другого подсвечивает плошка – тоже живой огонь! Усталость, наполнившая его тело так, что гляди вот-вот выплеснется из горла, малость осела, успокоилась, мути стало меньше, тело потеплело, в груди родился кашель. Силантьев невольно улыбнулся:
– Раз кашель – значит, есть еще жизнь, жив буду. Трупу кашлять не положено.
Уютно в каморке. Хочется думать о хорошем, о Вере. Она – единственная из всех, кто не изменил Силантьеву. Вера могла отвернуться от мужа – врага народа, чтобы сохранить себя, и Силантьев это бы понял и никогда бы не осудил Веру Николаевну, но она не отвернулась от него, погибла – одинокая, без друзей, без помощи, словно бы заключенная в безвоздушном пространстве; на нее, еще живую, натянули белый погребальный саван.
– Вера, прости! – Силантьев поймал себя на том, что когда он отогревается, становится сентиментальным – что-то отходит в нем, оттаивает, из ничего прорезается прошлое – то, что он раньше не помнил и не мог вспомнить, потому что, вспомнив, сразу бы расклеился, ослабел и сдох бы где-нибудь под ржавым лишаистым камнем, уткнув лицо в мох-волосец, сейчас проступало, рождаясь из мутной нематериальной пелены, из которой вроде бы ничего и не должно было рождаться, он даже боялся ее тревожить, – но вот, вышел из-за колючей проволоки, и мерзлота, казавшаяся вечной, поплыла.
Щепочкой, заостренной долотцом, он потыкал картошку – не поспела ли? – картошка была еще твердая, и Силантьев, сглотнув слюну, ощерил истертые цинготные зубы, глоткой – именно глоткой втянул в себя картофельный пар. В лагере, а потом на прииске он не раз слышал, что первое средство от простуды – жгучий картофельный пар. Если болен, то надо дышать этим паром, пока можно терпеть: пусть даже горло облезет, рот сварится, но если ты, зэк, не хочешь сдохнуть, терпи, зэк, дыши.
Тут вроде бы что-то медленно проползло перед глазами Силантьева, этакая прозрачная тень, мошка, выскочившая из глаза, и Силантьев сразу насторожился: кто это, что это? Похоже, сила какая-то нездешняя, недобрая, а может, и добрая, но чужая. Силантьев удивился – откуда в Магадане взяться нечистой силе, и еще более удивился, когда увидел, что это, оказывается, не нечистая сила, а маленький, сморщенный от старости и сурового образа жизни паучок, сползший с потолка на прозрачной слабенькой нитке.
Похоже, у паучка тоже что-то неладно было с легкими – хлебнул холода, застудил внутренности, раз и он решил подышать картофельным паром. А может, паучок несколько дней ничего не ел и решил разделить с Силантьевым скромный ужин?
– Разве ты, брат, способен картошку есть? – спросил Силантьев у качающегося на нитке сморчка. – Нет, тут что-то не то. Пауки, парень, никогда не были вегетарианцами. Им не овощи, им мясо подавай! И ты, брат, не вегетарианец. – Он поддел пальцем паучка, и тот проворно полез по нитке вверх. – Не обманывай, дурашка, людей!
Ни в лагерях, ни на прииске, ни в Магадане Силантьев пауков еще не видел. Возможно, этот господин был пришлый, какой-нибудь знатный путешественник, приплывший на край земли с пароходом из краев жарких, далеких… Силантьев проводил паучка взглядом – тот карабкался на потолок лихо, практику, видать, имел большую.
На следующий день Силантьев попытался наняться рабочим сцены в драматический театр. Заявление у него взяли – сделал это товарищ в полувоенном коверкотовом костюме с отложным воротничком, с глазами, в которых Силантьев не сумел прочитать ничего хорошего, – попросил прийти через денек. Обычное, набившее оскомину, противное «придите через день», или через денек, – важны не слова, важна суть, разницы никакой, этого «зайдите через день» в Магадане так же много, как и снега. Зашел Силантьев через денек, товарищ в коверкотовом френче взял двумя пальцами со стола какую-то бумажку – ну словно навозную муху за крылышки – и протянул Силантьеву. Было сокрыто в этом движении двух розовых безволосых пальцев, в молчании полувоенного коверкотового костюма что-то брезгливое и одновременно недоброе. Силантьев молча взял бумажку, в которой уже распознал свое заявление, не глядя сунул в карман и ушел.
Всю жизнь мы только и делаем, что крушим горы, долбим камень, сбрасываем его вниз, бьем и бьем, а потом вдруг сами оказываемся под каменным ломьем, барахтаемся чуть дыша, если повезет – то и выбарахтываемся и снова начинаем крушить ненавистную плоть. А впрочем, почему ненавистную? Кому как! Есть ли от этой работы польза?
Придя домой, Силантьев сварил три картофелины сразу – запас, который мог растаять в считанные дни, он решил беречь, растягивать, сколько можно, три картофелины – норма для сытого обеда целой семьи по тем условиям, – поел и, поразмыслив, решил поискать в Магадане знакомых, чтобы было на кого опереться, если же их не окажется – заводить новых знакомых. В одиночку он, как пить дать, загнется.
Утром пошел в геологическое управление. Все с тем же делом. Бумажку написал дома, заранее. Работу просил любую – не до жира уже – хоть посудомойкой в столовой. Работы не дали. Не получил он работу и в пароходной конторе – там бывших этапников на службу не брали: грузы, документы, богатства страны в трюмах плавающих судов, на материк золотишко, обратно картошка и сахар, тушенка, крупа, – не-ет, здесь народ нужен проверенный, некривоглазый, руки чтоб нелипкими были, а для таких дел бывшие не подходят, нужны настоящие. Не получилось и на участке, который ставил столбы под электричество вдоль Колымской трассы…
Ослабев, Силантьев хотел дать чуть волю чувствам, рухнуть в постель, но вместо этого сгреб себя в кулак, сжался – впрочем, ненадолго, скоро опять ослабел – надо не в пропасть падать, а думать о том, как выжить, чем питаться, что на зуб класть. Может, попробовать писать заметки в местную газету – к краеведению он имеет вкус, кое-что знает и помнит, а что не помнит – выдумает. Например, как вы считаете, граждане читатели, почему пасмурная Ногаевская бухта называется Ногаевской? Считаете, что по имени какого-то малоизвестного полярного морехода? Любителя шкурить моржей и трескать сушеную картошку с лахтачьим салом? Ничего подобного. Название составлено из двух простых слов «нога» и «Ева» – дальше все обычно, никаких секретов, дорогие граждане читатели, шлите нам письма по адресу…
Оцепенение и слабость проходили, когда Силантьев растапливал плитку, вместе с проворными язычками пламени, от которых по стенкам его комнатенки бегали ясноглазые плоские блохи, подмигивали приятельски – не кручинься, мол, человек, это еще не лихо, лихо впереди – появлялся интерес к жизни, и Силантьев сам себе становился нужным: надо же подкармливать собственную персону картошечкой, да еще помойным невкусным паром лечить горло, полоскать пищевод. Ни разу он к себе не приглядывался, а надо бы приглянуться – вполне возможно, от таких лечебных процедур у него из-под кормы уже дым валит. Грубое предположение, грубая шутка, – никакой критики не выдерживает, а все подпорка для организма – Силантьев невольно улыбался своей грубой шутке, поднимался со странной чуть набок, но очень крепкой табуретки, чтобы подбросить еще уголька в печку.
Табуретчонка та крива от магаданского богатства и магаданской бедности. Леса ведь нет, привозят его пароходами, бараки в Ногаевской бухте строят из обрезков, из обломков досок, – потому не только жилья тут не хватает – не хватает самой необходимой мебели, столов и стульев. На жилье идет главный материал, на мебель обкуски. Табуретка сколочена из обкуска большой доски, а ножки у нее из моржовых… хм, у Силантьева язык не поворачивается, чтобы выговорить, что пошло табурету на ножки. В общем, ножки у нее сколочены из моржовых членов. Половой орган у обитателя северных морей – кривоватая, очень прочная кость. Мускулы, жировая прослойка, вся налипь вывариваются, костяшка остается. Достаточно ее обрезать ножовкой сверху, затем снизу, чтобы табурет не опрокидывался, – и всё, на ножки можно нахлобучивать сиденье.
Моржовая табуретка досталась Силантьеву от прежнего жильца, как достались и остатки угля в черном пачкающемся мешке, который надо бы вывалять в снегу, почистить, но у Силантьева для этого не было сил. Добрый обитал в каморке человек…
Затопил Силантьев плитку, послушал ее обрадованный голос, погрел руки у пламени, сунув их прямо в нутро плитки, подумал о том, что уголь – само топливо, еще есть, а вот растопка – щепки, деревянные опилки, кончаются, это надо добывать. Заботы, заботы, от них не освободиться даже в гробу.
Он не сразу заметил, что сверху на невидимой нитке опять спустился крохотный кожистый паучок, закачался маятником перед человеком – совершенно невесомый, загадочный, ровно бы из другого мира посланный, с булавочными острыми глазками. Силантьев улыбнулся паучку, как старому знакомому.
– Ну, здорово, мужик!
Паучок качнулся на невидимой нитке, будто обезьянка на лиане – он услышал голос Силантьева и среагировал на него.
– Молодец, – сказал паучку Силантьев, – будешь моим приятелем. Пусть у меня хоть один дружок заведется в Магадане.
Паучок против этого не возражал и опять качнулся на тонкой нитке.
– Начнем с малого, а дальше, глядишь, и до человека дойдем.
В это предположение Силантьева паучок тоже верил. Силантьев от тепла покрылся испариной, стянул с себя шинель, повесил ее на гвоздь, вбитый в стенку – вешалки не было, но три гвоздя, специально вколоченные в дерево, были. Обстановочка что надо, комфорт, все удобства, тепло – в эту минуту Силантьев был доволен своей жизнью. Послушал, как хрипит грудь и порвано клокочет дыхание, будто в Силантьеве образовалась прореха и в рвань уходит кислород; вообще-то внутри сокрыта целая музыка: скрипят при малом движении суставы, бухает сердце, выдержавшее за эти годы такое, что не выдерживали железные механизмы, брюхо вообще в любую минуту дня и ночи занято оркестровкой, созданием новых песен и мелодий, кости позванивают, в голове тоже стоит звон, не вытряхнуть его, не изгнать – ну чем не музыкальный агрегат?
Силантьев думал, что паучок исчезнет, вспугнутый его движениями – бывший зэк ведь стягивал с себя шинель, ходил к двери, цеплял на гвоздь, – чтобы паучку сохраниться, надо опасаться, а паучок не исчез, продолжал болтаться на нитке. Наверное, он так же, как и Силантьев, был одинок и любил погреться у огня.
– А-а-а, – догадался бывший флотский командир, – есть ведь такая сухопутная примета: раз паук с потолка спускается – значит, жди известия. Письмеца, например! – Хоть и неоткуда было ждать писем Силантьеву, а догадка взбодрила его. – Примета распространяется не только на пехоту и артиллерию, но и на военно-морские силы. – Силантьев поклонился паучку: – Спасибо, друг!
Поблагодарил, а сам взгрустнул, на лицо, и без того выпаренное, изможденное, темное, со старческой гречкой на висках, хотя Силантьеву исполнилось всего сорок три года, набежала тень – была бы жива Вера – были бы и письма. Но Веры не было, родных тоже не было, большая родина опустела для Силантьева – конвертов с посланиями ждать ему неоткуда – мда, не существовало на земле щели, из которой мог бы выпасть конвертик с именем Силантьева «во первых строках». Если только племянник по неопытности лет пошлет какую-нибудь поздравиловку, но за это ему братан – племянников папа так уши надерет, что тому всю грамоту придется изучать снова. Вообще-то и мать ему может написать, и второй брат, и тетка, которой он помогал, доставая путевки на воды, когда у нее опухали ноги, снабжал деньгами, потому что, потеряв мужа, она совсем расклеилась и даже полезла было в петлю, но Силантьев ее спас – не-ет, для всех людей он потерян. Ждать писем неоткуда. Силантьев огляделся с горькой улыбкой: врунишка, этот крохотный кожистый паучок…
Паучка уже не было, он, втягивая в себя нитку, втащился на потолок и там затих. Силантьев глазами прошелся по темному верху, пытаясь найти паучка, но потолок имел столько щелей и стрельчатых сухих расколов, что найти крохотного жильца было невозможно.
Паучок не наврал – вот ведь диво, Силантьев сам это отметил и невольно встревожился, сердце обварило снизу холодом, по худому, сплошь в соляных наростах хребту покатился пот: ему пришло письмо. Официальное. С военным треугольным штампом – в/ч такая-то, отпечатанное на хорошей лощеной бумаге. Силантьев один раз прочитал – не поверил, не было у него веры ни во что и в письмо в том числе, не поверил и после второго и третьего прочтения, не поверил и после четвертого. И главное, разведку негде провести, некому его показать – письмо-то флотское, пришло из города, в котором он стал каперангом, – оттуда же, прямо с корабля, едва он вошел в гавань и бросил якорь, чтобы отдышаться, отправили в Ванино; взяли прямо в каюте, ножом состригли с рукавов золотые шевроны, из околыша фуражки с мясом выдрали краб, и Силантьев перестал быть капитаном первого ранга – все случилось в том городе…
Силантьева приглашали во Владивосток, в штаб флота. Он не мог поверить в это – розыгрыш! Но для такого розыгрыша нужно слишком хорошее обеспечение и, извините, хорошее прикрытие, чтобы розыгрыш не завершился печально. Силантьев потрясенно стиснул руками лицо, сгорбился на моржовой табуретке, размышляя, как же быть.
Ему надо было прийти в себя, в успокоенном состоянии все взвесить – с тридцать девятого года он здорово подрастерял былую решительность, даже пыли той, пожалуй, не осталось, все вымыто, выскоблено, высушено и пущено в расход. Силантьев переродился, качественно сделался другим.
С жалостью, со слезами, наплывшими на глаза, он оглядел свою одежду и снова сгреб в руки лицо – в такой же одежде стыдно ехать: город Владивосток знал ведь другого Силантьева, и костюмы на нем были иные – не тряпье, что сейчас, а настоящие костюмы.
Ночь проворочавшись без сна и кое-как поднявшись утром, Силантьев побрился, оглядел в зеркальце свое лицо – можно ли с таким портретом появляться в приличном обществе? – остался недоволен собою, но это на решение его не повлияло – Силантьев собрался ехать во Владивосток.
Путей во Владивосток было два: один подольше и подлиннее, другой покороче по времени и по километрам – какой избрать? Один – это пароход, поскольку ледокол уже проломил лёд и в Магадан пришла первая посудина, другой – самолет. Но самолет ходит нерегулярно и может застрять из-за непогоды, поэтому пароход будет надежнее – это раз и два – пока он будет плыть – малость придет в норму, обвыкнется, перестанет чувствовать себя зэком, дичиться и обращаться в тень при виде человека, которого он каждый день видел все эти годы – в разных, правда, лицах, но все равно человек этот был один, да и лицо его, в общем-то, было одно: сосредоточенно-угрюмое, неприступное, взгляд быстрый, всё засекающий, обожгут глаза бедолагу-зэка и тут же нырнут вниз, эти люди зря свою энергию не расходуют, – и которого он мог отличить из тысяч других, узнать, какой бы костюм энкаведешник не натянул на себя, хоть халат последнего российского царя.
Другое было важно: поездка во Владивосток – это перемена в его жизни, в худшую или в лучшую сторону – вопрос номер два, но во всех случаях это перемена, санитарная обработка, чистилище, из которого он выйдет иным.
Будь что будет!
Когда пароход пришел во Владивосток, на причале – владивостокский причал уже по-модному, по-граждански именовался морским вокзалом, – Силантьев увидел нескольких людей в черных укороченных плащах с золочеными пуговицами и с золотыми погонами, окинул взглядом свою замусоленную, жалкую, но такую верную шинельку, со странным спокойствием отметил, что его парадная одежда здорово проигрывает – и нет бы ему устыдиться своей одежды, но он на этот раз не устыдился, все в Силантьеве уже перегорело. Подумал, что надо будет спросить у этих блестящих морских командиров, на старом ли месте располагается штаб флота, или уже переместили на другую улицу, потом понял, что вряд ли командиры ответят оборванцу, да и тайна ведь это – место расположения штаба Тихоокеанского флота, большая военная тайна.
По трапу сошел вниз, глянул повлажневшими глазами на гору, рассечённую улицей, круто поднимавшейся вверх; по левую сторону улицы стояли нарядные деревянные дома с высокими каменными фундаментами, по правую сторону несколько домов уже было снесено, на этой улице он бывал когда-то не раз, а названия уже не помнит. То ли Флотская эта улица, то ли Советская, то ли Ленинская, то ли Коммунистическая – ну, убей бог, не помнит! На этой улице жил силантьевский однокурсник капитан второго ранга Вася Воробьев. Хорошо, что хоть Васину фамилию он помнит, хотя лицо его время и Колыма уже вышелушили из головы, как и лица многих других силантьевских друзей. Силантьев пальцами стряхнул с глаз влагу – морось всё это, капель от волн, от тумана, что-то простудное, что можно изжить таблетками и порошками, но не слабость.
Где находится штаб флота, он лучше спросит у какого-нибудь работяги, попахивающего пивом и вяленой камбалой – у своей ровни. И все же Силантьев не удивился, когда от группы блестящих морских офицеров отделился капитан первого ранга, шагнул навстречу трапу, с которого спускался Силантьев, вскинул руку к фуражке:
– Товарищ капитан первого ранга!..
Не выдержал Силантьев – издевательство, форменное издевательство, ему плюют прямо в лицо, тряхнул себя за воротник шинельки, перебил:
– Неверно! Бывший заключенный номер… – хотел назвать свой номер, но сдержал себя: лицо встречающего каперанга сделалось виноватым, каким-то больным, каперанг еще плотнее прижал пальцы к фуражке, для этого ему пришлось вздернуть локоть чуть ли не до плеча, беззвучно шевельнул ртом, укоряя Силантьева за то, что тот перебил его – ведь ему и так трудно и стыдно перед Силантьевым, он действительно чувствовал себя виноватым, хотя в чем он виноват, не знал. Когда Силантьева забирали, этот каперанг только с книжками по коридорам военно-морского училища бегал, лишь к войне стал лейтенантиком, и сразу угодил в котел с таким ревом, что… Нет названия тому, что это было за варево, слов не хватит, чтобы его описать.
Но зэков ведь так же убивали, как и солдат на войне, убивали даже до суда, едва проведя первый допрос, и после него, когда арестованному объявляли приговор – десять лет ни за что ни про что, уводили вроде бы в камеру для отсидки, а ночью стреляли из пистолета в затылок.
На прииске рядом с Силантьевым две недели шуровал лопатой молчаливый, полузатравленный старик – работник московского крематория. Однажды он разжал рот и рассказал, что тридцать седьмой и тридцать восьмой годы эта большая столичная печь работала только на Лубянку. В день привозили по тысяче тел, еще теплых, с пулевыми пробоями. И кого там только не было! Как дымила печь в годы последующие, старик не знает – его уже взяли…
Сообщил старик это и рот на замок захлопнул, но было поздно: рассказ его слышали четыре человека. На следующий день дед исчез с прииска. Старика заложили и Силантьев знал, кто это сделал. Быть может, ему повезет и он когда-нибудь встретит стукача… На совести этого человека не только один старик. Ад аду – рознь. Несмотря на то что зэки гибли на трудовом фронте так же, как солдаты на фронте боевом, они были лишены одного, самого главного – свободы.
Нарядный боевой каперанг сообщил Силантьеву, что его ждет машина. Это была кремовая «победа» с бархатными чехлами на сидениях и строгим старшиной первой статьи за рулем. Силантьев решил покориться тому, что происходит, и больше не возникать, не выступать с речами, насупился, замкнулся, уловив одеколонный аромат, шедший от морского командира, сидящего рядом, – судя по погонам, капитана, стало быть, третьего ранга, подумал, что от самого него тянет не таким ароматом – несет запахом беды, пота, болезней, тяжелой работы, неустроенного быта и разрушенной жизни – чем еще может пахнуть Силантьев? Ему было любопытно, во что же превратился Владивосток за эти годы, но нахохлившийся, погруженный в себя, прикрытый от улицы углом вздернутого воротника, он только краем глаза захватывал Владивосток, отмечал какой-нибудь каменный дом с магазинной вывеской, кусок брусчатки с врезанным в камень водопроводным люком, либо темное деревянное строение с белыми, тщательно подправленными наличниками, – частное жилье, ничего не узнавал, хотя все это стояло тут и раньше, и неясный, встревоженный, поднятый откуда-то из глубины, со дна душевного, туман возникал в нем, холодил его, в сердце горсткой стылой земли лежала тоска, тяжелила тело. Капитан первого ранга рассказывал что-то по дороге, крутил рукоять окна, опускал стекло, тыкал пальцами в разные строения, в тесную бухту, битком набитую всевозможной посудой – тут были и военные корабли, и рыболовецкие, и чумазые, с низкой посадкой наливники, и торгаши, и ржавые буксиры, густо обвешанные по ботам старыми автомобильными колесами, – это единственное, что узнавал Силантьев. Он гулко сглотнул слюну.
Разместили Силантьева во флотской гостинице – номер был двухместный, большой, с коврами и темной полированной мебелью, рассчитанный не менее чем на адмирала. Не снимая шинели, Силантьев устало опустился в кресло и задумался. Когда он приплыл сюда, не был усталым, наоборот, – был взбодрен, душа его была наполнена глухим томленьем, ожиданием – он не знал, что с ним будет, и вообще, что значит этот вывоз. Раньше ведь не единожды случалось, что человека приглашали в гости, а из-за стола уводили прямо в «черный воронок».
Оглядел номер, усмехнулся печально – роскошь, а он отвык от роскоши. Отвык от той жизни, от общения, от нормальных людей, стал чужим этому миру. Если все образуется, надо будет заново учиться ходить. Впрочем, было бы здоровье. Надо чинить желудок, легкие, кишечник, все, что испорчено, продырявлено, изожжено, простужено, покрыто свищами и язвами. Хорошо, что хоть сердце не тревожит, если еще и сердце будет в свищах, – тогда все: надо заказывать оркестр из профессиональных жмуров и готовиться к торжественному движению пятками вперед.
Назавтра Силантьева пригласили в штаб флота. Силантьев как мог приготовил себя, трижды выскоблил щеки безопасной бритвой – опасной бриться уже не мог – дрожали пальцы, он боялся располосовать себе лицо, наваксил ботинки, но сработаны они были из такого материала, что чисть их, не чисть – бесполезно, все равно будут выглядеть так, будто только что побывали в грязи: ни лоска, ни блеска, вытряс пиджак, на брюки навел складку, поглядел на себя в зеркало и закусил губы. Из зеркала на него смотрел угрюмый, исчерканный резкими, почти черными от того, что были так глубоки, морщинами старик. Седой, с недобрыми беспокойными глазами и плотно сжатым ртом… Но лицо – бог с ним, лицо ладно: что Бог вытащил из своей котомки и приляпал человеку, то и надо носить, больше задела одежда – на Силантьева из зеркала глядел какой-то ряженый.
Пиджак был непомерно велик, все время норовил сползти с плеч – Силантьев просто просовывался в одежду, как человек, не имеющий форм, лацканы были безнадежно смяты, попытка выровнять их утюгом только усугубила дело – лацканы заблестели неряшливо – так блестит шелковая ткань, и это для шелка нормально, но когда блестит «пе-ша» – полушерстяная материя, из которой был сшит силантьевский пиджак, – это удручает, рукава у пиджака были коротки – красные, пожжённые морозом кисти рук далеко высовывались из обшлагов. Единственное что – брюки хорошо держали стрелку, о стрелку, как принято говорить в таких случаях, можно было обрезаться. Из собственной одежды – той, что была у Силантьева в день ареста, осталась только шинель, старая шинелька эта висела у него в каюте, в шкафу, на всякий случай, и когда Силантьева уводили с корабля, он, даже не думая, что шинель может пригодиться, взял ее с собой.
Губы у Силантьева шевельнулись: знал бы – шубу барашковую, командирскую, с кожаным верхом прихватил бы… Впрочем, в той шубе и погибель силантьевская могла бы быть. Если б шубейка приглянулась кому-нибудь из лагерного руководства, из конвоиров, либо из уголовных «папаш», вряд ли бы Силантьев сейчас мучился и стыдился своей одежды – он давным бы давно уже отмучался.
Принимал Силантьева адмирал, имя которого гремело по всем флотам еще до войны – одно время, правда, угасшее, словно бы с адмиралом произошло то же самое, что с Силантьевым, но слава богу, видать, не произошло, раз адмирал находился на коне – человек жесткий, волевой, беспощадный в крупном и в мелком, в первую очередь беспощадный к себе, одетый в белый китель со стоячим воротником. Владивосток – не Магадан, город стоит на широте Сочи, весна и лето здесь душные, одежда должна быть тонкой, – и Силантьев снова ощутил неуклюжесть и тяжелую ветхость, неудобство своей одежды, почувствовал, что у него дрогнул правый глаз, а в висках потеплело, будто туда натекла подогретая вода.
Адмирал шагнул из-за стола навстречу Силантьеву, поздоровался за руку, потом неожиданно склонил перед ним голову:
– Флот просит прощения, Вячеслав Игнатьевич, за то, что не сумел вступиться за вас, – голос у адмирала был виновато-тихим, как голос всякого человека, знающего, что такое боль, в чем в чем, а в этом Силантьева обмануть было нельзя, он научился разбираться в голосовых оттенках, в разных тонкостях поведения человека и фальшь ощущал на расстоянии, не только вблизи.
– Что вы, что вы, гражданин адмирал, – пробормотал Силантьев, чувствуя, что сейчас не выдержит. Глаза у него по-прежнему были сухи, лицо окаменелое, рот неподвижный, но ему показалось, что где-то в стороне, очень недалеко, в этом же кабинете он услышал стон. Чей это был стон – его собственный, адмирала или кого-то из офицеров, находящихся здесь же, в кабинете?
– Гражданин… – проговорил адмирал и еще ниже опустил перед Силантьевым голову, вздохнул: – гражданин…
– Простите! – взяв себя в руки, произнес Силантьев.
– Моя личная точка зрения такова: раз флот не сумел отстоять своего офицера – значит флот виноват перед ним. Если ты веришь или верил в него, если считаешь – навели напраслину – стой за офицера до конца, стучись в любую дверь, но отбивай… флот не отбил вас, Вячеслав Игнатьевич! Не сумел, – голос адмирала сделался глухим. Силантьев подумал, что адмиралу трудно говорить. Не хватило у флота сил, смелости, убежденности… Не знаю, чего еще не хватило, но не хватило. Видать, время в том виновато – время, и мы, люди… Потому что не смогли отстоять правых. – Адмирал поднял голову, взгляд у него был твердым, глаза усталыми, от усталости у него даже чуть опухли веки, набрякли чем-то водянистым: видать, от перегрузки у адмирала действительно болели глаза.
Адмирал молчал. Силантьев почувствовал вдруг, что у него громко забилось сердце, отозвалось звоном в висках, звоном в затылке и ключицах, ему захотелось тоже что-то сказать и в свою очередь покаяться, но не было слов – те слова, что сохранились у него в запасе после Колымы, никак не годились для объяснения с боевым адмиралом. У Силантьева занемели пальцы на ногах – мороз вволю поиздевался над ними, стали чужими руки, сердце забилось сильнее обычного.
Никогда ни в чем не был виноват Силантьев – он знал, что в конце концов наступит момент и истина восторжествует – верно в народе говорят: «Правда болеет, но не умирает», все определится, займет свои места – то, что соответствует истине, и Силантьеву скажут: «Не виновен», и все возвратится на круги своя, но он никогда не думал, не предполагал, что возвращение «на круги своя» будет именно таким. Не хватало еще расплакаться. А Силантьев чувствовал себя слабо. Ноги не держали его, подгибались, суставы немощно поскрипывали, в глотке собралась влага, руки сделались такими тяжелыми, что не поднять, – ему бы стул сейчас, посидеть на нем немного, отдышаться… Хорошо, что хоть сердце отзвенело – прошлось стоном по телу, нехорошо сжало виски и затылок и утихло.
Лицо у Силантьева сделалось влажным, платка в кармане не было – не обзавелся пока. Адмирал повернулся, кивнул одному из офицеров, прося что-то, – к адмиралу подошли сразу трое, и Силантьев не поверил тому, что увидел, это было похоже на сон, на сказку – ему мигом стало жарко, и он, не считаясь уже ни с чем, ладонью стер со лба пот, приподнялся на цыпочках, будто хотел сделаться выше, но не удержался, гулко ударил каблуками ботинок по паркету. К нему подскочил офицер – самый юный в свите лейтенантик с цыплячьим пушком на скулах, поддержал под локоть.
– Не надо. – Силантьев, которому сделалось неудобно за слабость, потряс головой, будто хотел проверить, сказка это или явь. – Я не девушка.
– Извините! – Лейтенантик проворно отскочил к стенке.
Один из офицеров держал в руках новенький парадный китель с золотыми погонами – черные канты, два черных просвета, золотая пуговица с якорьком и три рубленых, с высокой обортовочкой каперангских звездочек, у другого на руках был сложен черный флотский плащ, поверху красовалась фуражка с крабом, третий держал коробочку с орденом. Силантьев невольно отметил, что орденскую коробку офицер держит, будто атласную похоронную подушечку, на которую, когда хоронят большого человека, насаживают медали и ордена, но не узрел в этом ничего худого, хотя рот его предательски дрогнул, потерял твердость, приглядевшись, он вдруг узнал свой собственный орден, старого еще образца, без верхней колодки, на которую натягивается бело-красная двухцветная лента, с винтом. Он даже номер своего ордена помнит до сих пор, этого из него не могла выбить Колыма, как помнит и номер личного оружия – старого тяжелого маузера в роскошной деревянной кобуре, обтянутой черной козлиной кожей, – Силантьев подозревал, что по почтенному возрасту своему маузер мог принимать участие в Гражданской войне – и наверняка принимал, если только не валялся на складе, а уж коли принимал, то на чьей стороне? Оружие было точное, с верным центральным боем, с сильной курковой системой, почти без отдачи, что для маузера – штука редкая. От выстрела маузер иногда так подскакивает, что мушкой стрелок может угодить себе в лоб.
Не думал не гадал Силантьев, что награда, данная ему за участие в боях на озере Хасан, вернется – думал, что орден давно уже пошел на переплавку, либо в обновление, где номер с него аккуратно счистили и нанесли новый, эмаль подплавили, серебро посеребрили, золото позолотили и выдали другому герою, а Силантьеву уже никогда не дано будет встретиться с ним. Он попытался отвести взгляд от ордена, но не смог – глаза мертво припаялись к коробочке.
– Это флот вам возвращает, – произнес адмирал негромко и не наделяя свои слова никакой торжественностью, – вам, товарищ капитан первого ранга… Простите за все, что вам довелось пережить. Понимаю, там, – адмирал приподнял брови, поймал глазами свет, – было потруднее, чем тем, кто находился на фронте, – жгла обида, допекали боли, отчаяние, избиения, вопросы «за что?» – за что арестовали, за что держат в лагере, за что уродуют на приисках, хотя наверняка могут использовать по специальности, за что сводят счеты? Тысяча раз «за что?». Но если бы знать – за что? Ни мы не знаем, ни вы, – чувствовалось, что адмирал с трудом подбирает слова – слишком необычным делом он занят, никогда таких речей не доводилось говорить, – выступал все больше по части боевой, для поднятия духа храбрых моряков, – да, не привык адмирал, глаза напряженно сужены, будто он смотрит в прорезь прицела, лоб рассечен прямой, словно бы вычерченный по линейке складкой, на висках – капельки пота: жарко было не только Силантьеву – жарко и хозяину кабинета в его тонком кителе. – Но главное при всем том, Вячеслав Игнатьевич, не обидеться на родину свою, на власть нашу – ни земля, ни власть перед вами не виноваты. Виноваты конкретные люди, от имени земли и власти действовавшие, но они еще – не земля наша и не власть наша. Главное – не ожесточиться, не замкнуться, иначе – конец. У каждого времени есть свои правила, устоять перед которыми невозможно – никто пока еще не смог, потому что у правил времени нет исключений. А чтобы устоять, вы сами понимаете, кем надо быть…
Силантьеву вручили китель с золотыми погонами, офицерскую амуницию, причитавшуюся капитану первого ранга по списку, ничем не обошли – выдали даже новый кортик с костяной ручкой и лаковыми ножнами. Силантьев приехал в гостиницу оглушенный, вялый от того, что устал, сердце, до этой минуты спокойно работавшее, не подававшее сигналов тревоги, вдруг стронулось с места, нырнуло вверх, повело себя лихо – Силантьев, чтобы управиться с ним, втянул сквозь зубы воздух, задержал дыхание – с сердцем своим он, в конце концов, справится, не подвело бы тело, – руки-ноги, которые отказывают ему, не повинуются – руки, вон, висят, как плети, еле коробку с формой дотащил до номера, не подвели бы легкие с надсеченными верхушками и продранные в нескольких местах кишки. Но все равно день нынешний, адмирал, трудная речь его – все это уже вошло в Силантьева, разместилось в нем, в голове, в естестве, и будет жить до последнего предела. И если раньше Силантьев не боялся смерти, даже напротив – часто ждал её, как единственное избавление от мук, от Колымы и пакостливого обращения охраны и начальства прииска с теми, кто вручную из стылой воды выуживал зеленые невзрачные крупинки золота, то сейчас он будет бояться смерти, поскольку стал нормальным человеком. Таким, как все.
Но чтобы жить, как все, ему слишком многое надо сменить – кровь, кожу, кости, надо сменить воздух и воду. Он уедет из Магадана в какое-нибудь райское место, где всегда тепло и отогреется хоть немного.
Что-то заставило его подняться и выглянуть в коридор – внутри ровно бы прозвучал звонок, Силантьев услышал усталые шаркающие шаги и понял: идет человек, еще один человек, которому плохо, который никак не может разобраться в себе самом и в происходящем, смят, перетрясен, словно старый матрас, из которого выбили пыль, лежалые сплюснутые комки ваты равномерно раздергали, он вывернут наизнанку, как вывернут и Силантьев, и может, ему нужен собеседник, утешитель, пастор, чтобы вместе прочитать молитву, – что ж, Силантьев готов стать собеседником, и пастором, готов, если понадобится, выслушать признание в грехах и отпустить их покаявшемуся.
По коридору двигался седой, с надсаженным дыханием старик, щупал пространство перед собою новенькой, пронзительного сливочно-желтого цвета палкой, другой рукой он загребал воздух, будто пловец. Что-то важное было перебито в этом старике – кость ли, нерв ли, – он старался двигаться прямо, но прямо не получалось, его все время заносило в сторону взмахивающей руки, через каждые два шага он вносил поправку в свою походку, разворачивал корпус и делал шаг в сторону – старик, как корабль с испорченным рулем, двигался углами. И что интересно – на этом дряхлом, разбитом старике, которого не то чтобы до корабля, до будки охранника, преграждающего дорогу на пирс, нельзя было допускать, чтобы из-под ног его случайно не выскользнула земля и не оказался корявый кривой шаг последним в его жизни, – красовался китель с золотыми флотскими погонами. Два просвета, две звезды – капитан второго ранга. Силантьев не мог утверждать, что был знаком со стариком, но в том, что когда-то его видел, уверился сразу.
Тесна земля, тесен мир, стежки-дорожки везде узкие – не только земные, но и морские. Душная волна поднялась в Силантьеве – она накатила на него из прошлого, из доколымского еще времени, когда жизнь была безоблачна и все цели ясно видны, Силантьев был молод и этот старик, вероятно, тоже был молод, хотя вряд ли когда трясущаяся седая голова с клочковатыми щетинистыми бровями была молодой. Из проваленного беззубого рта вырывался сырой птичий клекот – с дыханием у этого ровесника адмирала Ушакова, как и у самого Силантьева, не все в порядке.
– Славка! – вдруг просипел старик, выронил палку и сделал два кривых шага к Силантьеву. – Славка!
Боже, кто это может быть? Силантьев приложил руку ко лбу на манер былинных богатырей, чтобы получше рассмотреть старика.
– Славка! – в сипе старика послышался обрадованный треск, он закашлялся и остановился, положив на грудь руку, в которой только что держал палку, – словно бы сам себя остановил, потом, по-птичьи коротко взмахивая свободной рукой, будто крылом, нагнулся, потянулся за палкой. – Ты не узнаешь меня, Славка?
– Простите, нет, – растерянно пробормотал Силантьев.
– Ах ты, гад какой! – Старик скрипуче, будто глотку свою никогда ничем, кроме кипятка и водки, не смазывал, рассмеялся. – Ну и гад же ты! Тебя ведь тоже с таким трудом узнать можно. Если только по гордому поставу головы, а так от знаменитого сердцееда Славки Силантьева ничего не осталось. Если только, извини, чирка… Да и то, вероятно, она уже из другого материала, из теста слеплена. Извини меня, Славка! – Старик выпрямился, махнул палкой о пол и плечи его расстроено дернулись.
– Кто вы? Или кто… ты? Я уж не знаю, как можно звать, на ты или на вы?
– На ты, Славка, на ты. Забыл, как у меня бывал в гостях, забыл, как под холодное шампанское вместе ставили хрусталь – под каждую бутылку новый. Ты ведь любил пить шампанское из хрусталя?
– Любил, – неуверенно ответил Силантьев. Он пока не мог понять, кто же этот старик? Боевой сподвижник адмирала Ушакова был ему знаком, но кто он? Может, сошел со страниц учебников истории?
– Забыл, как мы вместе пели под гитару. Ты сочным баритоном, работая под цыганского барона, а я… я уж не знаю, под кого пел я. Голосишко у меня был не в пример твоему – жиденький.
– Все, я узнал тебя. И голосишко твой был не жиденьким, не прибедняйся, он был очень даже ничего, женщины загадочно шептались, слушая, как ты поешь. У тебя был успех, у меня – никакого.
– Моя фамилия – Воробьев, – сказал старик.
– Я узнал тебя, узнал. – Силантьев сделал короткий шаг навстречу старику. Он понял, насколько безнадежно постарел и сносился он сам – никто из тех, кто окружал его в пору молодости не узнает – и не время, а точнее, не только время сделало его таким – увидев Воробьева, он словно бы внезапно столкнулся с самим собою после четырнадцати лет разлуки. Впечатление было удручающим. Неужто он тоже такой?
Да, такой!
Он прижал к себе Ваську Воробьева, сдавил его, что было мочи, уронил голову ему на плечо и чуть не задохнулся – так безжалостно накатило прошлое, похлопал Воробьева по спине, тот похлопал по спине Силантьева, Силантьев похлопал его – всё в эти хлопки вместилось, не надо было никаких слов – тут и нежность была, и слезы, и горечь, и радость, – непонятно только, почему так тихо кругом, почему рты им не сводит судорогой, почему сердце ни у кого их них не рвется на куски? Воробьев мог не рассказывать о себе – и так все было понятно: его, как и Силантьева, вызывали в штаб флота по тому же самому делу.
– Кто-нибудь из твоих родичей жив? – спросил Силантьев.
– Возможно. От меня все отказались.
– И жена?
– И жена.
– А моя Вера… моя Вера… – Голос у Силантьева задрожал и Воробьев, старый нежный кореш и братан, все поняв, постучал ладонью по спине друга:
– Не надо, Славка! Но поверь мне в одном, уже опробованном на сотнях шкур таких людей, как ты и я: куда тяжелее бывает, когда хоронишь человека живого. Он жив, он ест, пьет, танцует, читает книги, плавает по морям, зарабатывает деньги, он дышит и исправно бегает в сортир, а его нет – он для тебя мертв, потому что предал… Таких людей тоже надо хоронить, а хоронить их тяжелее, чем тех, кто действительно перестал существовать. Физически, так сказать.
– Да, живых хоронить тяжелее, чем мертвых, – эхом откликнулся на это утверждение Силантьев: он соглашался с Воробьевым и в ту же пору никак не мог согласиться с ним, поскольку потеря одной только Веры для него куда крупнее, чем всех родственников, вместе взятых. – Я бы с тобой согласился, если бы сам похоронил Веру, если бы сам бросил землю на крышку гроба, как бы это ни было тяжело, – с затаенной болью, но голосом вполне спокойным, даже отгоревшим, произнес Силантьев, повторил: – Как бы это ни было тяжело. Но Веру похоронили чужие люди, я в это время сидел.
– Меня взяли через неделю после того, как взяли тебя. Дома, ночью, тепленького. Перевернули квартиру вверх дном, искали личное письмо японского микадо – естественно, не нашли, поскольку я его надежно спрятал. – Воробьев не удержался, сиплый голос его снова разлезся по шву, послышался треск, хлюпанье, на одно сипенье наложилось другое, мокрое, кашельное. – Так у меня на все эти годы осталась картина домашнего содома. Как закрою глаза – так она и встает передо мною, словно лист перед травою. – Ты знаешь, а я домой, на свою квартиру ездил, – сообщил он доверительно.
– Ну и что?
– Живут совершенно неведомые люди. Наверное, хорошие, я в этом нисколько не сомневаюсь, а гражданин Воробьев уже нигде не значится – о гражданине Воробьеве они и слыхом не слыхивали, не говоря уже о том, чтобы видеть. Вот так. Ты к себе домой не ходи, Славка.
– Почему?
– Не ходи, и всё! Прими совет старика.
– Ладно, принимаю.
– Из всех наших, кого забрали, в живых осталось только пятеро. Пять человек, ты знаешь об этом? – И уловив отрицательное движение Силантьева, Воробьев гулко ухнул палкой об пол, показывая, где находятся остальные: – Никого больше не нашли.
– Родственники отказались от нас, чтобы выжить. Ты винишь их в этом?
– Виню, – просипел Воробьев. – А ты?
– До нынешнего дня винил, сейчас нет. Им не дано было выжить, если бы они не отреклись от нас.
– Пустой разговор, Славка, – проскрипел старик, снова бухнул палкой об пол, – не защищай их! – Он подергал рукой в воздухе, удерживая равновесие – в Воробьеве действительно было что-то нарушено, слишком заметно сбито набок, и Силантьев спросил напрямую:
– Что это у тебя?
– Нарушение вестибулярного аппарата.
– Лечиться пробовал?
– Бесполезно. На тот свет с самыми разными хворями берут, никому не отказывают – хоть с грыжей, даже если она величиной с тыкву, хоть с дыркой в башке, из которой еще не вытекла кровь, хоть с рассыпавшейся печенью, и чего уж там говорить о каком-то вестибулярном аппарате.
Они стояли посреди коридора и, собственно, им не надо было даже говорить, им важно было ощущать друг друга, слышать – и пусть их разговоры ничего не значат, пусть это будет пустой трепотней, им важно было осознавать, что они еще живы, дышат, скрипят, плюют в воздух, и настанет время – плюнут в тех, кто закатал их в лагеря.
Силантьев поверил вдруг, что все может возвратиться – даже детство с его радостями, снами, запахами, играми и песнями, и как только он почувствует, что все это действительно вернулось, наметит точку отсчета – новую, нулевую и от нее, как с нулевого этажа, с фундамента начнет свою жизнь по второму кругу. И плевать, что износилось тело, здоровье ни к черту, что в нем самом нет ничего непомятого, неискалеченного, живого, целого – плевать на все это. Он не сделал никаких открытий ни в своей военной, ни в своей лагерной жизни, кроме одного: есть вещи посильнее смерти, побоев, напраслины и позора, но это открытие скорее относится к области глубокого копания, ковыряния в душе собственной и в душах чужих: теперь он сделает другое открытие. Надо только собрать все свои силы, напрячься, пораскинуть тем, что у него осталось, здоровьем и мозгами, и взяться за дело. Он должен оставить на земле память. О себе, о Вере, о своей фамилии. Не тем, что провел столько-то времени на Колыме, не военным своим прошлым, пусть даже отмеченным орденом, не той встречей, а чем-то таким, что он еще не определил – открытием ли, книгой ли, кораблем ли, новой формулой ли, либо еще чем – пусть последнее десятилетие его жизни будет озарено светом.
И не важно, что он находится под присмотром магаданской комендатуры – с нею он справится, у него теперь есть форма, которую он может носить, есть почетный боевой орден, который он прикрутит к своему кителю – он принадлежит теперь жизни, а не конвою, холоду и смерти, он отстоит теперь право числиться в этом мире. Услышал собственный зажатый стон – будто закусил его зубами, пытаясь удержать, но тот, верткий, выскользнул – Воробьев тоже услышал стон Силантьева, откинулся назад. Подглазья у него были мокрыми. Эх, милый друг – не по Мопассану, – действительно, милый, так кстати и так хорошо напомнивший Силантьеву прошлое. Теперь у Силантьева есть силы.
– Извини, – сказал Воробьев, и подбито помахав в воздухе одной рукой, словно птица, в которую на лету всадили заряд дроби, отер пальцами лицо. – Извини, Славка.
А Славка, седой, с хрюкающими легкими Славка поймал и себя самого и друга своего на том, что у них нет платков – пользуются, как школьники, пальцами – утирают ими носы, глаза, лица, сморкаются «ракетным» способом, заткнув палец в ноздрю: так шибают, что от ватников отрываются пуговицы. «Надо будет купить платок и подарить Воробьеву. Впрочем, есть старая примета: платки дарить нельзя. Это ссора, раздор, деление имущества. Это потеря. Но разве можно терять друга, которого только что нашел? Ведь друг вернулся из нетей, откуда мало кто возвращается. Значит, из нетей вернулось только пятеро… Пять человек. А сколько было взято? Воробьев наверняка знает цифру, если только она несекретная. Она никак не может быть секретной. Люди должны знать её! И фамилии должны знать».
– Я тоже плачу, – сказал Силантьев, – только слез у меня уже нет. Кончились, высохли, и сам я, Василь, отгорел. Жизнь начинаю по новой. Скоро буду учиться ходить.
– Правильно, Славка! – сказал Воробьев, просипел еще что-то одобрительное, может быть даже святое слово произнес, но его было не разобрать, потом гулко бухнул палкой о пол. – Значит, так, – больше я тебя никуда не отпускаю, ни на шаг, ни на полшага. Больше разлук не будет. Действуем, значит, следующим образом: идем обедать в самую лучшую владивостокскую ресторацию. – В этом разваливающемся, истыканном болячками, свищами, дырами и разной пакостью старике сохранился задор, и Силантьев теперь окончательно узнал его: это был Васька Воробьев – почти что прежний…
– У меня нет денег, чтобы пойти с тобой в ресторан, – сказал Силантьев.
– Ерунда, у меня есть.
– Ты же знаешь, я не люблю ходить на чужие… – М-да, это прозвучало слишком гордо. Ну будто бы действительно вернулось безмятежное прошлое, будто темный мрак выкололся цельным куском и выпал из прожитого. А ведь все повторяется, абсолютно все – даже смех наш и слезы наши.
– Ну ты даешь… – Воробьев поугрюмел, жесткие лохматые брови двумя защитными козырьками прикрыли глаза, рот немощно раскрылся, и из глотки вырвался хрип. В следующую минуту он справился с собою, подбито подергал свободной рукой. – А тебя что, тебя деньгами еще не снабдили?
– Где должны были снабдить?
– Здесь, на флоте.
– Нет.
– Выдадут, флот за грехи свои, за то, что было, сполна расплачивается, ничего не зажимает: чем-чем, а деньгами тебя снабдят. Здоровьем не снабдят, а рублями – почти что по потребности. Хотя потребности наши… – Воробьев не договорил, снова врезал палкой по полу. – Значит, мы с тобой договорились – идем кутить.
Кутить! Две развалины – и кутить? А если подует ветер и из них высосет всю пыль? К какому врачу тогда обращаться?
– Ладно, – согласился Силантьев, поняв, что если он сейчас откажется, то не только обидит Воробьева – он год жизни и того немного, что осталось в нем, вычленит.
– Раз ты такой щепетильный, я тебе дам в долг – потом вернешь, – сказал Воробьев. – Когда снимешь флотский банк.
– Дай мне двадцать минут, чтобы переодеться. Только переодеться, а то видишь, в чем я щеголяю. – Силантьев посмотрел на свои ботинки, на свои брюки, потом прихватил пальцами лоснящиеся обшлага рукавов и демонстративно оттянул их. – А?
– Двадцать минут – много. Десять!
– Десять – мало. Пятнадцать!
Сговорились на пятнадцати минутах. Воробьев цепко ухватив Силантьева ревматическими корявыми пальцами за пиджак, притянул к себе, дохнул растроганно, сипло, тепло, постоял немного, собираясь с силами и словно бы концентрируя все, что у него осталось, против какой-то беды, которой еще нет, но она приближается, идет валом, будто длинная морская волна, она уже чувствуется и если им не сплотиться, не стать рядом, волна свалит их с ног, искалечит, а уже хватит, чтобы их калечили – достаточно того, что было, намаялись и набедствовались они под завязку и если Бог отведет им еще немного жизни, ну хотя бы лет пять-семь, больше не надо, то очень хочется прожить этот небольшой отрезок без бед, без окриков, без унижения, без боли душевной, которая куда круче и опаснее боли физической.
– Ты не пропадай, Славка, ладно? – просяще просипел Воробьев. – Очень прошу тебя.
– Не пропаду.
– Я не в смысле момента, который сейчас… я вообще… Ладно? Ну пожалуйста.
Друг молодости силантьевской был одинок, растерян, не знал, к какому берегу приткнуться, он чувствовал себя так же, как чувствует сам Силантьев, и если они будут доживать свои годы в одиночестве, каждый сам по себе – долго не протянут. А когда вместе, когда рядом – еще покоптят небо, пожуют, помнут деснами котлеты из оттаявшей якутской мамонтятины и всласть поскрипят костями на владивостокских бульварах.
Форма была словно бы специально подогнана на Силантьева – нигде ничего не жало, не морщинило, не кособочило, длина была соблюдена в меру, китель сидел влито, обшлага рукавов не налезали на сгибы пальцев – все в самый раз. Правда, брюки были чуть широковаты в поясе, но разве это беда? Это ведь сделано специально, на вырост, в расчете на то, что человек изголодавшийся и окостлявевший на баланде, корнях и ягодах, до костей изгрызенный комарами, на нормальной еде наберет форму, станет тем, кем был когда-то.
Хотя стать теми, кем они были когда-то, им уже не дано, и эта мысль опечалила Силантьева, он помял пальцами височные выемки, изгоняя оттуда звон, почувствовал, как в правом виске трепетно и живо бьется жилка, а в левом виске почему-то молчит, словно бы уже умерла. Эта мелочь – а может и не мелочь – расстроила Силантьева, но ненадолго, он заставил себя забыть о неполадках в организме – их ведь столько, что не справится целая бригада медиков.
Он вдел в брюки ремень, загнал складки назад, под китель, натянул на ноги скрипучие, пахнущие складом ботинки, привинтил к кителю орден, подраил его рукавом своего старого пиджака – все равно этот хлам пойдет на выброс, – нарядился, в общем, по всей форме, глянул на себя в зеркало и увидел незнакомого седого командира. Командир понравился Силантьеву. Он подвигался перед зеркалом, и каперанг, глядящий на него с блестящего экрана, четко повторил все его движения – ни в одном не ошибся. Даже лицо, раздавленное, оплющенное былым, людьми, которые хотели превратить Силантьева в ничто, меченное годами, будто когтями, на этот раз понравилось Силантьеву: как оказывается, военная форма меняет человека и почти всегда молодит. Хотя, к несчастью, люди часто подчиняются и козыряют форме, а не человеку, на котором она сидит. А суть военного бытия требует, увы, мозгов, того, чтобы шарики у командира крутились со скоростью самолетного винта. Вспомнилось, как в лагере конвойный начальник высмеял кого-то из пехоты – и не побоялся, гад – силу свою знал, безнравственную силу, которую ему, кстати сказать, дала военная форма: «Возьми кучу дерьма, надень на нее папаху – будет полковник. Все капитаны и майоры козырять станут, подполковник тоже не пройдет мимо, сними папаху – опять куча дерьма».
Пора, наверное, и к Воробьеву… Силантьев в последний раз оглядел себя, подумал, что на улице ведь придется отвечать на приветствия, самому козырять, если попадется адмирал, хотя адмиралы вряд ли ходят пешком по Владивостоку, у всякого адмирала ныне есть колеса, – вскинул руку к виску, движение получилось четким, хотя и не слишком лихим, скорее – усталым, старческим, но оно вполне устраивало Силантьева – значит, не разучился еще. В следующий миг он морщась сжал губы и покачал головой:
– Кто же руку к пустой голове прикладывает, гражданин каперанг?
Надел на голову фуражку с золотым крабом, еще раз козырнул – во второй раз получилось лучше. Бросил прощальный взгляд на каперанга, разом охватывая всю фигуру, благо это позволяло зеркало, и вдруг такая тоска накатила на него стремительным валом, что Силантьев чуть не задохнулся – он жалел того далекого, удачливого Славку Силантьева, у которого была прямая дорога в адмиралы – и талант был, и знания, и опыт, и молодость, – и было всё убито какими-то шкодливыми пакостниками, завистниками, видевшими, вероятно, в Силантьеве соперника, жалел Веру, годы, ушедшие в никуда, жалел самого себя, нынешнего, ни на что уже не годного человека.
Не надо обольщаться. И он, и Васька Воробьев, и те трое, что вместе с ними вернулись из нитей, ни на что уже не способны. Все – мусор, шлак, отработанное топливо.
Силантьев ощутил, как у него потеплели глаза, твердый, показавшийся ему волевым, рот на самом деле совсем не был волевым – размяк, задрожал, пополз в сторону, он ощутил боль в легких, боль в кишках, боль в печени, боль в ключицах – почти всюду была боль, боль, боль, ни одного живого непораженного места в его теле не существовало, держалось только сердце, оно работало слаженно, ритмично, словно хорошо смазанная машина, билось победно: в конце концов правда взяло свое, он, Славка Силантьев, из зэка, не имеющего ни имени, ни фамилии, вновь превратился в Вячеслава Силантьева, стал человеком. Хотя, если честно, если копнуть глубже, – он пока не верил, что всё вернулось, что на нем морская форма – на плечах погоны, на груди орден, – что все позади. Может, это розыгрыш, и естество его, чуя розыгрыш, предупреждает: не обольщайся!
Нет-нет, напрасны страхи. Просто он еще не привык к самому себе в новом качестве, не понял до конца происходящее и продолжает пребывать там, в убогой магаданской комнатенке с нищенской мебелью, либо плывет в весенних сугробах, шарится в снегу, ищет самого себя и никак не может найти. Боль возникла в затылке, возникла в шее, сдавила – вместо того чтобы утихнуть, она усилилась, пошла вверх. Потом нырнула вниз, подсекла жилы в ногах и Силантьев охнул – единственный островок, который оставался нетронутым в этом огне, было сердце. Силантьев горел, он превратился в костер, губы у него нехорошо посинели, взгляд сделался измученным – выходило, что он не выдержал свидания с самим собой, с Силантьевым из тридцать восьмого года…
Впрочем, погон тогда не носили, носили только шевроны на рукавах, форму шили из другой материи, крабы были другими, но какое, собственно, значение имеет все это сейчас?
В следующий шаг Силантьев ощутил, что сердце его не выдерживает – что-то легко, остренько толкнуло в самую середку, сердце замерло на миг, остановилось, лицо Силантьева исказилось – он отчетливо увидел себя в зеркале, – хотел застонать, но не смог. Воздуха не стало – Силантьев разжал зубы, засипел трудно – совсем, как Воробьев, с такой же болью втянул в себя воздух, сглотнул все, что смог втянуть, давая пищу легким, но легкие ничего не приняли – воздуха действительно не было.
– Вера, – потрясенно прошептал Силантьев, но шепота своего тоже не услышал. Что-то с ним происходило, а вот что именно, он не мог понять, барахтался в боли, стремился выплыть из огня на один-единственный нетронутый спасительный островок. Но пламя подмыло и этот островок. Ему показалось, что рамки зеркала раздвинулись, очистились – гостиничные зеркала всегда бывают мутными и рядом с блестящим морским командиром, смотрящим на него из стекла, увидел легкую и очень ладную, очень красивую женщину, вмиг узнал её – это она послушно явилась на лишенный звука его зов, это она смотрела на мужа с легкой тоскующей улыбкой, и узнав Веру, Силантьев мигом вспомнил её дыхание, тепло её кожи, невесомо-нежные движения пальцев, когда она гладила его по щекам, долгое прощание перед последним плаванием Силантьева – уже тогда она что-то чувствовала, да и не почувствовать это было нельзя; хотя все мы и ходим под Богом, ценность жизни определяли люди, совсем не наделенные качествами богов. Силантьев жалко улыбнулся дорогому женскому изображению, возникшему на зеркальной глади, словно бы сомневаясь в том, что это была Вера, позвал опять: – Вера, где ты?
И вновь не услышал своего шепота. Пламя сузило пространство вокруг пораженного островка до самого малого предела, сжало его со всех сторон, готовясь к последнему прыжку. Силантьев понял, что не удержится – просто не дано, он не устоял перед самим собой и не вынес встречи с прежним Силантьевым, увидел, что женщина, замершая рядом с командиром в зеркале, сдвинулась с места, её наполовину обрезал край рамки, и Силантьев, противясь этому, помотал рукой, словно бы отсекая ей дорогу: стой!
Нет, не собрать ему самого себя в целое, не справиться с болью и беспорядком в теле, что он ни сделает сейчас – все будет бесполезно.
– Вера! – вновь беззвучно позвал Силантьев, медленно пополз вниз, коснулся коленями пола, задержался на несколько мгновений в этом положении, но несколько мгновений жизни ничего не решили, – он уже не был прежним Силантьевым, он стремительно вкатился в старость, несколько мгновений, пока он молитвенно стоял на коленях, только замедлили шаг смерти, в следующую минуту Силантьев растянулся во весь рост перед зеркалом – сердце его, которое он считал здоровым, разорвалось. Последней мыслью была мысль о Вере. Единственное хорошее в этом конце – то, что свидание с женой близко, осталось совсем немного, какие-то пустяки – одолеет он эти пустяки и очутится рядом с ней. Теперь уже навсегда.
И еще он с сожалением подумал, что надул своего старого друга – пообещал быть точным и через пятнадцать минут явиться при полном параде, да ничего из этого не получилось, Воробьев будет нервничать, злиться, потом, стуча палкой, ворвется в силантьевский номер. Одно плохо – найдя своего товарища и, может быть, в лице Силантьева – свою молодость, свое прошлое, и тут же потеряв все это, Воробьев тоже может не выдержать…
Не тревожный ли это звонок, не намек ли Воробьеву, что ему тоже пора собираться в дорогу. И пусть следующее поколение не пойдет по телам и жизни так, как неожиданно пошли люди из поколения Силантьева и Воробьева…
Перед взором Силантьева медленно зажглась звезда, разгорелась, свет её был манящим, успокаивающим. Звезда покачнулась и начала неспешный свой полет, следом за нею, сразу поверив в нее, как в судьбу свою, полетел и Силантьев.
1989 г.
Ночная рыбалка
Светлой памяти В.П. Горбунова
Давно не выходил Шмелев в море, уже начал отвыкать от него, запах волн и соли стал забываться, звук прибоя, течений не возникал в ушах, как не возникал и удивительный блеск солнечных лучей на воде, – он тоже исчез из его жизни, уже не ласкал взгляд… И тут ничего не поделаешь – возраст брал свое.
В прошлом Шмелев на судах прошел все существующие моряцкие ступени, ни одной не пропустил, – начиная с трюмного матроса, кончая капитаном огромного пассажирского лайнера, немецкого, в сорок четвертом году потопленного, а после войны поднятого со дна Балтийского моря.
А потом медики подвели черту под его трудовой деятельностью в морях-океанах и списали на берег. Идти в диспетчеры Шмелев не захотел – не его это дело… Некоторое время он сидел на суше, читал книги, преподавал в институте, играл на гитаре и хриплым, но очень приятным голосом пел под звук струн бардовские песни, сочинил две книги и издал их, после чего понял, познал то, что уже познал: не его это удел.
Тогда он отыскал на кладбище кораблей небольшое японское суденышко, быстро и ловко восстановил его, сложный иероглиф, выведенный на борту вечной краской, которую не брали ни вода, ни солнце, ни едкая морская соль, вытравил и по трафарету вывел новое название – «Падь Волчанец».
Что связывало Шмелева с этой падью, не знал никто; в прошлом там располагались две тюрьмы (одна из них – строгого режима, впрочем, тюрьмы располагаются там, наверное, и сейчас, эти заведения не имеют привычки менять адреса), к тюрьмам примыкал небольшой поселок, вольно разбросанный по сопкам, вполне возможно, там жил кто-то из родичей Шмелева… С дороги поселок обычно узнавали по двум крупным, словно бы летящим по воздуху, слипшимся в пространстве вывескам; на одной, с надписью «Китайская аптека», предлагали новейшие лекарства из Поднебесной, на другой – качественные ритуальные услуги, местные, естественно.
Народ, читая эти вывески, спарившиеся на ветру, благодушно ухмылялся: чего только не встретишь в этой жизни. А вообще, время ныне такое, что любой пиар хорош… Кроме некролога, естественно.
Очень скоро Шмелев набрал туристов, прибывших на Дальний Восток порыбачить, и вышел с ними в сторону маяка Скрыплева.
Маяк этот – знаменитый, является таким же символом Владивостока, как и вантовый мост, переброшенный на Русский остров, нынешний ГУМ на Светланской улице – бывший магазин «Кунст и Альберс» или знаменитый Восточный институт, которым до последнего времени руководил профессор Турмов – давний знакомый Шмелева.
Маяк Скрыплева – прочный, словно бы отлитый из чугуна, и, хотя был возведен из простого кирпича еще при царе, с его стенок не свалился ни один кусок обмазки, ни один кусок кладки – так все прочно держалось; сохранилась также и казарма, расположенная рядом, в которой когда-то был размещен женский батальон.
Батальон неизменно привлекал к себе рыбаков, как магнитом тянул, и хотя в акватории маяка рыба особо не водилась, в большом количестве плавали только медузы и среди них были опасные, способные вызвать лихорадку, подле маячного причала всегда крутились рыбацкие лодки.
Надо полагать, маяк Скрыплева сыграл немалую роль в устройстве многих семейных судеб во Владивостоке, иной благодарный муж приплывает к нему поклониться как к законному свату, выпить водки, чокнувшись стопкой о его просоленный, пахнущий лежалой рыбой причал.
Впрочем, у Владивостока маяков несколько, но только один, названный в честь командира корвета «Новик» Скрыплева, стал визитной карточкой города. Есть и другие приметные места: Ворошиловская батарея и дом «Серая лошадь», Гнилой угол, Орлиная сопка и Пушкинский театр, сопка Крестовая и сопка Любви… Впрочем, сопка Любви – это особая стать города.
Все дело в том, что рядом с нею находится призывной пункт военкомата, куда привозят новобранцев со всего города, а может, и со всего Приморского края, но данные эти, надо полагать, секретные… Сюда же стекаются и девочки – подружки новобранцев, невесты, возлюбленные. Новобранцы особо не стесняются, стараются оприходовать подружек в ближайших кустах, ведь кто знает – может, видятся в последний раз… Жизнь ведь – штука квадратная, можно и застрять где-нибудь в узком месте.
С другой стороны, некоторые пары вообще видят друг друга впервые, но это никак не мешает им соединиться на сопке Любви, и в этом также заключена примета современной жизни.
Сосед Шмелева – паренек призывного возраста с чубом до подбородка, как-то рассказывал с нескрываемым восторгом:
– Я тоже был на сопке Любви – интересно там… Сопка шевелится, сопит, дышит, шумит, потеет, кряхтит, корячится, стонет, радуется, хрипит – ни одного неподвижного места нет, ни одного незанятого куста или травяной куртины – все занято, все утонуло в любви. Смотрю, один парень рядом со мною дрючит девочку – задрал ей юбчонку до лопаток и жарит. Сопит при этом, как паровоз, набирающий скорость, только пар не извергает. В это время к нему подходит второй парень. С сигаретой в зубах. Просит: «Дай спички, прикурить нечем» – и парень, не прерывая процесса, говорит ему: «Возьми в правом кармане…» И парень как ни в чем не бывало лезет в правый карман.
Но владивостокская сопка Любви – это мелочь, детский лепет, сущая ерунда по сравнению, например, с Курилами, с островом Шикотан, где женщинам, обрабатывающим по вербовке сайру, подчинена целая территория любви. Женщин там – тысячи, мужчины встречаются очень редко, ходят они, боязливо озираясь, тихие, как мухи… И духа мужского на Шикотане, естественно, нет и в ближайшие полтора века вряд ли он появится.
Шмелев бывал на Шикотане, когда-то там даже служил, ловил рыбу, жил, инспектировал воды на маленьком юрком катере, на сайру смотреть совсем не мог – от нее нутро у всякого шикотанца выворачивало наизнанку… Когда мужчина появлялся в зоне внимания островных баб, они обязательно выскакивали наружу и орали:
– Командир, иди к нам! Или силой затащим!
Как-то они затащили к себе двух отбившихся от своего наряда пограничников. Бечевками перетянули им мужское достоинство, чтобы колотушка не опускалась, торчала, как оглобля, четыре толстых бабы сели на ноги, на руки и по одной бабе-потребительнице на каждого парня сверху. И пошло, и поехало… Такого нигде не видывали, ни в одной террористической организации. Кричи не кричи – бесполезно, не докричишься, помощь не придет.
Один парень так и погиб в тот вечер в потном пекле, второй изловчился, сумел дотянуться до автомата и стал стрелять короткими очередями, чтобы подольше растянуть запас патронов – его спасли. Вот что могут сделать озверевшие бабы.
В молодости, будучи курсантом мореходной «вышки» – высшего училища, Шмелев попал на плавучую базу, стоявшую по соседству с Шикотаном, в море. Ловкие женщины размещали дольки сайры в банках розочкой, делать это умели только их руки, но практика для того, чтобы получалось, нужна была большая, поэтому розочки получались не у всех, – рассыпались неряшливо, дольки падали, сминались, выполнить норму было трудно, милые создания, особенно молодые, часто плакали, – ведь если не выполнишь норму, то и зарплату не получишь…
Курсанта Шмелева, прибывшего на практику, недвусмысленно предупредили:
– На плавбазе передвигайся только по правому борту, по левому не ходи – по левому живут бабы… Понял, чем это грозит?
Курсант Шмелев, конечно, понимал, чем грозит, но очень смутно. На всякий случай наклонил голову:
– Понял!
Но однажды все-таки лопухнулся и очутился на левом борту базы: спешил, думал, что проскочит, но не проскочил – даже до середины борта не дошел. Открылась дверь одной из кают и Шмелева сильным рывком затянули в помещение.
В каюте находились четыре женщины.
– Есть один мущщинка! – довольным басом произнесла толстая складчатая баба с маленькими заплывшими глазами и крохотным, как у ежика, лбом – надо полагать, старшая в этом пространстве, уперев руки в боки, она подступила к курсанту. – Ну!
Внутри у Шмелева все похолодело, язык во рту прилип к нёбу – не оторвать. Еле-еле он нашел в себе силы освободить его и упрямо помотал головой:
– С тобой я не буду.
Толстуха хмыкнула насмешливо, во взгляде ее мелькнуло удивление.
– А с кем будешь? – спросила она.
Курсант сглотнул слюну и, чувствуя, как холод внутри перекрывает дыхание, огляделся, остановил взгляд на худенькой, с выпирающими на спине лопатками женщине, одетой в вытертую трикотажную кофту:
– Вот с ней!
– Бабы, але-гоп! – скомандовала складчатая и сделала ладонью красноречивое движение снизу вверх, словно бы мячик подбросила. – Выметаемся отсюда! Оставим этих двоих… счастливчиков! – Бросила завидущий взгляд на свою худенькую товарку и первой вышла из каюты.
Две другие женщины беспрекословно подчинились ей, хотя характеры имели сволочные и могли лаяться и приставать к бедному курсанту сколько угодно… Но авторитет старшей в их коллективе был незыблем.
Так Шмелев уцелел, ослабший прошел вдоль всего левого борта и вернулся в свою каюту…
…Тот поход с рыбаками-туристами был удачным, все набили себе сумки отборной камбалой, так называемой палтусовкой. Мясо палтусовки – самое вкусное из всех камбальих пород, некоторые нетерпеливые туристы прямо в море жарили рыбу – Шмелев перед отплытием купил три керосинки, шесть сковород и десяток литровых бутылок ароматного подсолнечного масла, имущество это оказалось очень нужным, – заодно научил клиентов, как в одно короткое мгновение избавлять камбалу от кишок и всего лишнего, что в ней есть…
Делается это просто: надрезаешь рыбе голову, надсекаешь хребет и отделяешь голову от тушки. Кишки вместе с начинкой вылетают вслед с головой наружу, для чаек эта еда считается самой лакомой…
Ученики у Шмелева оказались толковыми, науку освоили быстро, так что жареную палтусовку попробовали все присутствовавшие, даже две худосочные жеманные девицы, которые о себе говорили, что они работают в Большом театре…
Новым делом маститый морской капитан увлекся, за два года исходил на своем «Волчанце» все здешние заливы, познал, как собственные ладони, рыбные ямы, банки, подводные леса, крабовые колонии, ловил лакедру и сему, зубатку и даже рыбу фугу – все у него получалось… А потом Шмелев заболел – поселилось у него внутри что-то тяжелое, чужое, лишающее сил, иссасывающее, целый месяц он пролежал у себя в квартире на Океанском проспекте, лечился травяными снадобьями, отпивался отварами из целебных кореньев, из ягод и коры кустарников… За месяц до стона соскучился по морю, свежему воздуху, ветру, крикам чаек и стуку машины своего катера.
Не стерпел и вышел в море…
Некоторое время он чувствовал себя нормально, тешил себя мыслью, что выпрямится, вырулит, дальше все пойдет по-старому, но через пару недель таинственная холодная хворь вновь обозначила себя. Поразмышляв немного, Шмелев решил не обращать на нее внимания, а существовать вместе с нею и дальше идти вдвоем. В конце концов, если захочет – отцепится.
Иногда обходилось без осложнений, иногда приходилось глотать обезболивающие пилюли – всякое было, в общем, но запланированных походов в океан он не отменил ни одного.
На этот раз он решил сходить на кальмара. Стоял октябрь, самое начало, теплые дни, кальмар должен был не просто клевать, а брать нахраписто, с лёту, у него наступала пора любви, моря и заливы в такое время делались веселыми, шумными, волны иногда взрывались громкими таинственными брызгами, словно бы попадали под небесный дождь, потом стихали до следующего брызгопада. Шмелев любил рыбалку на кальмаров.
Отходил «Волчанец», как всегда, от Змеинки – причала, для береговых дел не особо приспособленного, но главное было не это, а совсем другое – тут и глубина была подходящая, и подъехать на машине можно было к самому борту, и народ обитал на причале незлобивый – и прикрыть мог, и бензинчиком выручить, и стопку водки налить, если кто-то сильно продрог, и даже кредитную линию до получки открыть… Шмелев держался здешних причалов – нравились они ему.
Отходили поздно. Вечер уже перешел в ночь. Воздух был теплый, гудел от разных звонкоголосых жуков, цикад, прочих летающих и нелетающих обитателей ночи. Владивосток – город южный, тут водится живность, которая в России лишь где-нибудь в Сочи и обитает, и если бы не океан, не ветры, которые приносятся из бескрайних вселенских просторов, жизнь здесь была бы как в Сочи, ничем не отличалась.
Стоило немного выйти из-под прикрытия берега, как теплый воздух исчез куда-то, растворился, из черноты ночи подул ветер – поначалу слабенький, едва ощутимый, потом он усилился и сделалось холодно. Шмелев стоял за штурвалом, неспешно крутил его, помощников на «Волчанце» было немного, только один человек – опытный моряк Гоша Кугук, который в любую погоду, даже в мороз, признавал лишь один вид одежды – тельняшку.
Даже если на улице будет трещать мороз и свистеть лютый ветер, Гоша все равно выйдет из дома на улицу в тельнике, да на голову наденет старый танкистский шлем… В исключительных случаях может натянуть на себя две тельняшки, говоря при этом, что в двух одеждах он чувствует себя, как в шубе, даже лучше, чем просто в шубе.
Гоша был на «Волчанце» всем (кроме капитана) – и механиком, и мотористом, и палубным матросом, и трюмным, и старпомом, и… – всем, в общем. Раньше он плавал на больших судах, ловил рыбу, а сейчас на большие суда его уже не брали… Да и не тянуло Гошу туда.
Вскоре ветер, облизывавший береговую кромку и щедро угощавший судно холодом, утих, тепло вновь взяло свое и туристы, сгрудившиеся на палубе, перестали стучать зубами…
Прожектор, вспарывающий широким лучом темноту, будто мечом, кромсал пространство без всякой пощады, иногда под днище катера подкатывала волна и судно громко, всей тяжестью прикладывалось о воду, двигатель бубнил что-то возмущенно, кашлял, грозясь умолкнуть, но быстро приходил в себя, и «Волчанец» продолжал двигаться дальше.
Шел Шмелев по памяти, карта не была нужна ему, думал о своей жизни, в которой много чего было, и хорошего и плохого, – и через час с небольшим хвостиком уже находился на месте.
– Распределение такое: с двух бортов берем кальмара, с кормы – рыбу, – распорядился Шмелев, заглушив машину и швырнув якорь в черную пузырящуюся воду. – Тут хорошая камбала-палтусовка попадается, удобнее всего ее брать с кормы. – Капитан приподнялся на мостике, огляделся. – Гоша, где ты?
– Здеся, – Гошин голос раздался из-за рундука, где они прятали спиннинги.
– Включай иллюминацию, Гоша, – приказал ему Шмелев.
Через полминуты горели все прожектора, софиты, лампы, светильники, фонари, фары, световые пушки, которыми были вооружены борта «Волчанца», – и слева и справа. Судя по прошлым временам, кальмар должен идти в эту пору на свет, будто заведенный, свет увлекает его, затягивает в любовные игры, заставляет танцевать, кружиться в воде в пьяном хороводе. Как предполагал Шмелев, такое должно произойти и нынешней ночью. Безумные игры кальмара, безостановочный клев, когда добыча хватает приманку – яркую елочную игрушку, совершенно не похожую на блесну, хотя и именуемую блесной, еще в воздухе, в полете над водой, не успевшую даже коснуться волны, с силой дергает… Местный народ, повидавший в жизни многое, называет такую рыбалку жором.
Слово, конечно, не самое благозвучное, но довольно точное. Шмелев вначале не принимал его, морщился, когда слышал от кого-то, но потом привык… И в конце концов, настолько привык, что сам стал употреблять его.
При свете софитов, как в театре, вода изменила цвет и глубину, в ней двигались игривые тени, на поверхность вылетали длинные извилистые рыбы, похожие на молодых змей, ловко взрезали воздух и снова уходили в воду, оставляя за собой белесые пузырчатые следы.
Несмотря на то что море было полно жизни и поклевки должны были идти одна за другой, поклевок не было. Ни одной не было, вот ведь как.
Берегов, земли не было видно, хотя земля находилась недалеко, – из темноты выпорхнула маленькая синяя птичка, облетела «Волчанец» кругом, словно бы подыскивала себе аэродром для посадки, довольно быстро сориентировалась и, цокнув коготками о металл, уселась на поперечину мачты.
Следом за птицей появилась большая белая бабочка, похожая на комок снега, именуемая рыбаками бражником, но это был не бражник, название у бабочки было какое-то другое… Вообще-то, бражник – это большой ночной мотыль, очень красивый, с прыгающим полетом, но в гости прилетел не мотыль – прилетела именно бабочка. Бабочки от мотылей отличаются очень заметно.
Прошло минут тридцать. Не было ни одной поклевки, все забросы, – и на кальмара и на рыбу, – были пустыми. Некоторые нетерпеливые добытчики начали недовольно ворчать, косо поглядывая на капитана, но Шмелев был здесь ни при чем, он доставил ворчливую публику в самое уловистое место в Тихом океане.
Ропот заставил Гошу совершить пробежку вдоль обоих бортов «Волчанца».
– Не гудите, граждане, не гневайте морского бога, у него все расписано: жор будет! Надо только дождаться.
– Сколько ждать-то его?
Гоша развел руки в стороны:
– Если бы я знал… По радио связались с канцелярией морского владыки, ответ состоял лишь из одного слова: «Ждите-с!»
Я тоже был на этой рыбалке; компания наша, лишь пару часов назад прилетевшая из Москвы на утомительно-гулком огромном самолете, – три человека, Скуратов, Коткин и я, – узнав в аэропорту, что готовится поход на кальмаров, несмотря на усталость и самолетный гуд, застрявший в ушах (как его вытряхнуть оттуда, никто не ведал), определилась единогласно: идем на кальмара! На «Волчанец», который был забит рыбаками под завязку, нам помог устроиться Володя Воткин, очень славный человек, здешний следователь (а отец его, Александр Сергеевич, позже здорово подсобил с чисткой кальмаров – штукой, нам совсем неведомой, – но это было позже), так что все перипетии рыбалки той происходили у нас на глазах и остались в памяти.
Прошел еще час. Кальмарьих поклевок – ни одной. Начала клевать лишь камбала, очень вяло, еще клевали бычки, но они не считались съедобной рыбой; дергали они энергично, засасывали в свои бездонные глотки все что угодно, оказавшееся на крючке, – окурки, пуговицы, куски тряпок и протирочной ветоши, могли клюнуть и на гайку, только железную гайку было трудно приладить к крючку, на кусок бумаги, вырванный из блокнота, обломок расчески и резиновый каблук от сапога – на что угодно, словом… Люди от бычков брезгливо отворачивались, выбрасывали их чайкам.
Чайки поглядывали на такую еду с опаской – бычок запросто может разодрать плавником брюхо…
Выглядели бычки внушительно: большая голова с начальственно выпученными глазами, тяжело провисшее пузо, набитое всякой всячиной, внушительный верхний плавник, похожий на парус, и огромный рот, способный заглотить сразу трех таких бычков, вместе взятых, не пережевывая, определить их в резиново-раздвижной, очень вместительный желудок и следом заглотить очередных трех бычков… Бычки – рыба будущего, словом.
Бражников вокруг «Волчанца» сейчас крутилось много, сотни две… или три, наверное, не меньше. Впечатление было такое, будто из черной небесной глубины, прямо из звезд валится крупный беспорядочный снег, подхватываемый движением воздуха, но до воды не добирается и устремляется обратно вверх, в вязкую черноту… Некоторые бражники все-таки не рассчитали, угодили в воду, барахтались, хлопали белыми, казавшимися светящимися крыльями, пытались оторваться от липкой океанской поверхности, но редко у кого это получалось, крылья намокали, и обреченные бабочки делались добычей рыб.
Прилетели две небольшие серые чайки, неведомо как добравшиеся сюда – ведь до Змеинки было не менее тридцати километров.
Поскольку клева не было – ни кальмарьего, ни рыбного, – мы уселись за стол, тут же появилась невесть откуда извлеченная (едва ли не из двигателя) бутылка шестизвездочной «метаксы» – крепкой, янтарной, с неожиданным вишневым привкусом, нашлась и закуска – коржик, один на всех, очень похожий на подержанный, уже побывавший на чьем-то столе, мы его разломили на несколько частей и разлили напиток по кружкам, склепанным из нержавейки.
Усталость, сидевшая в нас, начала отступать после нескольких первых глотков, – вот это напиток! – вместе с усталостью потихоньку, полегоньку стал отползать и сон.
Предметы, которые расплывались перед глазами, обрели прежние четкие контуры – и край борта, прыгающий в такт волнам вверх-вниз, и стол, на котором рядом с бутылкой и тускло поблескивающими кружками расположилась коробка с тяжелыми морскими блеснами, и старое мокрое полотенце, которым рыбаки, сдернув с крючка добычу, вытирали испачканные слизью руки, и две огромные кружки из нержавеющего металла, размером не менее кастрюли – видать, были предназначены для супа…
Все предметы теперь лезли в глаза, застревали в мозгу, отпечатывались в голове, – вообще взгляд в этом натянутом нервном состоянии засекал всякую мелочь, даже незначительную, – через некоторое время усталость стала снова добивать нас и никаких способов, чтобы бороться с нею, не было, похоже… Кроме «метаксы», может быть.
Две серенькие скромные чайки, исчезнувшие было – чего взять с катера, которого удача обходит стороной? – появились вновь, но близко уже не подлетали, не подплывали, держались на границе света и тьмы, ожидали чего-то…
Первый кальмар клюнул в четыре часа ночи. Клюнул резко, будто к «елочной игрушке» – блесне привязали кирпич и дернули за него из глубины океана. Рыбак-добытчик – упитанный мужичок с пушистыми пушкинскими бакенбардами неверяще охнул и подсек добычу.
Еще из-под воды кальмар пульнул в рыбака длинной грязной струей, которую сочинители хоть и сравнивают с чернилами, но это были не чернила… Чернилами начинены, скорее всего, африканские или южноамериканские кальмары – ядовитые, которые ни одной тряпкой со своей физиономии не счистишь, а у дальневосточных особей это обычная, пахнущая рыбьими потрохами грязь. Грязь эту можно легко смахнуть с себя ладонью.
Останется только неприятное ощущение. Вылетев вслед за блесной на свежий ночной воздух, кальмар издал хриплый птичий вскрик и снова пустил в туриста грязную струю.
Именно в этот момент он может сорваться с крючка и уйти, поскольку на «елочных игрушках» нет крючков с бородками, которые есть, допустим, в троллинговых блеснах, поэтому, выбирая леску, нельзя останавливаться ни на секунду, ни на мгновение, иначе кальмар уйдет, хотя ни ловкостью, ни изворотливостью рыбы он не обладает. Рыбак с бакенбардами уйти ему не дал.
Все, жор начался!
Наша бригада поспешно оставила неприконченную бутылку «метаксы» на столе – даже горлышко не успели заткнуть пробкой.
Клев пошел беспрерывный, холостых забросов почти не было, в искристо-темную, испещренную гибкими пузырчатыми следами воду вновь начали шлепаться яркие белые лепешки – с берега прилетела новая армия бражников.
Кальмары оказались хорошо вооружены и подготовлены к схватке, каждый обладал костяным клювом, в кожу эти ребята вгрызались до крови, действовали, как речные раки, когда их вытаскивают из обжитых нор, и были, конечно, правы – они защищали себя.
«Волчанец» в несколько мгновений преобразился до неузнаваемости, воспрянувший духом народ ахал, ухал, охал, гикал, свистел, цокал, подвывал, крякал восторженно, момент жора выпадает редко, может быть, один раз в году… Но у многих рыбаков, бывает, не выпадает вообще.
В общем, нам повезло: мы стали свидетелями (пардон, не только свидетелями, а и участниками, действующими лицами) явления редкого и очень азартного… Куда-то подевались и усталость, и сон с его липкой, опутавшей ноги и руки вялостью и нежеланием двигаться, из ушей истаял самолетный гуд – жизнь-то, оказывается, продолжается…
И в ней много приятного. Каждый вытащенный из воды кальмар старался отличиться – прыскал туристу на память в лицо своим грязным дерьмом, сильным сокращением мышц выбитым из желудка, от струй приходилось уворачиваться, как на арене цирка, иногда это удавалось, иногда нет, били кальмары метко, людей, которые вышли бы из этих соревнований по стрельбе с сухим счетом, не было.
Счет был мокрый, туристы поопытнее, запасшиеся еще в Москве тряпками, подоставали их из карманов, теперь вытирались, менее опытные сплевывали за борт и промокали тыльными сторонами ладоней носы. Вместе с плевками за борт летела и ругань. Хорошая такая ругань, калиброванная, отборная, прокаленная на огне и холоде, каждый заряд такой ругани мог запросто снести с земли жилую деревню.
Клевал только кальмар, рыбьи поклевки прекратились совсем, и тот, кто хотел получить на завтрак жареную палтусовку, должен был смириться с судьбой – палтусовки на завтрак не будет.
Кальмар здешний был, конечно, мелкий, не сравнить с теми барбосами, которых Шмелев видел в теплых морях, – а в водах Америки вообще встречаются такие, что легко переворачивают лодки и нападают на людей, клюв у такого чудища, что станковые пневматические ножницы по металлу, – кальмары легко откусывают руки и ноги, а на голодный желудок могут запросто схарчить и целого человека. Вместе со штанами и башмаками, украшенными железными подковами.
Неожиданно около Шмелева, с задумчивой печалью посматривавшего в воду, затрепывал крыльями крупный, фосфорно светящийся бражник. Шмелев на мгновение отпрянул от него, с шумом втянул в себя воздух. Бражник должен был улететь, но он не улетел, словно бы был специально послан из иных миров, – может быть, даже миров вышних, не доступных человеку.
Шмелев посмотрел на него, вздохнул, ощутил далекую тусклую боль около сердца, задержал в себе дыхание – боли около сердца быть не может, скорее всего, она находится в самом сердце.
А бражник все не улетал, шелестел призывно крыльями около Шмелева, звал его куда-то… Но куда именно? Шмелев поморщился, втянул немного воздуха в себя и чуть не присел от боли, внезапно ударившей его в грудь.
По лееру к капитану, не отпуская пальцев от троса, перебирая его, подгребся рыбак, носивший знатную фамилию Пушкин.
Остановившись в двух метрах от Шмелева, он восхищенно потряс головой, затем вздернул сучком большой палец правой руки:
– Во, капитан, какое роскошное место ты нашел! Всем местам место!
Одолевая боль в груди, стараясь не дышать, Шмелев ответил, нехорошо дивясь незнакомости своего голоса:
– Это не я нашел, это катер нашел. Сам.
– Как сам? Ты же вел катер к этому месту.
– Я только за рогульки штурвала держался.
– И все?
– Все. Больше ничего.
Однофамилец классика вновь восторженно потряс головой:
– От имени команды рыбаков передай катеру наш большой тархун!
– Чего, чего? – не понял капитан.
– Ну, нашу общую благодарность! – Пушкин нежно погладил рукою стальной леер и, нетвердо пошатываясь в такт мелким, набегавшим на «Волчанец» и ныряющим под корпус волнам, двинулся к своей удочке, воткнутой в резиновое гнездо. – Тархун самый большой! – прокричал он, берясь за древко удилища, как за боевое знамя, коротко, но очень лихо размахнулся и посверкивающая всеми цветами радуги «елочная игрушка» понеслась в морское пространство, спугнув по дороге двух серых чаек, высматривавших что-то в воде.
Чайки с резкими, похожими на лягушечьи, вскриками поспешно освободили дорогу, одна нырнула влево, другая вправо – полет цветастой игрушки им показался опасным.
Блесна шлепнулась в воду с громким чмокающим звуком, следом раздался еще один звук, словно бы в воде что-то лопнуло. Пушкин торопливо подсек и через пару секунд выволок из воды крупного кальмара, шустро заработал трещоткой-катушкой, подтягивая добычу к борту «Волчанца», кальмар тоже не дремал, собрал все, что у него было, в кучку и сделал длинный сильный плевок, целя однофамильцу великого поэта в лицо…
Был кальмар настоящим снайпером, попал Пушкину точно в физиономию, на пушистых бакенбардах повисли какие-то неопрятные сопли, более того, часть заряда угодила в его нарядную светлую куртку, цветом и золочеными пуговицами похожую на адмиральский мундир…
Увидев это, рыбак взвыл не своим голосом, вой его был похож на звук дисковой пилы, угодившей зубьями на железный сучок, но Шмелев этого не слышал, согнулся сильно, почти пополам, ощутил, как леер, перешибая боль, врезался ему в живот.
Затих на несколько мгновений. Со стороны казалось, что он пристально рассматривает ровный, недавно покрашенный борт «Волчанца». То, что происходило с ним, было ненормально. «Надо ко врачу, ко врачу, ко врачу», – глухим, каким-то деревянным молотком билась у него в голове мысль… Ходить к врачам Шмелев не любил, о всех неполадках в своем организме он узнавал во время прохождения очередной медицинской комиссии, неполадки эти были несущественными и его допускали до штурвала. Но потом опустился возрастной потолок и он уперся в него макушкой…
А сейчас уже, видать, он уперся в потолок не только возрастной, – в другой, более серьезный.
У самого борта резвились рыбы-иглы, появилась целая стая – плотные, мясистые, гибкие, припыли на яркий свет, настроение у них было веселое.
Местные рыбаки называют эту рыбу сарганом, она довольно вкусная, когда горячую снимаешь со сковородки, бескостная, с розовым мясом. Хребет, костяшки ребер – странного зеленого цвета, могут отпугнуть иного гурмана, вызвать изжогу, но только не у того, кто занимается рыбалкой. Впрочем, сам Шмелев до саргана не опускался, хотя и пробовал, – смущали зеленые позвонки. Было в них что-то ядовитое, угрожающе-вредное для человеческого организма, что потом и выздороветь не позволит.
Перед рассветом воздух сгустился, ночь была хоть и теплая, но от воды, тяжелыми гривами начавшей перемещаться то в одну сторону, то в другую, с громкими ударами всаживающейся в литой борт «Волчанца», потянуло ледяным холодом, и рыбаки, все до единого, исключений не было, поспешили утеплиться. На плечи натянули все, что у них имелось – свитера, куртки, жилеты, один деятель даже накинул на спину рюкзак с надписью «Москва» и на пупке застегнул лямки, второй утеплился штанами для подводного плавания…
Но холод все равно поджимал и людей с воды потянуло на землю, домой, даже тех, кто жил в гостинице, поэтому народ стал выжидательно поглядывать на капитана.
А тот никак не мог прийти в себя. Хотя резкая боль и отступила, но не настолько, чтобы он мог свободно дышать, – стоило лишь чуть больше набрать воздуха в грудь, как к сердцу словно бы прикасался острым краем наждачный диск, вращающийся на огромной скорости, Шмелев с мукою выпускал сквозь зубы воздух, находившийся у него в груди, и замирал.
Пресловутый жор оборвался в шесть часов утра. Небо еще было ночным, темным, но ощущение, что рассвет находится где-то совсем недалеко, воздух начнет вот-вот светлеть и из-за обрези земли выдвинется солнце, крепло в народе все больше. Можно было двигаться домой.
Шмелев, который так и не сумел оторваться от жесткого стального троса, от леера, – сердце продолжала пробивать сильная боль, – потихоньку стал шевелиться, прикрывая сердце грудной клеткой, как садком, передвинул вначале одну ногу, потом другую, выждал несколько мгновений и снова сделал два шага.
Со стороны не было заметно, что с капитаном происходит какая-то непонятная хренотень, – ну словно бы сердце у него было стеклянным и он боялся расколоть его неосторожным движением (а ведь так оно, собственно, и было), – движения Шмелева были очень аккуратными, – и вообще он оказался способным маскировщиком…
Ему понадобилось не менее десяти минут, чтобы добраться до штурвала. Гоша уже был наготове, глаза у него влажно поблескивали, словно бы он смазал их глицерином, чтобы не допекал ветер, – значит, Гоша принял на грудь… Затащили его рыбаки в свою компанию отметить победу над кальмарьим войском, налили в пол-литровую кружку водки, бравый моряк ее и оприходовал. Закусил рукавом от своей тельняшки – отказаться от дармового угощения сил у него не хватило… В общем, ставить его за штурвал нельзя.
Если моторист имеет право быть пьяным, может вообще налиться зельем по самую макушку и стать похожим на смятый кирзовый сапог, с которого ни разу в жизни не стирали грязь, то рулевой должен быть трезвым, как морозный северный воздух, глаза его не должны косить даже на сотую долю градуса… А у Гоши они уже съехали вбок сильно, градусов на пятьдесят, не меньше.
Эх, жизнь-жизнянка, проржавела ты до самых костей… Шмелев кособоко, накренившись в одну сторону, встал к штурвалу и, огладив пальцами деревянные рукоятки, проговорил незнакомым сиплым голосом:
– Все, Гоша, запускай машину… Домой пора!
– Это мы сей момент, – Гоша виновато засуетился, – это мы сейчас.
Машина тоже соскучилась по дому, не только люди, – завелась в одно мгновение… Ну а собрать удочки, спиннинги, поснимать с них кальмарьи игрушки было делом совсем недолгим. Яркие прожектора, украшавшие борта «Волчанца», погасли. Все, рыбалка окончена, финита! Когда еще будет такой жор, неведомо никому, ни одному человеку на этом катере, в том числе и капитану. Конец празднику!
И Гоше, ему тоже это неведомо… Собственно, он вообще не был любителем затяжных рыбалок, если и закидывал когда-либо крючок за борт «Волчанца», то ненадолго, поскольку очень быстро уставал тягать мелюзгу из воды и начинал раздражаться.
– Гоша, проверь, все ли спиннинги смотаны, не то кто-нибудь поймает задницей блесну…
– Уже проверил… Можно врубать вторую космическую.
Вторая космическая без прогрева машины – это как двадцать два в игре в «очко», круто, Шмелев готов был включить форсаж, взвиться в воздух и набрать хороший ход, но не хотелось рвать двигатель – скорость он набирал постепенно.
Боль, сидевшая в нем, казалось, окостенела, не двигалась теперь ни туда ни сюда, Шмелев вел катер скрючившись, не разогнулся он и когда «Волчанец» прибыл в Змеинку и пристрял к берегу. В Змеинке попросил Гошу проверить, все ли на катере в порядке, а сам лег на широкий вместительный рундук и закрыл глаза – ему было плохо. Боль по-прежнему не отпускала сердце, вцепилась в него мертво.
А может, и не сердце это было, что-то другое, еще более серьезное, не поддающееся лечению? Что именно, Шмелев не знал. Хоть и не любил он обращаться к врачам, а обратиться придется.
Он натянул на себя плащ, лежавший тут же, под рундуком, на сыром полу палубы, и закрыл глаза. Шевельнулся один раз, другой, охнул от сильной боли и вновь задержал в себе дыхание.
Как сквозь сон слышал Гошин голос, тот ходил по «Волчанцу», наводил порядок, собирал в черный мусорный мешок пустые бутылки, одноразовые пластиковые тарелки, обрывки бумаги, полиэтиленовые пакеты, пахнущие едой, и разговаривал сам с собою.
Когда запас слов кончался, мычал под нос какую-нибудь незамысловатую песенку.
Через некоторое время и Гошин голос затих, словно бы провалился в яму, в которой теряется любой звук, Шмелев тоже провалился, только в другую яму, вырытую в стороне…
На следующий день Шмелев пошел в поликлинику. Врач – седой, с бородкой клинышком, в старых очках с золоченой оправой тщательно обстучал его пальцем, послушал эти стуки и неодобрительно пожевал губами:
– Что-то вы мне не нравитесь, батенька.
– Я и сам себе не нравлюсь, доктор.
– Надо лечиться.
Шмелев, сморщившись, – разговор был ему неприятен, – согласно кивнул:
– Все правильно, доктор, надо. Пора поглотать какие-нибудь пилюли.
– А еще лучше – съездить в Китай, либо на Тайвань, там есть очень хорошие курорты, или же в Тайланд, отдохнуть… Загонять себя, батенька, право, не стоит, небережливо это. Нехорошо.
Тут Шмелев не сдержал болезненно-печальной улыбки – действительно нехорошо, если бы была жива жена, она бы обязательно устроила ему выволочку…
– Но для начала вам, батенька, надо сделать подробное томографическое исследование. – Доктор энергично, будто шкодливый школяр, начиненный фокусами, шмыгнул носом, сильно шмыгнул, от всей души – у него с головы чуть не слетела белая накрахмаленная шапочка. – Называется исследование «эМэРТэ». Согласны с такой постановкой вопроса?
– А куда деваться бедному еврею?
– Да потом, это лучше, чем от дохлого осла уши, подаренные на день рождения… Вы что, еврей?
– Нет. Это я так…
Через два дня Шмелев приехал в лабораторию, в которой имелся аппарат МРТ, сделал то, что предписал доктор с седой, почти чеховской бородкой, а потом нанес новый визит и к самому доктору, держа в руке дискетку с результатами. Дискетку ему выдал худенький мальчишка, распоряжавшийся томографом (надо полагать, человечек этот был во Владивостоке очередным компьютерно-медицинском гением, хотя томографом владела его мамаша, очень полная женщина с обесцвеченными кудельками волос на голове и рыхлыми ногами, едва перемещавшим ее тело по земле)… Доктор потеребил бородку, поправил шапочку на макушке, сунул диск в компьютер и долго сидел перед экраном монитора, скорбно шевеля ртом.
Потом, глубоко затянувшись воздухом, с шумом, будто изображал водопад, выдохнул. Запустив пальцы под шапочку, ожесточенно поскреб макушку.
– Значит, так, батенька, – наконец проговорил он и замолчал.
По глухим удрученным ноткам, прозвучавшим в его голосе, Шмелев понял, что врач недоволен картиной, увиденной на экране, и неожиданно почувствовал себя неловко, с виноватым лицом развел руки в стороны и проговорил смято, малость невпопад:
– Что есть, то есть, доктор.
Приступы боли, которые подмяли его на ночной рыбалке, больше не повторялись. Шмелев, почувствовав облегчение, подумал даже о том, что худая полоса прошла, дальше все потечет, как и прежде, ровно, спокойно, но не тут-то было – судя по выражению лица доктора, предстоял непростой разговор.
Доктор выщелкнул диск из компьютера, аккуратно, с некой опаской, словно бы имел дело со взрывчаткой, вложил в простенький бумажный конверт и вернул Шмелеву, стараясь не глядеть ни на конверт, ни на самого Шмелева.
– Вы мужественный человек? – спросил он, по-прежнему отвернувшись в сторону.
Вот вопрос, на который и отвечать грешно и не отвечать тоже грешно: крылось в этом вопросе что-то недоброе, даже зловещее. Шмелев почувствовал, как в груди у него что-то дрогнуло, внутри прополз холод. Он глянул в окно – по самой середине бухты медленно тащился небольшой, какой-то зачумленный буксир с косо сидящей трубой и тяжело обвисшим лоскутом флага на корме.
Редкий случай, когда такая чумазая черепаха позволяет себе появиться в парадной бухте Владивостока, обычно эти дурно пахнущие корыта стараются держаться грузовых причалов, быть около контейнеровозов, танкеров, сухогрузов и прочих громоздких работяг океана, а такие путешествия, как в самый центр бухты Золотой Рог, не совершать… Господи, отчего же всякая чушь, никчемная мелочь лезет в голову, а взгляд старается замылить кораблик, сбежавший с какой-то грязной свалки?
Он не успел ответить на странный вопрос врача, дверь кабинета с шумом открылась и на пороге появился еще один человек – в хрустящем от крахмала халате, в шапочке, кокетливо пошитой на манер армейской пилотки. К нагрудному карману, как к памятнику, была прикреплена окрашенная в цвет бронзы служебная картонка с фамилией и именем-отчеством владельца.
Форсистые баки на лице вошедшего были распушены, как у английского политического деятеля времен Кромвеля.
– Ба-ба-ба! – изумленно проговорил вошедший. – Вот кого не ожидал увидеть, так славного товарища капитана!
А Шмелев в свою очередь не ожидал увидеть в кабинете однофамильца великого русского поэта, наклонил голову, здороваясь. Бакенбарды на лице Пушкина распушились еще больше, лицо от улыбки стало круглым, как колесо.
– Что-то случилось? – спросил Пушкин.
– Случилось. – Старый доктор поскреб пальцами бородку и произнес несколько слов по-латыни.
Очень пожалел в эту минуту Шмелев, что не знает латыни… С другой стороны, изучить латынь можно было бы, только зачем она нужна капитану дальнего плавания? С рыбами разговаривать? Ни при погрузке контейнеров на палубу ее не применишь, ни при прохождении штормовой зоны в океане, ни в общении с матерыми шкафами-докерами где-нибудь в Кейптауне или в Пусане, ни в пору ремонта родного судна в доке.
Вот если бы капитан в свободное от работы время выписывал рецепты для походов в аптеку за таблетками от насморка и мазями, помогающими избавляться от плоскостопия, тогда другое дело. А латынь… Ну зачем она?
Улыбка, которая отпечаталась на лице Пушкина, когда он вошел в кабинет, стерлась, будто ее смыли мокрой шваброй, он косо и как-то испуганно глянул на Шмелева.
– Вот я и спрашиваю у… – доктор посмотрел на первую страницу обложки медицинской карты Шмелева, – у Игоря Сергеевича, мужественный он человек или нет?
Вопрос был задан в лоб. Пушкин вздохнул и, неопределенно махнув рукой, заявил, будто не понял, о чем идет речь:
– Ладно, не буду вам мешать. Загляну к тебе, Михалыч, попозже.
Шмелев посмотрел на дверь, закрывшуюся за однофамильцем великого поэта, перевел взгляд на доктора, смущенно протиравшего замшевой тряпицей очки.
– Скажите, доктор, сколько у меня есть времени для завершения дел, – по голосу Шмелева, тихому и твердому, по тону, в котором отчетливо прощупывались скорбные нотки, было понятно, что именно он имел в виду, какое время?
Доктор вскинулся, близоруко и как-то беспомощно поморгал глазами.
– Сколько времени вам отведет Господь, точно сказать не могу… Да, пожалуй, никто не сможет. Скажу только – времени этого немного. Даже, пожалуй, очень немного.
Шмелев встал с кушетки, на которой сидел, глянул в серое от пыли окно, – буксирчик, который тихо шлепал по воде главного городского залива, исчез, – видать, забился в укромный затон с темной, радужной от нефтяных пятен водой, куда никогда не заглядывают океанские корабли, схоронился там; пространство, испещренное мелкими волнами, было угрюмо, от него веяло холодом и одиночеством. Шмелеву невольно подумалось: когда человек принимает какое-нибудь важное решение в отношении самого себя, он почти всегда принимает его в одиночку.
Без советчиков и посредников, в очень спокойном состоянии, когда внутри ничего не дрожит, ни один нерв – и не дрогнет, не сорвется, не уведет жизнь, а вместе с нею и судьбу в сторону…
Боль, которая прижала Шмелева во время ночной рыбалки под раздраженный скрип выволакиваемых из воды кальмаров, слава богу, пока не вернулась, она словно бы боялась старого трудолюбивого врача, Шмелев, находившийся сейчас в натянутом состоянии, ощутил, что тревога, сидевшая в нем, начала понемногу отступать, на душе сделалось спокойно, даже тихо, как в портовом отстойнике.
Он попрощался с врачом, спустился по мраморной лестнице вниз, к двери главного входа, и через несколько мгновений был на улице.
На заскорузлых клумбах подсыхали, превращаясь в неряшливые кожистые головки, уже потерявшие свой цвет последние астры и вообще здесь, в закрытом дворе, цветами не пахло – пахло ветром, солью, рыбой, ароматы эти приносились с моря, они вообще были типичными для Владивостока.
Неторопливо, считая собственные шаги, Шмелев прошел к скамейке, притулившейся к забору, сел на нее, из кармана достал плоскую черную коробочку – мобильный телефон, позвонил знакомому таксисту, работавшему в агентстве «Индрайвер», спросил:
– Володя, можешь забрать меня у ворот поликлиники, я сижу тут на скамейке.
– Случилось чего-то, Игорь Сергеевич?
– Да вот, был у врача, – неохотно проговорил Шмелев, – выслушал приговор…
– Понятно. А поедем куда?
– На Змеинку.
– К катеру?
– Точно, к катеру. Надо свежим воздухом немного подышать.
– Через пятнадцать минут буду.
В последнее время Владивосток хоть и расширялся, расстраивался, делался просторнее, а узких мест в городе все равно было много, причем чем ближе к окраине, тем больше, и ни один человек в Приморье не изучал, из какой широкой лохани или бездонной кастрюли они появляются, поэтому в пятнадцать минут таксист Володя может не уложиться.
Погода с утра была прохладная, хотя и спокойная, шторма, во всяком случае, не обещали… Хорошо, если бы воздух начал розоветь, а это добрая примета, признак возможного тепла. Тепло может вызвездиться даже сегодня, через пару часов, и это изменит лик всех владивостокских улиц без исключения.
Володя опоздал на пять минут, лихо прижался к тротуару и заглушил мотор. Посмотрел на Шмелева сквозь боковое стекло, Шмелев благодарно наклонил голову, с трудом выпрямился – ему показалось, что сейчас любое движение может родить в нем боль, заставит скорчиться, но нет – боли по-прежнему не было.
Прошел к такси, старый, только что заглушенный мотор которого распространял железный жар, хлопнул ладонью по капоту и опустился на продавленное сиденье рядом с Володей.
– Раз едем на Змеинку, значит, вы, Игорь Сергеевич, затеяли внеурочную рыбалку.
– Никак нет, Володя, просто хочу прогуляться в океан… Давно там не был.
– Ага, давно! – Володя иногда отправлялся со Шмелевым на рыбалку и знал его расписание на многие дни вперед. – О ночном кальмаровом жоре судачит до сих пор половина Владивостока… И даже в Москву столичные туристы новость увезли… Я слышал, на следующий день на вашу банку рыболовецкий сейнер вышел, хотел отличиться.
– Ну и как, отличился? – Шмелев хмыкнул. – Это ведь все равно, что пять королей, пришедших на руки во время игры в «дурака».
– Пять королей, пришедших в руки во время игры в покер или в «дурака», – это мошенничество, а пятьдесят – шестьдесят килограммов кальмара, добытые рыбаком за пару часов, – это реалии жизни, Игорь Сергеевич, это было, было, было! – Володя в эмоциональном жесте вскинул обе ладони над кругом руля и с громким хлопком опустил их.
– Ладно, друг, поехали, – произнес Шмелев негромко и умолк.
Через десять минут они уже въезжали на просторную стрелу, перекинутую через широкий пролив с синей шевелящейся водой, будто морской рукав этот был живой, двигался сам по себе, – и в одну сторону и в другую. Глубокая темная вода, беспорядочно, как казалось с моста, струившаяся внизу, завораживала, манила к себе, это была стихия, которую Шмелев любил.
Он приподнялся на сиденье, глянул вниз, сощурил глаза, отметил, что широкое пространство начинает насыщаться туманом.
Изящный вантовый мост со свистом отсчитывал километры, хотя их было немного, – он уходил далеко за край Русского острова, в глубину пространства, но Шмелеву туда не надо было, ему нужна была Змеинка, ее причалы.
Пролив, который машина перемахнула по высокой перекладине, вознесшейся в небо, был назван когда-то красиво и очень романтично – Восточный Босфор.
По бетонной дуге машина соскользнула вниз и вскоре уже ползла по неухоженному берегу, спотыкалась на колдобинах, с паровозным сопением вылезала из длинных, проложенных вдоль дороги канав, делала рывок вперед, и снова Володя с силой нажимал на педаль тормоза – глиняную дорогу пересекали поперечные канавы.
Когда строили мост на Русский остров – изящный, длинный, видимый если не из всех концов города, то из многих точно, – обещали довести до европейского уровня и берег, обиходить его улочки, причалы, плешки и даже тропинки, но как всегда бывает в России, соревнование выиграла команда воров и откусила от суммы, выделенной на строительство, столько, что оставшихся денег не хватало даже на возведение половины моста: слишком уж большими оказались рты у спортсменов из передовой команды.
Деньги воровали настолько открыто и нагло, что некоторые удальцы из числа обычных жителей находили на путях доблестных расхитителей хрустящие оранжевые бумажки достоинством в пять тысяч рублей. К сожалению, купюры большего достоинства в России еще не были отпечатаны, а если бы были, то народ с липкими руками понахватал бы и их в количестве более чем изрядном – запросто можно было бы построить городишко средней руки с тремя десятками ресторанов.
«Волчанец» стоял у необустроенного, вроде бы временного причала, хотя в России временная величина давно превратилась в постоянную и ничего более постоянного, чем временные постройки на родных просторах, у нас нет. Клочок берега, к которому притулился «Волчанец», был застелен старыми скрипучими досками, в землю была врыта чугунная болванка для зачаливания.
Вниз, к самому катеру, Володя спуститься на колесах не мог, – если бы спустился, то вряд ли бы потом машина вскарабкалась назад; Шмелев расплатился с ним и велел заниматься следующим пассажиром, а сам, аккуратно перебирая ботинками земляные выбоины-ступеньки на тропе, перебрался к катеру, под которым с тусклым шлепаньем шевелилась вода, рождала внутри ощущение холода и вселенского неуюта… Шмелев невольно поежился.
В голову часто прибегали мысли о боли, которую раньше он не знал совершенно, – впрочем, раньше ему и лет было не столько, сколько сегодня… Все мы с удовольствием вспоминаем себя молодых и жизнь ту, пирушки, в которых участвовали, шалея от танцев и чарующей музыки, готовой разорвать душу, игр в бильярд в прокуренном зале и женщин, которые были с нами, путешествия в дальние моря и книги, которые об этом написали, и гораздо реже в душе появляется ликующее чувство, когда мы оцениваем себя нынешних.
Ключи от «Волчанца» у Шмелева были с собой – и от рубки, и от каюты, и от машинного отсека; корабль, он ведь как всякое человеческое обиталище, имеет несколько ключей, второй набор находился у Гоши Кугука, третья связка была специально отдана в дежурное помещение: вдруг случится какое-нибудь ЧП и понадобятся ключи?
Он прошел в небольшую тесную рубку, остро пахнущую крабами, кальмарами, трепангами, вообще морскими существами, не имеющими ни головы, ни ног, на человека посматривающими косо, – но никак не затхлой рыбой, ни гнилью донной, запах этот сложный и не всегда приятный Шмелев воспринимал, как обычный дух моря, и был бы недоволен, если бы он исчез, провел пальцами по шероховатому прохладному штурвалу, пересчитал гладкие лакированные рожки.
Гоша молодец, постарался навести лоск – слишком уж все после безумного ночного жора были измотаны, до посинения измотаны, руки не могли поднять, спотыкались о собственные ноги и падали, хотя, надо отдать должное, добычу ночную из рук не выпустили… Шмелева, конечно, оседлала боль, забила глаза острекающей темнотой, но он все видел и помнил.
Он поймал себя на том, что боится боли, – не дай бог, она вновь внезапно навалится на него сейчас, – под мышками даже пробежала нехорошая простудная дрожь.
Помня прошлое, боль, которая уже несколько раз ошпарила его, он старался не делать резких движений. Только плавные, словно бы смазанные маслом, и это у него получалось.
С другой стороны, к чему ему сейчас беречься? Берегись не берегись – все едино, поскольку жить ему осталось месяц, может, полтора, а далее кончина в сильных болях… Хотя при прощании старичок-доктор отвел глаза в сторону, шмыгнул носом – что-то соображал про себя и произнес фразу, достойную не медика, а философа-мыслителя:
– Что будет дальше – посмотрим.
Так вот, что будет дальше – смотреть не надо, отпущенное время уже пошло. Осталось только принять окончательное решение и – выполнить его.
Рулевой отсек всякого судна исстари назывался румпельным помещением, которое всегда было хорошо защищено от воды и ветра, здесь пахло не только солью волн, но и старыми картами, морскими дорогами, солнцем, спрятанным в старом хрустальном пузырьке, большими расстояниями, тайнами пространства; здесь, вспоминая дом родной, можно было дать послабление душе, размякнуть и подчиниться грусти, без которой во всяком долгом плавании никак не обойтись.
Длинные четкие линии вантового моста, неземное изящество их родили внутри неприятие… Шмелев даже не смог сформулировать себе, чем же он недоволен, подумал, что лучше смотреть на берег, чем на мост, и перевел взгляд на дуплистую, с черным комлем березу, оседлавшую горку, вросшую в землю и камни, и сумевшую удержаться на ветру, с низкими кривыми ветками, украшенными желтыми увядшими листами… Березка заставляла человека думать о жизни, печалиться о живых, могла заставить даже плакать.
Шмелев смотрел на берег, видел и не видел его, корявая береза простудно подрагивала, будто истекала болью и последними соками, может быть, даже слезами, двоилась в глазах капитана… А вообще-то, он находился сейчас в состоянии, которое способно не только калечить, но и лечить человека, – слезы ведь счищают с души коросту, струпья, смывают хворь. Впрочем, дай боже, чтобы слезы эти были только лечебными.
Втянул Шмелев воздух сквозь зубы в себя, с сипением выдавил и переместился в машинный отсек.
Машина на «Волчанце» стояла хорошая, трофейная, – из числа браконьерских, добытых пограничниками, некапризная, заводилась легко, работала экономно, горючее берегла – лишнего грамма не позволяла себе съесть, скорость позволяла посудине развить приличную. Шмелев похлопал по корпусу ладонью, словно бы благодарил машину за службу, – отметил, что корпус сухой, Гоша, несмотря на то что был подшофе, тщательно обтер его тряпками: следил за механизмом, не допускал, что на металл села ржавь.
На запуск машины и легкий прогрев Шмелеву понадобилось полторы минуты, двигатель заработал почти мгновенно, обрадованно, словно бы узнал хозяина; Шмелев добавил немного оборотов, поднялся в рубку.
Серое угрюмое пространство ожило вместе со стуком машины, зашевелилось, откуда-то приполз неказистый светлый лучик, сел на нос «Волчанца», но очень быстро исчез, словно бы испугался толстой чайки с опущенными крыльями, также вознамерившейся взгромоздиться на нос катера… Лучик света был сигналом отхода.
На тихом ходу Шмелев вывел катер в свободное пространство, сделал это чисто, без помарок – ни один инспектор не придерется, хотя было очень тесно, развернулся почти вокруг собственной оси и, взбурлив чистую зеленую воду, неторопливо двинулся к горловине, выводящей из собственно Змеинки – гавани всех судов здешней флотилии. А их было много, разных кораблей и корабликов, отсутствовали, может быть, только надменные богатые яхты, а так было все, всякой твари по паре.
Поймал себя Шмелев на том, что внутри у него ничего не было – пусто, вот ведь как – ни боли, ни горечи, ни озноба, ни тепла с холодом, ни света, ни удушающей темноты, он не узнавал себя. Впрочем, нехорошее удивление это скоро прошло.
Слишком долгой и извилистой, с глубокими маневрами влево и вправо была у него жизнь, слишком многое осталось позади… Если ордена и медали его разложить на скатерти и, пересчитав (на всякий случай), раздать сотрудникам дальневосточного пароходства, которых ныне развелось больше, чем положено, – каждому на грудь обязательно достанется какой-нибудь дорого поблескивающий золотом отличительный знак.
Выплыв за пределы Змеинки, он по рации связался с портнадзором – предупредить, что покидает пределы гавани, это надо было сделать обязательно… Эфир был чист, без скрипов и трескучего порохового горения, голос диспетчера был ясный, будто он сидел в трех шагах от рубки, на палубе «Волчанца» с чашкой чая в руке и закусывал чай сдобным японским печеньем.
В открытую дверь рубки влетал ветер, тормошил бумаги, разложенные за спиной Шмелева на крохотном штурманском столике, над которым висела сильная японская лампа в виде драконьей головы, – выручала эта лампа капитана много раз, – толкался ветер в противоположную дверь рубки, закрытую Шмелевым, и скулил обиженно, когда приходилось разворачиваться.
«Волчанец» шел на полном ходу, хотя нагрузку машине Шмелев не давал, двигался так, чтобы ничего не упустить, засечь все, что надо было засечь. С правой стороны под нос «Волчанца» поползли белые кудрявые хлопья – примета того, что ночью может грянуть шторм, но до будущего шторма Шмелеву уже не было никакого дела, он сейчас думал о другом.
У маяка попалась идущая навстречу шхуна, на крохотной палубе которой плясали, бренькали на гитаре, суетились двое горластых расхристанных цыган… Раньше, когда Владивосток был закрытым городом, здесь цыган не было – не водились, ими вообще не пахло, а сейчас на бывшей режимной территории можно было найти кого угодно, даже синекожих сенегальцев и рябых коричневых эфиопов…
Впрочем, ни к сенегальцам, ни к цыганам с эфиопами Шмелев в претензии не был, эти люди никак не волновали его, хотя любопытно было другое: что же привело их сюда, какой интерес?
Не то ли самое желание, что начало обуревать корейцев и азербайджанцев, и в конце концов заставило их оседлать здешние прилавки и установить на помидоры с редиской свои непомерные цены? Или, может, что-то другое?
Цыганская шаланда обдала «Волчанца» густым столбом «жидкого дыма», у Шмелева от резкого духа его на глазах даже слезы выступили – так всегда бывает, когда мимо проходит «корабль мошенников». Продукция корабля имеет отношение к копченой рыбе примерно такое же, как к производству телевизоров и мотоциклетных шлемов, – никакого, в общем; бракодельную продукцию цыган можно продавать только в тех районах, где, кроме мороженого хека, никакой другой рыбы не знают, поэтому и веселятся цыгане – их время пришло, туда они свою продукцию и отвезут…
Вместе с цыганской шаландой уплыл в никуда и удушливый копченый химический дух.
Шел Шмелев долго. Не задержавшись ни на мгновение на кальмаровой банке, он сменил курс на несколько градусов и ушел влево, в пустынный, отдающий холодом сектор морского пространства. На старых картах здесь были отмечены мели, но Шмелев не боялся их, для «Волчанца» они вообще не были страшны – напороться на них мог только какой-нибудь тяжелый танкер или сухогруз, по самые макушки мачт забитый громоздким, имеющим большой тоннаж товаром.
Через некоторое время он сбросил обороты двигателя до нуля, катер по инерции прошел метров двести по звонкой пузырчатой воде, потом вздохнул печально, словно бы догадывался, что с ним будет, и остановился.
Здесь, в этом не прикрытом ни одним островком, ни одним облачком месте, царил сейчас только один звук – звук плещущейся воды; когда Шмелев заглушил машину, то звук этот усилился многократно, сделался назойливым, начал проникать внутрь, в кости, в кровь, в мышцы, будто нечистая сила, видевшая свою цель только в одном – угробить человека, стремилась совершить это как можно быстрее.
Потряс головой Шмелев – хотел вытряхнуть из себя мокрый противный звук этот, но из затеи ничего не получилось, и тогда он просто-напросто выкорчевал его из себя: не захотел слышать, и все… И перестал слышать это губастое шлепанье, вот ведь как.
Небо над морем посерело, сделалось плотным, глянцевым, словно бы его покрыли лаком, – ну будто огромная глянцевая обложка, посреди которой иногда вдруг возникает, словно бы белым крикливым комком прорвавшись сквозь бумагу, чайка и проворно уносится в сторону, через несколько кратких мигов становясь невидимой…
Совсем сдал Шмелев, расчувствовавшись внезапно возникающими и пропадающими чайками, птичьими стонами, словно бы из ничего рождающимися неподалеку и быстро гаснувшими, мертвым покоем, неожиданно навалившимся на него, болью, которая вроде бы и исчезла, ан нет, совсем исчезнуть она не смогла, заворочалась вновь… Ожила зараза.
Он посмотрел на карту – сильное ли здесь течение, надо бросать якорь или не надо?
Течение было слабеньким, исследованным еще в пору Колчака, адмирал ведь очень увлекался разными водными премудростями, гидрографией и составлял собственные карты, которые живы до сих пор, действуют и сегодня, – якорь можно было не бросать, и Шмелев перешел в машинный отсек.
Вода под днищем катера захлюпала встревоженно. Шмелев присел на скамейку, которую Гоша Кугук специально изладил для себя, чтобы поменьше сидеть на корточках – у Гоши еще с северных плаваний побаливали ноги.
Вообще скамеек этих, самых разных, Гоша смастерил штук семь, не меньше, все они разбросаны по катеру, находятся в самых разных местах, очень крепкие, неказистые, служат верно и служить будут долго.
В углу машинного отсека краснели окрашенные в нержавеющий сурик заглушки – два больших, похожих на автомобильные баранки вентиля. Это были вентили кингстона.
У народа не очень грамотного, знакомого с морями и океанами только по книгам знатоков, почему-то считается, что кингстоны существуют лишь у боевых кораблей, иначе говоря, – у плавающих железяк военного назначения, начиная с грозных громадин, начиненных крупнокалиберной артиллерией, кончая корабликами совсем маленькими, относящимися к подсобному флоту. И существуют с одной целью – повторить судьбу «Варяга», если вдруг противник, значительно превосходящий в силах, попытается захватить корабль.
Так вот, господа хорошие, кингстоны есть у всех морских судов, независимо от назначения – возит ли корабль коровий навоз на поля в соседнюю область, наблюдает ли с научными целями за чайками, выясняя по специальному заказу Академии наук, какая порода из них самая крикливая, или же стоит без движения где-нибудь у берега, изображая из себя памятник плохой погоде… У всех судов есть кингстоны.
Забортная вода на всякой плавающей единице нужна каждый день – для охлаждения судовой машины, для мытья, орошения, опреснения, балласта и прочее, удобнее всего брать ее где-нибудь с семиметровой или даже десятиметровой глубины, чистую и прохладную, а это можно сделать только через трубы кингстонов.
Шмелев наклонился над крайним вентилем, сделал два оборота влево, услышал, как под днищем «Волчанца» что-то зашевелилось, – живое, большое, прилипшее к нижней части катера, потом где-то очень глубоко раздалось четкое, словно бы нарисованное кем-то, бульканье…
Выхода у Шмелева не было – либо он через месяц с небольшим, корчась в оглушающих болях, обгрызая себе до мяса губы, умрет или же уйдет к верхним людям сейчас – без мучений, в сознании, при здравом уме… Но шаг этот трудный надо сделать обязательно, Шмелев так решил, а что-то решив, он всегда старался отметать сомнения в сторону.
Следом он раскрутил второй вентиль, – на пару рисок побольше первого, корпус «Волчанца» жалобно дрогнул, – катер, живое существо, прекрасно понимал, что решил сделать человек, раздался плачущий протяжный стон, способный разжалобить любую жесткую душу: умирать «Волчанец» не хотел. Шмелев отрицательно покачал головой – что решено, то решено. Стон прервался.
Минут через десять на полу машинного отсека появилась темная, с крупными, масляного оттенка пузырями вода. Шмелев ногой подтянул к себе вторую Гошину табуретку, неторопливо, не ощущая в себе ни дрожи, ни трепета, ни озноба, – ничего, словом, будто бы он уже был мертв, – переместился на нее: сидеть на двух скамейках было удобнее, чем на одной.
О днище катера, снаружи, что-то скреблось, будто водяные обследовали железную скорлупу, которая скоро достанется им в наследство, – любого другого капитана этот скребущий звук встревожил бы или хотя бы заинтересовал, но только не Шмелева…
По катеру пронесся сиплый протяжный вздох – «Волчанец» сопротивлялся. Шмелев покрутил еще немного один из вентилей, ближний к себе, вздох прервался, словно бы некоему невидимому существу перехватили глотку.
Вода в катер стала поступать быстрее, под самыми ногами Шмелева снова что-то заскреблось проворно и нервно, но он не среагировал на этот тревожный звук, даже не услышал его, погрузился в самого себя, в свое невеселое состояние…
Большая часть жизни у него прошла, как у большинства людей, – и детство в нем было, и комсомольская юность, и «вышка» – высшее мореходное училище, и красивая жена, и дочь была, тоже очень красивая, любившая отца только до определенного времени, – все это унеслось, как с «белых яблонь дым»: жена умерла рано, хотя была врачом по профессии и знала, как можно сохранить жизнь человеческую, дочь вышла замуж за жгучего мексиканца и бесследно растворилась в недрах большой страны, в последние два года от нее не то чтобы письма, даже простые цыдульки, нацарапанные на клочке бумаги, обычные почтовые открытки не приходили, и Шмелев понял: дочь – отрезанный ломоть…
Да и фамилия у нее теперь не Шмелева, а очень звонкая, далекая от русских фамилий – Вейсгаупт. Женщину с такой редкой фамилией можно было легко отыскать не только в Мексике, но и в Антарктиде, в царстве пингвинов, на зов Шмелева никто не откликнулся, и он понял: искать дочь не надо.
Так он остался один. А что такое остаться одному в казенном, неприветливом, никогда не готовом прийти на помощь городе? Это означает, что даже могилу Шмелева некому будет обиходить, обмахнуть веником холмик и протереть мокрой тряпкой гранитную плиту с его именем. Уж лучше лежать в могиле на дне морском, – как и положено моряку, – и не тревожить собою никого, ни единую душу в мире живых.
Вода продолжала прибывать, ворочалась под Шмелевым недовольно, хлопала пузырями, которые стучали в дно катера, будто каменьями, – а может, и не вода это была вовсе, а что-то иное.
В машинном отсеке у Гоши на крюке висела старенькая «летучая мышь» – ржавый-прержавый, гнутый-перегнутый, покореженный, как гнилая жестянка, в которой иной рыбак хранит червяков, фонарь, – но был этот мятый фонарь исправен, работал хорошо, пламя у него было яркое, широкое, ровное, будто бы вырезанное из свежей желтой жести, никогда не дергалось и не трещало. Гоша заправлял «летучую мышь» настоящим керосином, а не появившимся в последнее время в продаже модным «розжигом для костров», составной частью которого была, судя по всему, вода из-под крана…
Рядом с фонарем у Гоши должна была находиться зажигалка, это обязательно. Шмелев пошарил рукой по одной полке, по другой, нащупал небольшой прозрачный пенальчик с надписью «Парламентская газета» и быстро высек из зажигалки огонь.
Через несколько мгновений и фонарь вспыхнул радостно, светло, будто маленькое солнце… Воды в катере стало заметно больше, корпус огруз, «Волчанец» постепенно терял свою остойчивость, подвижность, на несколько сантиметров опустился в море и вряд ли сейчас был способен гоняться за стадом, например, лакедры – редкого восточного тунца.
Серая темнота, начавшая сгущаться около «Волчанца», сгустилась еще сильнее, море по-прежнему было пустынным, тихим – никаких звуков… Кроме глухого, какого-то задавленного плеска волн и неясного шевеления под самим катером.
Впрочем, все это было Шмелеву совершенно безразлично. Он словно бы омертвел, даже окаменел немного. Единственное живое, что в нем оставалось – боль, пришедшая опять, которую он попробовал уговаривать, как это делали старики на фронте, но она не подчинилась ему, жила и дышала по своим вражьим законам, и Шмелев вынужден был отступить.
Яркий плоский пламенек в «летучей мыши» неожиданно занервничал, затрепетал обреченно, словно бы попал под беспощадный ветер – вот-вот оторвется от фитиля…
Это был сигнал, Шмелев оценил его именно так, пошевелился зябко и загнал ладони в рукава, соединив руки в одно целое… Он, собственно, и с катером своим, с «Волчанцом», тоже хотел стать одним целым.
Плеск волн, сытый рокот уходящего из судна воздуха, вялое шевеление воды за бортом сделались совсем глухими – еще немного и они угаснут вовсе. Он пробовал думать о прошлом, о жене своей, так рано покинувшей его, красивой и домовитой женщине, работавшей в медицинском департаменте города, о дочери, быстро забывшей материнскую могилу, забывшей отца родного, не знающей ныне даже, жив он или нет, – позабыла она, наверное, и Владивосток, один из сложнейших и ярких, с очень непростой судьбой городов России, и те места приморские, редкостные, с которыми было связано ее детство…
При мысли о дочери лицо Шмелева расстроенно потемнело, будто внутри у него что-то вскипело, уже готово было выплеснуться наружу, но человек умело сдержал это худое варево…
Яркое пламя, сидевшее за стеклом «летучей мыши», вновь задергалось, будто ему не хватало воздуха (может, так оно и было?), и начало стремительно тускнеть, будто из него уходила жизнь…
Может, в фонаре иссяк керосин, но такого не должно быть по определению – Гоша Кугук всегда держал фонарь заправленным под самую пробку, пробку же завинчивал до отказа и делал это на берегу, не в море, – на воде ведь может случиться всякое и делать это будет поздно… Гоша законы эти знал хорошо, соблюдал их, как главный свой устав, поскольку сам не раз попадал в беду, чтил Бога выше всего и всех на свете и был прав.
Корпус «Волчанца», дрогнув снова, чуть просел на корму, но катер еще держался на плаву… Шмелев по-прежнему был спокоен, ничто не отразилось на его лице, – приподнявшись на скамейке, глянул, что там, за бортом?
А за бортом было совсем темно, сумрак уже близко подполз к катеру, одного небольшого броска не хватило, чтобы накрыть судно целиком, вот предночная темнота и собирала силы, чтобы сделать последний прыжок.
В голове было… ничего там, собственно, не было, пусто, думать ни о чем не хотелось, да и не мог он уже думать, времени на это совсем не осталось. Вообще пришла пора дать оценку прожитому – каким оно было? Доволен ли он им? Не стыдится ли своего прошлого?
Нет, прошлого Шмелев не стыдился, он никогда не юлил, не предавал, никого не подставлял под удар, чтобы спасти себя, старался жить честно, поэтому никакого богатства так и не нажил, – кроме этого катера, пожалуй, – работать старался так, чтобы никто никогда не говорил о нем худых слов…
Так оно и вышло, в общем-то.
Конечно, Шмелев, как всякий человек пенсионного возраста, в ельцинскую пору сделался лишним, и хотя он не участвовал ни в каких преобразованиях и не рубил топором советскую власть, не отличился и в сопротивлении демократам, а честно работал на своем месте, он все равно здорово мешал и левым и правым, – всем, словом, а здешним революционерам, гайдарам, чубайсам, авенам – особенно. Что делали революционеры с такими людьми – известно…
Засовывали в кастрюлю, накрывали сверху крышкой и ставили на газовую горелку, включенную на полную мощь. Доводили до кипения. Можно себе представить, во что там превращался лишний человек.
Страшная была пора. Бандиты и неучи управляли городом, адмиралы продавали современные боевые корабли на иголки, милицейские начальники сколачивали разбойные шайки.
Горькое, тяжелое время то ушло, но многие люди, в том числе и те, кого Шмелев хорошо знал, ушли также, не выдержали, – души у них разорвались, сердца тоже не выдержали, – пропитанный водкой вольный ельцинский мир они сменили на однокомнатные земляные квартиры, которых немало возникло тогда на местных кладбищах.
Наверное, надо было бы уйти и Шмелеву, но он посчитал такую позицию трусливой и не ушел, остался… Может быть, напрасно остался?
Внутри «Волчанца», под двигателем раздался удар, словно бы в катере что-то лопнуло, – скорее всего, хребет, но думать о чем-либо он уже не мог и закрыл глаза.
Боль, возникшая было, неожиданно отступила и, словно бы задумавшись, затихла. Все, пора на вечное поселение, на дно морское. Вряд ли кто здесь его найдет.
Вода залила ему ботинки и поползла выше… Катер боролся, вздрагивал, как и прежде, он не хотел, в отличие от Шмелева, умирать.
Сколько времени Шмелев провел в забытьи, он не помнил… Вообще-то, он находился в это время между небом и землей, мелочные минуты, даже десятиминутки он не считал, ждал, когда сделает последний вздох и душа его оторвется от тела… Ждал, но не дождался – неожиданно рядом с «Волчанцом» взревел мощный мотор, в борт жестко ударила волна, сильно накренила катер, в следующее мгновение раздался крик, вызвавший звон в ушах:
– Игорь Сергеевич!
Шмелев узнал Гошин голос. Как же Гоша нашел его в необъятном океанском просторе, было непонятно, следом он услышал другой голос – таксиста Володи, подвозившего его в Змеинку…
Было холодно. Сильно замерзли ноги. Вода уже подбиралась к коленям сидящего Шмелева, набралось ее много, но «Волчанец» все еще держался на плаву, не тонул.
Крик повторился – Гоша Кугук кричал изо всех сил, не боясь, что от напряжения у него порвутся голосовые связки или лопнут барабанные перепонки… Как же он все-таки отыскал Шмелева, ведь маршрут «Волчанца» не был нигде отмечен?
С другой стороны, стало малость понятно, как он нашел «Волчанец» – обеспокоившийся таксист Володя подсобил, поднял тревогу, портовый диспетчер своими радарами отыскал на огромном экране океана маленькую точку, отклонившуюся от всех известных маршрутов – коммерческий рыболовецкий катер, и передал данные на быстроходное спасательное судно, ринувшееся вдогонку за Шмелевым.
Через борт «Волчанца» поспешно перевалился Гоша, наряженный в две теплые матросские тельняшки, и, издав громкий крик: «Что же вы наделали, Игорь Сергеевич?» – ушел в воду под двигатель, нырнул с головой, хотя никакой глубины там не должно быть, – поспешно заработал руками.
Опытный человек, он мигом понял, что задумал сделать Шмелев.
На то, чтобы перекрыть кингстон, Гоше хватило трех минут. Под корпусом «Волчанца» раздалось недовольное бурчание, очень недоброе, с кашлем и злыми всхрипами. Мокрый Гоша перелез через Шмелева, как через неподвижную лесную корягу, с борта прокричал на катер-спасатель:
– Подай сюда шланг откачки! Быстрее!
– Зачалиться за «Волчанца» можно?
– Можно!
– А если «Волчанец» пойдет на дно? – испуганно прокричал с кормы спасателя чересчур мнительный палубный матросик.
– А вострые топоры на что существуют? Тогда только одно – рубить концы.
Спасатель прижался к кранцам «Волчанца», в машинный отсек, куда больше всего поступило воды, перебросили толстый шланг откачки…
А через полчаса Гоша запустил и двигатель «Волчанца», добавил оборотов и включил свою водоотливку, затем, переодевшись в сухую тельняшку, по-хозяйски уселся на скамейку рядом со Шмелевым.
Помолчав немного, отдышавшись, он огляделся, поправил огонь в «летучей мыши» и, глянув на Шмелева с жалостливым удивлением, – ну словно бы видел его впервые, – спросил тихо, почти шепотом:
– Что же это ты… что же это вы удумали, Игорь Сергеевич?
Шмелев махнул рукой:
– Можно на ты, Гоша… Вообще давно пора перейти на ты.
– Что все-таки случилось? – Гоша заморгал глазами часто, как-то беспомощно, он понимал: в жизни Шмелева что-то произошло – что-то неприятное, болезненное, сломавшее капитана, изрубившее его жизнь, но что именно, не знал… И понимал хорошо, что причину никогда не узнает.
Шмелев молчал. Потом вздохнул и положил руку на Гошино плечо.
– Это неинтересно, Гоша, – сказал он, снова помолчал немного, хотел было добавить: «Но все это осталось позади», – в следующий миг посчитал, что фраза эта может прозвучать очень жалко, и не стал ничего добавлять.
«Волчанец» тем временем, кажется, немного приподнялся над самим собой, – во всяком случае, что-то толкнуло его снизу в днище, – Гоша понимающе улыбнулся: все, катер больше в воду не уйдет… Не потонет. Шмелев на толчок не обратил внимания. Он был опустошен донельзя, нынешний день, а за ним и вечер, переходящий в ночь, словно бы выскребли лопатой все из его души, ничего не оставили, и вот какая штука – вместе со всяким мусором, собравшимся внутри, выковырнули и боль, она неожиданно начала гаснуть, словно бы под сердцем у него прорвался какой-то нарыв и из свища стал вытекать гной…
Не вынырнул Шмелев на поверхность самого себя, даже когда Гоша запустил машину «Волчанца» и встал за штурвал, сильным движением крутанул колесо, украшенное прямыми штырями рукояток, похожих на соски боевых мин, разворачивая катер на одном месте, а затем неторопливо двинулся вслед за спасателем в порт, к Змеинке.
Гошу подмывало высказать некие резкие соображения по поводу случившегося, а потом еще добавить, несмотря на социальные различия со Шмелевым, но он сдержал себя, лишь оглянулся назад, на машинный отсек, где в «летучей мыши» сиял огонь, и махнул рукой прощающе.
Ладно, мол, что было, то прошло, главное, чтобы это никогда не повторилось – во-первых, а во-вторых, Гоша был таким же брошенным, одиноким, совершенно забытым человеком, как и Шмелев, и вообще-то им сам бог велел не ругаться и не высказывать друг к другу претензии, а находиться рядышком… Когда вместе, то и жизненные рвы, буреломы и ямы преодолеваются легче, это закон.
А законы морские, сухопутные, горные, подземные, речные, лесные и прочие Гоша чтил свято, как, собственно, и Шмелев… Шмелев ведь тоже был слеплен из того же теста и тоже чтил эти законы.
Что с ним будет дальше, Шмелев не знал. Кугук также не знал. Ни про себя, ни про шефа.
Намокшие брюки облепили Шмелеву ноги, ткань неприятно прилипла к икрам. Куртка тоже намокла, точнее, не намокла, а подмокла снизу, в карманах хлюпала влага.
Внутри у Шмелева, когда отпустила боль, неожиданно все ослабло, сделалось пусто и в голову внезапно пришла мысль, что организм его способен сам найти лекарство, выработать некую антиболь, которая свернет шею таинственной хвори, допекавшей его и на ночной рыбалке и позже, это было несколько раз, и фантастическая мысль эта наполнила его душу незнакомым спокойствием…
Прошло еще немного времени и он зашевелился, высунулся из машинного отсека.
Темнота опустилась на воду, сомкнулась с ней, приближался шторм, волны налились тяжестью, сделались твердыми, «Волчанец» с громким стуком перепрыгивал с одного пенного гребня на другой, – море сделалось словно бы деревянным. Мимо проплыли камни и земля острова Скрыплева, украшенного игрушечным белым маяком, похожим на горную сванскую башню.
Неужели он чуть не лишился всего этого?
Внутри, в самой душе, в очень далекой глубине возникли и очень скоро пролились очищающие, придающие организму силы слезы, и Шмелев внезапно заплакал, поскольку понял очень важную истину: нельзя уходить из непростого, часто очень скорбного, неудобного, даже неприятного мира людей, болезней, хворей, испытаний, лишать себя всего того, что он сейчас видит, пока это не разрешит Господь Бог.
Вот когда разрешит – тогда пожалуйста, – уходи! А пока держись руками, зубами, всеми силами, что у тебя есть, тех часов и минут, что отведены Всевышним человеку, в том числе и ему, Игорю Сергеевичу Шмелеву.
Иначе Шмелев перестанет быть православным человеком, а он этого очень бы не хотел.
Сын Пролетной Утки
Светлой памяти Альберта Мифтахутдинова
Во время войны, и чуть позже, в пятидесятые годы, по тундре ездили вооруженные люди в форме, с погонами, ездили работники райкомов и райисполкомов и говорили тундровым корякам, а если дорога приводила их в чукотскую тундру, то говорили и чукчам:
– Как только увидите в тундре русского – стреляйте! Убивайте не задумываясь. Русский в тундре – это беглый русский. А чтобы у вас навар был – по десять патронов за каждого убитого. Годится?
– Годится, – задумчиво отвечали коряки и чукчи и, случалось, сшибали пулей с ног иного заеденного, закусанного комарами до смерти бедолагу с выпитой кровью, обгрызенного до костей – только кожа осталась у человека, да кости, больше ничего, отрезали у беглого ухо, чтобы было что предъявлять начальству – «вещдок», так сказать, – и получали в награду десять патронов.
Вот сколько жизнь, оказывается, стоила – десять каких-то патронов. Невелика цена!
В тундре есть много ям, в которых лежат люди – совсем неиспортившиеся, несгнившие, некоторые, будто живые, поскольку лежат во льду, – худые, вымороженные, в плохонькой одежде, большинство босиком, с черными – то ли отдавленными, то ли отболевшими пальцами, которым суждено было отвалиться, но хозяин предстал перед Всевышним раньше, чем пальцы отвалились, – Иннокентий Петров эти ямы знает наперечет, у него даже карта есть, где они помечены крестами, но Петров карту эту никому не показывает, боится.
И есть чего ему бояться – в тундре-то ведь следы нескрытые остались, свидетельства убийства. А если это кому-нибудь не понравится, то за жизнь Петрова дадут не больше, чем за жизнь тех несчастных беглецов, – все те же десять патронов.
Либо имеется еще вариант… Как в том объявлении, что Петров недавно прочитал в местной взбалмошной газетенке, больше всех занятой перестройкой: «Объявляется прием в исправительно-трудовую колонию усиленного режима. Срок – от 5 до 12 лет»… Нет, мало все-таки стоит жизнь человеческая. Петров вздохнул, отогнал комаров, лезших прямо в котелок, в котором уже пофыркивала уха, ложкой подцепил рыбий пузырь, плавающий на поверхности, сжевал без всякого вкуса – пузырь был сырым.
Помешал варево. Неожиданно почувствовал – сзади кто-то стоит, в спину дышит. Аккуратно, почти неприметно, по-охотничьи, коря себя за неосторожность – сел слишком далеко от карабина, Петров потянулся за оружием, задержал в себе дыхание. Если это медведь, вздумавший отнять у него уху, то он и пикнуть не успеет, как Петров просечет его насквозь горячим жигалом, потечет у Мишки из дырки вонючий воздух, если это пара волков – самец и самка, целая семья, то тогда дело будет похуже, но он и тут справится, а если… Он чуть склонил голову на плечо, скосил глаза и неожиданно улыбнулся.
Сзади к костру подошел олешек – молодой, любопытный олененок с тонкими резвыми ножками и огромными фиолетовыми глазами, влажными и чистыми – совсем юный еще, совсем дурак, не понимает, что значит для него человек.
– Ну чего пришел? – спросил у олешека Петров. – Садись! – свел маленькие жидкие бровки к переносице, рукой сделал приглашающий жест.
Олешек в ответ только фыркнул: человек ему был симпатичен, но садиться гостю чего-то не хотелось.
– Садись, садись! – снова сказал олешеку Петров. – Ухи хочешь?
Молодой олень ухи не хотел, он все больше по части ягеля – жидкого в эту пору, будто плесень, раскисшего и невкусного, и еще грибов – в тундре в нынешний год народилось много грибов, большей частью белых, огромных – таких, что трех грибов олешеку, у которого желудок был маленьким, еще не растянулся, не огруз, запросто хватало на обед. Грибы здесь были вкусные, крепкие, хрустящие, стояли долго, и что главное – в них черви, как на юге, не заводились. По части грибов у оленя в тундре было два соперника: человек и еврашка. Человек – это понятно, а еврашка – это здешний рыжий суслик, очень веселого нрава и очень общительный товарищ – с еврашками олешек старался дружить, они ему нравились.
Черви в грибах не заводятся по одной причине – холодно червяку с голой кожей жить тут. Кругом вечная мерзлота. Стоит мох отодрать от земли, как видна голубовато-черная искрящаяся земля, твердая как камень. Гриб корешками своими за мох держится, вглубь не прорастает – прячет свой низ, боится застудить. Никакой червяк в мерзлоте не заводится, словом – куда ему! Олешек слышал, как люди, собиравшие в тундре грибы, ругаются, гремя блестящими цинковыми ведрами:
– Ну хоть бы червяк какой в грибы забрался! Тогда понятно было б – вкусный гриб или невкусный?
Обо всем-то люди по червям судят, чем слаще еда – тем больше должно быть червей… Так выходит?
Один гриб люди не любят – мухомор. А мухомор для оленя чрезвычайно желанный гриб, олени его часто ищут, вздыхают жалобно, если не находят, скулят по-собачьи: мухомор – гриб целебный, веселый, вкусный, олени пьянеют от него, а пьяные, здорово веселеют, становятся смелыми, дурными и ведут себя, как люди – куражатся, дерутся, кричат, ссорятся, потом отходят в сладком сне – ложатся на мох, вытягиваются и лежат до самого утра – их даже волки согнать с лежек не могут.
– Ну садись же! – снова пригласил олешека Петров, достал из рюкзака юколу – большую, разрезанную от хвоста до головы плоскую рыбину с рубиново-красным вяленым мясом. Юкола – рыба зубастая. Петров ее так и зовет «Рыба зубастая», самая лучшая юкола идет июньская, а чукчам и корякам разрешают ловить рыбу только в августе, когда весь лосось – почти весь – уже отмечет икру и лежит, гниет на дне мелких речек, либо преет по берегам.
Все не так, все по-уродски, все криворуко, все построено на подчинении одного человека другому, на подчинении системе, а система, она сожрет каждого, кто мыслит чуть повольнее, да потолковее других. «Эх, люди!» – Петров вздохнул.
Многое утеряно. Совсем утеряно. Например, культура ездовых собак. Хорошо, что хоть олени остались, есть пока на чем ездить, а если оленей не будет – Петров покосился на олешека, который чуть отступил от костра и теперь зачарованно смотрел на огонь – пламя ему нравилось, фиолетовые брызги рождались в оленьих глазах, прыгали, перемещались с места на место, – если оленей не будет, то тогда коряку, чукче, якуту и эвену с эвенком совсем худо станет.
В Уэлене до последнего времени, говорят, работало оленье такси: каюр вез пассажира по тундре куда тому надо было, километры определял на глазок и пассажир не капризничал, так «по глазку» и отсчитывал денежки – сколько каюр ему говорил, столько и платил.
А если олени пропадут, как и ездовые собаки, тогда что? Ездовых собак надо возрождать заново. Раньше их всему миру поставляла Чукотка, а теперь собак самих надо завозить на Чукотку, в Якутию. На север Камчатки тоже надо завозить. О юге говорить нечего – юг обойдется и без собак, там и так хорошо – пароходы, машины, летающее, грохочущее, дымящее железо.
На Аляске каждый год устраивают собачьи гонки, первый приз семьдесят тысяч долларов, приглашают туда и наших, Иннокентия, например, тоже приглашали, а выставлять оказалось нечего – дельных собак нет, исчезли псы, трудяги ездовые перемешались с дворовыми и бродячими бездельниками и хамами, выродились – ко всему этому надо возвращаться снова. Думали люди, что железо, бензин и крылья им все заменят, а оказалось – не все.
Отрезав себе немного вяленой лососины, Иннокентий проверил, нет ли где в разрезах червей, а то черви эти чуть ли не от пыли заводятся – стоит только сесть мухе на пластину юколы, как через два дня в мясе, в ложбинках-разрезах заводятся шустрые белые куколки, жирные, вызывающие омерзение; зубами Иннокентий отщипнул ровную скибочку мяса, съел словно конфету. Юкола была хороша – вязкая, нежная, чуть сладкая, Иннокентий в этот раз, когда готовил рыбу, в соль чуть сахара добавил – мясо от сахара было не таким соленым, оно и нежнее и хранится дольше, сахар, оказывается, помогает мясу сохраняться лучше соли.
Зачерпнув ложкой ухи из котелка, Иннокентий подул на нее, съел, с удовольствием почмокал – уха получалась хороша. И юкола была хороша.
Он быстро поужинал. На олешека не оглядывался, хотя тому надо было бы дать хлеба. Впрочем, не все олени едят хлеб – не знают, что это такое. Петров неожиданно ощутил в себе беспокойство – под сердцем возникла глухая сосущая тревога, озабоченно подумал – не заболел ли он?
Самое худое дело – заболеть в тундре, когда находишься один, без напарника. Под мышками у него сделалось холодно, потек противный острекающий пот. Иннокентий не был трусливым, слабым человеком – он никогда не уходил от опасности, наоборот, всегда разворачивался к ней лицом, если ее чувствовал, то двигался навстречу – и чем быстрее сталкивался с ней, тем было лучше, а тут происходило что-то другое, незнакомое ему. Сердце сдавило, мир съежился, увял до малых размеров, словно бы вся округа – тундра с водой, с заплеском и мелкими, мельче кустов, карликовыми березками вместилась в спичечный коробок, а он в этом коробке – мошка, он меньше мошки… Иннокентий медленно поставил остывающий котелок к ногам и обернулся.
Браться за карабин у него даже желания не возникало, он понял, что сзади находится не зверь, и олешека за спиной уже нет – олешек этот был святым, он был посланцем… И как только Иннокентий не понял этого сразу: олешек ведь – из стойбища богов, послан силами, которым подчиняются все чукчи, все коряки, все якуты. Иннокентий замер, лицо его сделалось узким, смородиновые глубокие глаза посветлели, – мокрогубого симпатичного олешка уже действительно не было, на его месте стояла невысокая, ладно скроенная женщина в нарядной легкой накидке, расшитой по краю бисером и двумя узенькими яркими лентами, на ногах у нее красовались изящные расписные сапожки из толстой рыбьей кожи.
У Иннокентия немо дрогнули губы, глаза стали совсем прозрачными.
– Мама, – беззвучно прошептал он и, прижав обе руки к груди, встал на колени.
Мать его была очень молода, когда умерла, ей было меньше лет, чем сейчас Иннокентию, и она была именно такой, какой он видел ее последний раз в жизни.
– Мама, – снова немо прошептал Иннокентий.
Воздух перед ним дрогнул, расслоился, он подумал, что сейчас расслоится и растает и маленькая ладная фигурка, возникшая из ничего, испуганно затряс головой – не хотел, чтобы мать покидала его. Послышался далекий шум – Иннокентий понял, что мать сейчас исчезнет, но мать не исчезла, она тихо, кротко улыбнулась, и Иннокентий на коленях пополз к ней, зашевелил охолодевшими чужими губами:
– Мама!
Мать подняла руки, словно бы благославляя своего стареющего сына, движение было коротким, нежным – сколько бы ни было сыну лет, он все равно оставался для нее сыном, маленьким, требующим ласки человечком – даже когда на висках у него окончательно разредится, вылезет волос, а к шее навсегда прилипнет грязная косица, воняющая потом и жиром, желудок будет дыряв, а тело начинено разными болезнями, как гнездо еврашки припасами, собранными на зиму, он все равно останется для матери маленьким сыном.
– Сколько же лет я тебя не видел, мама? – сыро зашептал Иннокентий, в горле, в груди у него что-то захлюпало, зачавкало, Иннокентию захотелось заплакать – он не понимал, не ощущал, что уже плачет, худые небритые щеки у него были мокры и горячи, грудь разрывалась от тоски и нежности к этой женщине, когда-то давшей ему жизнь. – Я ведь не забыл тебя, мама, я все время помнил тебя… Ты верь мне, мама! У меня есть жена, есть ребенок, – заторопился он, боясь, что мать сейчас исчезнет, растечется в зыбком дрожащем воздухе, обратится в комариное облако: она ведь возникла из ничего и станет ничем – духом, тихим печальным стоном, пространством, растворяющейся синей далью, – мать исчезнет, а он не успеет ей сказать всего, что хочет сказать, – жену мою зовут Ольгой, сына – Иваном, как многих русских. Иванов сейчас много во всех тундрах, даже в чукотской, вот так, мама. Так все получилось, понятно, Пролетная Утка?
Еще не забыл Иннокентий, что мать его имела добрую кличку. Как тысячи других женщин их рода во все времена, мать звали Пролетной Уткой, отца звали Быстрой Рыбой, дядю – Копытом Оленя, деда, который немного шаманил, лечил людей, презирал «огненную воду» и увертывался от дружбы с русскими, – Туго Натянутым Луком; имел кличку и Иннокентий, дали с рождения – Летящий Боевой Топорик – в детстве он лихо носился по тундре, а поскольку ледышки, промерзлый мох и снег, который держался еще в июне, поджаривали пятки, то бегать приходилось вдвое быстрее обычного. Иннокентий летал, а не бегал. Был он задирист, немало красных соплей пустил из носов своих ровесников, да и из носов тех, кто был постарше, потому его и прозвали Топориком, потому он и стал Боевым.
Позже Иннокентий растерял детские качества, стал другим, от клички тоже освободился – не сам, правда, ее Иннокентию поменяли другие – сама власть поменяла, дала имя и фамилию, и стал он Иннокентием Семеновичем Петровым, поскольку отец, оказывается, был не Быстрой Рыбой, а Семеном Петровым.
В каком же это году было, а?.. Нет, Иннокентий не помнит, в каком году, он тогда был еще маленьким и совершенно равнодушно относился к разным толстым бледнолицым людям, разъезжающим по тундре на громких, лязгающих железом гусеничных вездеходах с продырявленными выхлопными трубами, отчего иной гусеничный замученный страдалец палил мотором, как пулеметом – лихо, оглушающе громко, одной бесконечной, раздирающей пространство очередью и сдирал своими страшными гусеницами мох до основания, до льда, – в общем, приехали в стойбище как-то двое бледнолицых, тепло одетых толстых людей, которые, отдохнув, вкусно поев и хорошо поспав, стали скликать народ на собрание.
– Значит, так, товарищи коряки, – сказал один из них, тот, что был постарше, щекастый, с нездоровой кожей, по фамилии Спендиаров, он так и представился: «Инструктор райисполкома Спендиаров», – вы теперь стали полноценными гражданами нашей страны. А что, спрашивается, это значит – полноценный? Это значит, что у вас больше не будет кличек, ибо кличка – это оскорбительно для человека, нормальный человек должен иметь имя, фамилию и отчество, и вы теперь будете нормальными людьми, у вас будут имена, фамилии и отчества, вам выдадут паспорта, вы отныне сможете ездить за границу. – Он говорил долго, убедительно, вдохновенно, стойбище также долго, вдохновенно слушало его, поскольку любило ораторов и вообще человеческую речь, и если бы Спендиаров говорил сутки, стойбище сутки бы его слушало – люди прямо тут, во мху, вместе с собаками и комарами спали бы.
Фантазия у приехавших была бедной – дальше фамилии Иванов, Петров, Степанов и Яковлев они не смогли уйти – ничего больше им не придумывалось, как они ни морщили лбы, потому в тундре, в Якутии, в стойбище коряков и эвенов так много Петровых, Степановых и Ивановых, единственные, кто ушли от этого, были чукчи – у них остались Тымнетагины, Нинивгаки, Ваквутагины, Тевлянто, Нутетеины, Гиутегины и другие – им повезло, а вот стойбище Иннокентия Спендиаров обезличил. Иннокентию было обидно от этого – свою фамилию и свое имя с отчеством он не любил, и не понимал, чем Петров лучше Летящего Боевого Топорика.
– Мама, мне было плохо без тебя, – пожаловался Иннокентий, передвинулся на коленях метра полтора и остановился в нерешительности, боясь, что мать пропадет, – как ты ушла, так и стало плохо. Совсем плохо. – Он еще что-то хотел добавить, пояснить, почему было плохо, но слова не приходили на язык, они умерли.
Взгляд матери сделался укоризненным, печальным, в глазах ее возник горький внутренний свет, лицо продолжало оставаться неподвижным. Мать молчала. Иннокентий зажато всхлипнул, пожаловался:
– А я, вот видишь, охочусь не всегда удачно. Впрочем, чего там, – спохватился он, и удачи ведь бывали: – Песца бью, оленя бью – диких оленей развелось очень много, разрушают прирученное оленье племя, стада, уводят оленух – люди обижаются на них, вот. Морзверя бью, – Иннокентий развел руки, – хотя морзверь не тут, ты знаешь, живет, он больше на севере, но я его все равно бью, мяса-то ведь морского хочется. – Иннокентий всхлипнул, заторопился, видя, как фигурка матери качнулась, лицо ее задрожало, из-под ног заструился слабый туман, и тихая женщина эта вроде бы приподнялась над землей, ровная, ладная стройная, красивая – таких красивых женщин, как мать, Иннокентий больше не встречал в своей жизни, если бы встретил – обязательно бы женился – бросил бы свою Ольгу, быстроглазую, крутую норовом камчадалку, хоть и привязан к ней, а тут, наверное, расстался бы, потому что мать для Иннокентия – идеал всего красивого, что живо, что дышит и существует на земле, в тундре, в реках, во льдах. – Морзверя бью и оленя бью, – повторил он и снова подвинулся к матери.
Уже никого не осталось в живых, все ушли вслед за Пролетной Уткой – Анной Петровой, его матерью, ушел отец Семен Петров – Быстрая Рыба, ушел суровый сильный дядя Иван Петров – Копыто Оленя, был когда-то, но нет уже больше Летящего Боевого Топорика, все изменилось, реки утекли, тундра отцвела, вода из озер выпарилась. Неправда, что все остается – ничего не остается, все умирает, жизнь коротка, и печали, дум, одиночества в ней больше, чем всего остального. Иннокентий согнулся потрясенно, словно бы сделал открытие, уперся руками в мох, не чувствуя холода земли – а ведь то, о чем он сейчас думал, действительно потрясло его, пробило насквозь, будто пуля-турбинка – дыра осталась; Иннокентий понял, почему мать явилась – сегодня годовщина ее смерти. И он за все годы, когда матери не было, ни разу не помянул ее, хотя надо было бы как-нибудь усадить свое семейство на мох – Ольгу и Ваньку, – кинуть перед ними скатерку, распечатать консервы, рыбные и мясные, заколоть оленя, чтобы был суп и горячее мясо, по алюминиевым кружкам разлить спирт, себе побольше, Ольге поменьше, Ивану спирт развести морсом – от того, что он выпьет пяток-десяток глотков, худо не будет, пузо ему не разорвет, – и помянуть мать.
И вообще пусть этот день навсегда станет днем поминовения родителей. Пока Иннокентий жив. А умрет – и день изменится, у Ивана этот день, может быть, будет другим – вполне возможно, что день Иннокентиевой смерти – душа его будет метаться, требовать внимания, не успокоится, пока живые, в частности Ванька, не отдадут ей дань, а когда отдадут – беззвучно засочится слезами и уйдет к верхним людям, к родителям, к Быстрой Рыбе и Пролетной Утке.
– Прости меня, Пролетная Утка, – прошептал Иннокентий, качнулся вперед, собираясь вновь передвинуться по песку, но сдержал себя – сейчас он коснется ног матери, ее обуви – нарядных рыбьих чувячков, а касаться нельзя, мать живет среди верхних людей, он – среди нижних, пересечений быть не может, каждый живет в своем мире. – Должен был поминать тебя – не поминал! – Иннокентий горестно покрутил головой. – Виноват я!
Не было раньше в их стойбище такого обычая – спиртом поминать родителей, научились у русских, впрочем, обычай этот хулить не стоит, он не самый худший, коряки приняли его, и чукчи приняли – Иннокентий знает, встречался с людьми, беседовал, посчитали хорошим обычаем, и он действительно хорош, раз можно бывает лишний раз отвести душу, забыться, а потом, свалившись в мох, вволю накормить комаров.
– Ты прости меня, мама, – сказал Иннокентий и еще ниже опустил голову, выдавливая слезы из глаз, сжал веки и отчетливо увидел тот самый день – безмятежно-яркий, с глубоким кобальтовым небом, в котором не было ни облачка, ни наволочи, ни перышка белого, лишь в оглушащей глуби, уже за пределами, наверное, вспыхивали мелкие серебряные блестки, светились недолго – всего несколько мигов – и тут же гасли, вызывая у тех, кто их видел, какое-то странное хмельное веселье, которое, впрочем, быстро проходило, уступая место глухой, будто осенью, тоске, когда белый свет бывает немил.
С утра в стойбище было оживленно – закололи несколько оленей, кровь и требуху собрали в тазы, отдельно в нарядном латунном блюде собрали языки и губы – самое сладкое, что есть в олене. Ослепший, криворукий, сухоногий и оттого совершенно переставший двигаться шаман сонно колотил в бубен, вздрагивал от резких ударов, улыбался отрешенно, искал слепыми гнойными глазами что-то за горизонтом, в маленьком ярком солнце, в бездони неба, не находил, сожалеюще качал головой и снова бил в бубен. Детишкам было интересно узнать, что он видел в своем страшном черном сне, в незрячести, в глухом провале – наверное, что-то видел, или же ощущал кожей, волосами, ногтями своими – у шамана были свои особые точки соприкосновения с миром, совсем отличимые от других людей, и вообще ребятишки не знали, человек он или нет – этот слепой страшный старик, слившийся со своим бубном.
Детей одели во все лучшее, что было в чумах, украсили бантами, старыми поделками из бисера, доставшимися от дедов с бабками – дореволюционный бисер не дряхлел, не выгорал, не кололся, долго сохранял цвет, его берегли, передавали из рук в руки, от старого к малому, при советской власти бисер уже совсем перестали выпускать, а если и выпускали, то он до стойбища не доходил, оседал по дороге, поэтому бисерные украшения, амулеты, кольца и нагрудники одевали только по большим праздникам. Копыто Оленя – огромный, не в пример малым своим сородичам мужик, руками своими запросто рвавший железо, из тундры прикатил пятидесятилитровый бочонок спирта, смытый штормом с проходящего лесовоза, забрасывавшего в Уэлен медикаменты. Копыто Оленя нашел бочонок на берегу и сунул под мох в ледовую твердую выбоину, умело замаскировал, чтобы никто не нашел – по этой части он был большим мастаком, пальцами открутил проржавевшую, спекшуюся с бочонком пробку, ткнул ногой в железный бок; подходите, пейте, сколько влезет, соплеменники!
Лицо у дяди было тяжелым, неулыбчивым, будто он пошел на охоту, неделю пролазил по тундре и вернулся пустым, угольные жесткие глазки затуманены, они потеряли цвет, заголубели, будто у слепого шамана, губы расстроенно подрагивали. Ребятам он выдал конфеты, обошел всех и каждого щедро одарил – были тут и шоколадные батончики в ярких обертках, и карамель с кислой душистой начинкой, и литые, твердые, будто орехи, сладкие бобы – у каждого мальца руки оказались занятыми и каждому уже не стало никакого дела до праздника – что может еще в мире сравниться с конфетами?
Летящий Боевой Топорик хотел умчаться со своей частью сладкого в тундру, расправиться там в одиночку с угощеньем, но мать удержала его:
– Ты не спеши, сын! Не спеши, пожалуйста!
К губам ее была прочно припечатана улыбка – какая-то не своя, неестественная, будто бы раненная, ну словно матери было больно, а она силком заставляла себя улыбаться, одолевать боль, но все равно боль брала свое, проступала на поверхность, но если уж улыбка могла обмануть, то взгляд матери никак не мог – глаза были изнуренными, белесыми от страдания, незнакомыми – это были совершенно чужие глаза, и у Топорика, когда он заглянул в них, тоскливо сжалось в крохотный кулачишко сердца, а потом вдруг с силой, очень гулко забарабанило в пустом пространстве, словно у него ничего, кроме сердца, не было.
Большой, подперший самую грудь живот матери мешал ей двигаться, обнимать сына, глядеть на костры, на ровную, без единой морщины гладь озера, на нарядных людей, слушать шаманский бубен, комариную звень и тишь теплого стоячего воздуха. У матери, Боевой Топорик знал, должен был родиться ребенок, братик, и как он уже уразумел из разговоров, люди собрались здесь затем, чтобы отметить это дело. Топорик был доволен – скоро появится братик, вдвоем им будет не скучно – заботы у них будут общие, жизнь общая, все общее, он научит мальца бегать по тундре, сквозь ледяные сколы смотреть на солнце и есть вкусные оленьи губы… Интересно, как его назовут? Наверное, имя уже придумано – родится он под бубен, взрослые подождут немного, посмотрят, что за человечек дышит воздухом, и потом уже определятся в имени окончательно.
– Мам, у меня братик будет? – поинтересовался Летящий Боевой Топорик.
Мать не ответила, только тихо качнула головой, и глаза ее вдруг наполнились слезами. Слез пролилось сразу много, глаз не стало видно, ресницы слиплись, сделались тяжелыми, мать еще раз по-оленьи мотнула головой, попросила едва слышно:
– Ты посиди пока со мной, а? Не бросай меня, ладно?
– Ладно, – как можно небрежнее ответил Летящий Боевой Топорик – ему казалось, что так отвечают, так могут и должны отвечать только взрослые люди, а Топорик старался уже быть взрослым.
Несколько минут он посидел около матери, но потом ему стало скучно, да тут еще подоспели вареные языки и губы, и Топорик не выдержал, вскочил.
Хотел было унестись без всякого предупреждения, но снова наткнулся на ищущий, загнанный взгляд матери и пробормотал скороговоркой, глотая слова, как все торопящиеся люди:
– Мам, я сейчас! Губы дают – не достанется, мам… А?
Мать гулко сглотнула слезы, потрясла головой меленько-меленько, скорбно, улыбнулась через силу – она пыталась что-то скрыть от сына, от собравшихся, но не могла.
У латунного, начищенного, как солнце, блюда с горячими оленьими языками и губами уже сидели две старухи и жадными руками ковырялись в лакомстве. Люди меньшего возраста для них не существовали – старухи толкали друг друга локтями, ссорились, тут же мирились, громко чавкали и вели разговор, который не услышать мог, наверное, только мертвый.
– Ей все равно не разродиться, ни за что не разродиться – песня спета, – сказала одна старуха.
– Таз узкий, ребенок косо пошел и застрял, – подтвердила другая.
– У белолицых есть доктора, они, говорят, делают что-то, и тогда дети бывают живы, а матери умирают.
– Русские далеко, ехать к ним долго.
– На оленях по мху – не меньше недели.
– За это время она все равно помрет.
Летящий Боевой Топорик не сразу понял, что речь идет о матери, хотя что-то в разговоре старух насторожило его, он поглядел на них недоуменно, а потом махнул рукой – мало ли о чем могут говорить две старые дуры!
– Ну и что же с ней будет, как ты думаешь? – спросила одна старуха.
– То же, что и со всеми.
– Ну что ж, чему бывать – тому бывать! – Старуха брюзгливо выпятила нижнюю губу, с которой на колени ей упало несколько капель сала.
– Да, делать нечего, – равнодушно произнесла ее товарка, – все мы будем у верхних людей.
– Там наша жизнь.
– Там – не здесь. – Старуха оглянулась, увидела Топорика, узкие зоркие глаза ее сжались в опасные щелки. – Тебе чего? Ты чего нас подслушиваешь?
Летящий Боевой Топорик молчал.
– Ты чей? – спросила старуха.
– Я – сын Пролетной Утки, – сказал Топорик. Старуха задумчиво пожевала ртом, поинтересовалась:
– Ты, конечно, за оленьими губами пришел?
– Да.
Запустив руку в таз, старуха неохотно пошуровала в нем, вытащила оттуда разрезанный пополам кусок губы, похожий на большой крепкий гриб, сунула обратно, достала кусок поменьше:
– Держи!
– Спасибо!
– Ты слышал, о чем мы говорили?
– Нет! – соврал Топорик.
– И ничего не понял?
– Нет! – Раз ничего не слышал, то, значит, ничего и не понял. Разве не так? Или старухи мыслят по-иному?
Шаман, устав бить, протянул голые скрюченные руки в пустоту, провел ими по пространству, одна из старух, та, что подобрее, кряхтя поднялась, выловила из таза большой олений язык, небрежно сунула шаману в руки: то, что шаман общался исключительно с верхними людьми, никак ее не трогало, это отразилось на плоском, изъеденном временем лице старухи, она произнесла несколько непонятных слов, и шаман неожиданно сгорбился, потерял загадочность, сделался обычным увечным старичком, для которого жизнь давным-давно стала уже в тягость.
Старуха отняла у него барабан, привычно сдернув засаленный шнур с шеи, – Летящий Боевой Топорик заинтересованно следил за ней – он знал, что в стойбище, кроме шамана, еще есть колдуньи, но никогда не видел их, они почти не выходили из своего чума, а поскольку стойбище редко перекочевывало с места на место, то никогда не видел их и на нартах, – гулко ударила по рыбьему боку барабана ладонью, потом провела по засаленной коже всей пятерней, извлекая длинный скребущий звук, какой обычно издает снег на сильном морозе – соприкасаясь с ним в холод, визжит все, даже плевок, старик-шаман от скребущего визга этого согнулся еще больше, превратился в печеный, прихваченный стужей гриб, и лицо у него сделалось печеным, черным, как у большого порченого гриба, он дернул головой, открыл большой, испачканный слюной рот, показал розовые, с утопленными в мякоти корешками зубов десны.
Пролетная Утка побледнела, закусила губы, закрыла глаза, качнулась на одном месте, крепко прижимая руки к животу, промычала что-то немо, словно оленуха, все понимающая, но ничего не способная сказать, – все было написано на ее лице, и боль, и скорбь, и страх, она боялась того, что должно было произойти, но подчинялась людям, роду, тундре, к ней подошел дядя – Копыта Оленя. Вздохнул, застегнул одежду на все пуговицы, завязал все завязки, поморгал недобро, что-то спросил.
Мать через силу покивала головой, с трудом поднялась на четвереньки, потом на свои двои, согнувшись, постояла немного, собираясь с силами, уперев руки в колени, затем постанывая выпрямилась.
Лицо ее было белым как снег, из нижней, насквозь прокушенной губы на подбородок выкатилось несколько алых капелек. Копыто Оленя стоял рядом молча, ждал. Наконец мать выпрямилась, подняла белое влажное лицо, всмотрелась в небо, нашла там что-то, ведомое только ей одной, да, может быть, еще безглазому шаману, улыбнулась скорбно, с трудом, перевела взгляд на сына, неслышно зашевелила губами. Топорик понял, что она произносит его имя, сердце у него сжалось, обращаясь в кулачишко, в гладкий обкатанный камешек, выброшенный на берег волной, дрогнуло, и сам он дрогнул – ощутил, как заплясали губы от жалости к матери, но Топорик сдержался, он обязательно должен был держаться на людях и не подавать вида, что ему плохо, отвел взгляд.
То, что отвел тогда глаза от матери, он потом не мог простить себе всю жизнь. Для матери в те минуты из всех живых существовал только один человек – сын, больше никто, она даже на мужа не взглянула ни разу, ибо Быстрая Рыба был виноват во всех ее мучениях.
Повернувшись спиною к костру, к людям, к сыну, мать пошатываясь медленно побрела мимо озера в тундру, два или три раза ступила на влажный край бережка, оставив там легкий узкий след, потом пошла по ягелю, который покорно вдавливался, проседал под ногой, а затем, будто резиновый, выпрямлялся.
Дядя, взяв в руки винтовку, пошел следом за матерью – чуть в стороне и поотстав на несколько метров, опустив голову и шагая так же, как и мать, меленько, скорбно, не по-мужски, и оттого, что Копыто Оленя подделывался под шаг матери, Топорику сделалось еще страшнее, он втиснул голову в плечи, потом всем телом влез в колени, обхватил лодыжки пальцами, притянул их к себе, разом превращаясь в пеликэна – скорченного чукотского божка, приносящего счастье охотникам и китобоям, внутри у него родилось рыдание, но Летящий Боевой Топорик нашел в себе силы задавить его, лишь прошептал едва приметно, сам того не слыша, вкладывая в этот шепот всю нежность, что у него была:
– Ма-ма! – Ткнулся лбом в колени, попытался сжаться еще, но было уже некуда, посидел несколько минут неподвижно, потом чуть приподнял голову и открыл глаза.
Дядя с матерью отошли уже метров на двести; мать отрывалась от дяди, шла все проворнее и легче, словно бы хотела убежать, – видать, боль отпускала ее, дядин же шаг, напротив, слабел на глазах, тяжелел, становился грузным, словно бы Копыто Оленя оседал на ходу, он отставал от матери.
Словно бы что-то почувствовав, мать оглянулась, подняла призывно руку, и Топорик понял, что мать ищет его, взнялся над самим собой, словно подброшенный ружейной пружиной, но мать не смогла разглядеть его, на лице ее засветились зубы, она окинула взглядом родное стойбище и отвернулась.
В ту же минуту дядя, словно бы что-то преодолев в себе, пошел быстрее, легче – усталость, навалившаяся на него, отступила, на ходу дядя вскинул винтовку и не целясь выстрелил по матери. Шаг его не сбился ни на сантиметр.
Звук выстрела не сразу донесся до людей – всем показалось, что вначале громыхнуло эхо, а уж потом докатился сам выстрел.
Мать еще несколько секунд двигалась по инерции, хотя всем телом своим уже заваливалась назад, с головы ее соскочила шапочка, распласталась ярким цветком во мху, потом с шеи сорвалась нитка с яркими бусами, беззвучно рассыпалась, затем упало еще что-то и уж следом на землю повалилась сама.
Внутри у Летящего Боевого Топорика снова родился крик, он закусил его губами – не верил в то, что видел, хотел было подняться, понестись в тундру, к матери, к которой, опустив ствол винтовки, подходил Копыто Оленя, но ноги не подчинились ему, обмякли, сделались бумажными, чужими. Топорик всхлипнул и ткнулся головой в собственные колени.
Он очнулся от того, что над ним нависла страшная старуха-колдунья и, покачиваясь пьяно, ковыряла пальцем во рту. От нее несло спиртом.
– У Пролетной Утки не было ни одного шанса на жизнь, – глухо икнув, сказала старуха, – она не могла жить. Понятно?
Летящий Боевой Топорик не выдержал, заскулил, затрясся всем телом, не веря в то, что видел, тундра, покрытая слезами, сделалась радужной, очень яркой. Старуха, вновь икнув, достала откуда-то из рукава конфету.
– На! – сказала она, пожевала страшными беззубым ртом. – Побалуйся и не горюй. Сегодня очень хороший день. Солнце, тепло, комаров почти нет, – засмеялась хрипло, качнулась и, помахивая в воздухе руками, будто сова, пошла к бочонку со спиртом.
День тот Иннокентий навсегда зарисовал в памяти, как и год тот – 1967-й, поскольку год был праздничным, – отмечали пятидесятилетие советской власти и в стойбище побывали дорогие гости из района, привезли подарки – рулон цветного ситца, приемник «Спидола», три ящика водки и ящик рассыпчатой, тающей во рту фруктовой помадки.
Через несколько месяцев после праздника племя покинуло насиженное место, переселилось поближе к океану, где и воздух был посырее, побогаче кислородом, и мох побогаче, у Летящего Боевого Топорика появилась новая мать – широкобедрая, медленная в движениях, как моржиха, женщина по кличке Пасть Кита – тундровым корякам, к которым относилось племя Иннокентия, надо было родниться с береговыми, иначе могла произойти стычка, и род решил, что Быстрая Рыба должен взять в жены береговую жительницу. Быстрая Рыба – он же Семен Петров – перечить не посмел.
Пришлось приспосабливаться к иной жизни, ведь у береговых коряков, у чукчей, алеутов и эвенов, живущих подле воды, другие нравы, другие обычаи. И то, что считается у тундрового человека нормой, может оскорбить берегового обитателя. Ну, например, тундровые коряки, когда едят рыбу, то кости, хвосты и головы швыряют в костер – огонь все покроет, но зато никогда не швыряют в пламя оленьи кости – это большой грех, за который от верхних людей немедленно последует наказание.
А у береговых жителей – наоборот: береговой человек никогда не швырнет в огонь рыбью кость, посчитает это плохой приметой, зато запросто швыряет кости оленьи, недогрызенные собаками.
Выветрилась, стерлась из памяти мать, хотя тот страшный день – редкостно безмятежный, ясный, отпечатался в мозгу так, как иная мелодия отпечатывается на пластинке, а вот мать со временем сделалась в воспоминаниях вроде бы посторонней, чужой, обескровленной этим странным свойством памяти, – ни своей крови в ней не было, ни крови сына, все заслонила жизнь, последующие годы, события, охота, жена, которую Иннокентий не любил – они были разными: он тундровым, она береговой, а слияние с береговыми, надо заметить, происходило все больше, – заслонил ребенок, в котором он уже узнавал себя, разные Спендиаровы, считавшие себя знатоками севера и здешнего люда – тьфу! – дни его потихоньку скатывались в старость, к последней черте, которая была совсем не за горами, если учитывать, что средний возраст в их племени невесть какой великий – тридцать семь годов, и он иногда по ночам сквозь сон ощущал колючий вязкий холод – это на Иннокентия дышала вечная мерзлота. Из мерзлоты он вышел, в мерзлоту и уйдет. А душа переселится на облака.
Но забывать мать, пока он жив, не годится, это такой же грех, как брошенная в огонь оленья кость. Он качнулся, заваливаясь всем телом вперед, всхлипнул, будто тот маленький, оставшийся в прошлом Топорик, вспомнил, что тогда он все-таки не плакал, сдержался, лишь скулил, и, ощущая неясную тревогу, тяжесть, натекшую в его душу, ткнулся головой в песок, услышал задавленный собственный плач и не стал больше давить его, дал волю.
Когда выплакался, оторвался от песка, потянулся вперед, рассчитывая увидеть мать, но матери уже не было – следа не осталось ни в воздухе, ни на ягеле, ни на языках речного песка, заползающих в мох, и тишь стояла такая, что в нее запросто могла провалиться душа. Иннокентий закусил губы, сдерживаясь, но тоска, подступившая к нему, уже отозвалась болью в груди. Такой болью, что хоть криком кричи.
Кем же он таким стал, что забыл свое прошлое, мать, род, что же такое с ним сделалось? И имеет ли он право на будущее, раз позабыл о прошлом? Хотел Иннокентий получить ответ, но ответа ему не было.
Вопросы почемучки
Антошка рос очень любознательным мальчишкой. Несмотря на то что в школу он еще не ходил и пойдет не раньше чем через год, он уже и азбуку знал, и считать умел, и простейшее умножение изучил, и, водя пальцем по страницам красочной книжки, свободно одолевал разные мудреные тексты типа «Мы с папой идем в магазин».
Гордеев не выдержал, вздохнул, услышал, как внутри по-над сердцем у него что-то жалобно заскрипело, к горлу подкатило что-то теплое и ему сделалось трудно дышать. Одновременно сделалось обидно – ну разве он урод какой-нибудь, или руки у него кривые, растут не из того места, либо голова дадена лишь для того, чтобы чесать макушку, либо «ею есть», как выразился один великий спортсмен? Почему он живет хуже всех? Это гнетущее чувство, замешанное на обеспокоенности и обиде, стало возникать в нем все чаще и чаще.
Иван Гордеев понимал, что дело не в нем, виноват в собственных бедах, в нищенстве не он, – так, увы, сложились обстоятельства – у них весь город нищий.
Живут люди кто чем: одни собирают в лесу грибы, потом сушат их, маринуют, солят, забивают банками подвалы, используя всякое свободное место, от мышиных ходов до отдушин, другие усердно корпят на своих огородишках, добывая в поте лица плоды земные – от разваристой сиреневой картошки до ирги – сахарной ягоды и крохотных, пупырчатых огурцов, таких сладких, что с ними чай можно пить, как с конфетами, – пикулей, третьи прочесывают вдоль и поперек мелкую местную речку с гордым названием Партизанка, ее чистые и очень холодные, даже в летнюю пору пахнущие льдом притоки Постышевку, Тигровую, Мельники, четвертые, закинув за плечи старое ружье, помнящее «штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни», трясут тайгу – гоняют лесных котов, косуль, кабанов, щелкают белок – пытаются заработать этим, но таких людей меньше всего…
В городе их, в Сучане, живет не менее сорока тысяч человек, – Гордеев по старинке называл Партизанск Сучано, как в прежние времена, – и всех их тайга не прокормит – ни грибная тайга, ни кедровая, ни та, что по праздникам дармовым мясцом угощает… Так что же делать тем, кто не нашел для себя кормежку и готов теперь зубы свои за ненадобностью положить на полку? Да и невозможно ныне прокормить семью, одним, скажем, огородом или грибами… Чушь все это. Выдумка различных полупьяных агитаторов, размахивающих с трибуны полосатыми флагами.
Гордеев шел по лесной тропке, держа за руку сына, и машинально отвечал на его бесконечные «почему?».
– Папа, почему солнышко светит?
– Почему поют птицы?
– Почему уголь черный?
– Почему у слона хобот длиннее хвоста?
– Почему у всех мамы есть, а у меня нет?
Эти его многочисленные «почему?» рождались мгновенно, словно бы сами по себе возникали из воздуха, материзовывались у Почемучки на языке и вновь оказывались в воздухе. Антошка Гордеев был неутомим. Отец отвечал на вопросы как умел – старался делать это в том же ключе, что и сын – на серьезный вопрос отвечал серьезно, на шутливый шутливо, на веселый весело, на печальный… На печальные вопросы Гордеев старался не отвечать. И оба они вели в этой бесконечной череде вопросов и ответов свою игру, отец и сын. В конце концов Почемучка вздыхал и говорил:
– Папа, а ты хитрый?
– Ага, как коза, которая у соседки на грядках съела всю морковку.
– А коза разве хитрая?
– Очень, раз догадалась выдернуть морковку из земли.
– А ботву куда она дела?
– Заела ею саму морковку.
– А как она пристрявшие комки земли отделила от морковки? – На этот раз Почемучка все свои вопросы начинал с протяжно-певучего «А-а», будто солист из пионерского хора.
– Очень просто. Морковкой хлопнула о морковку и сбила всю землю, крошки.
– А-а… Но для этого нужны руки.
– Не обязательно. Копыта тоже подходят.
– He понял… Как это?
– Ты обратил внимание, что у козы на передних копытах есть раздвоины?
– Обратил.
– Коза садится на скамеечку, как человек, расщелиной одного копыта прихватывает одну морковку, расщелиной второго вторую и шлепает морковками друг о дружку. Три шлепка – и на плодах ни одного комка земли.
Почемучка недоверчиво глянул на отца снизу вверх, глаза у него были синие, как два лесных озерца, в которых плавает чистое небо, брови золотились в лучах света, к правой щеке пристрял комар – худосочный какой-то, голодный, – учуял людей и прилетел пообедать. Гордеев аккуратным щелчком сбил его со щеки сына.
– Это немецкий «мессершмитт», – сообщил сын.
Через двадцать минут они нашли гриб, за которым охотятся все жители Приморья – для любого грибника он является желанной добычей: крупный, не менее килограмма весом, обтянутый тонкой замшевой шкуркой, нежной как шелк – так называемый бархатный гриб. Бархатный гриб – разновидность белого, а точнее – притершийся к дальневосточным условиям самый настоящий белый гриб.
Почемучка вздернул над собой обе руки, восторженно взвизгнул и по косогору, ловко обогнув высокий муравейник, сложенный из хвои, понесся к грибу. Тут Гордеев совсем некстати вспомнил, что кто-то из его коллег, когда он еще работал в шахте, которая ныне завалена, разрушена и вряд ли из нее в ближайшие пятьдесят лет можно будет достать хотя бы килограмм утла, предупреждал его, что бархатный гриб приносит несчастье тому, кто отыскал это диво среди других грибов, хотел было крикнуть Почемучке, остановить его, но Антошка уже добежал до гриба и опустился перед ним на колен.
– Краси-ивый какой, – произнес он восхищенно.
– И очень вкусный, – добавил отец.
– И хрустный. – Почемучка вспомнил рекламную фразу, услышанную по телевизору.
– Хрустный, – согласился с ним отец, увидел небольшую серую птаху, невесомо покачивавшуюся на тонком ломком прутике, почувствовал, как ему что-то кольнуло в сердце – очень уж птаха была похожа на соловья, Гордеев потянулся к серой интересной пичуге, та фыркнула крыльями и была такова, а Гордеев немного расстроился – не удалось разглядеть птичку, повторил слово, произнесенное сыном и увязшее у него в мозгу: – Хрустный.
Следующим попался на глаза гриб-скрипун, Почемучка также стремительно, будто кузнечик, в прыжке кинулся к нему, сорвал. Скрипун – гриб особый, когда его хозяйки замачивают, он скрипит, будто старый дед, шевелится в воде, вздыхает, сопит… Очень общительный, говорливый гриб, на западе, в «Расее», такие грибы не растут. Было также много грибов-белянок, нарядных, аппетитных, очень чистых, словно бы специально вымытых. Таких грибов в «Расее» тоже нет. А вот аккуратных, веселых рыжих лисичек – полным полно, они там такие же, как и тут, на краю краев земли, также бегают по полянам, рябят в глазах, привносят в настроение человека что-то радостное и светлое, заставляют грустную публику улыбнуться. Гордеев не сдержался, улыбнулся, ощутил, как губы ему стянуло сухой липкой сеточкой – обветрили губы, к вечеру начнут облезать…
Невдалеке он заметил замысловатое морское растение, вытряхнувшее из земли свою утробу, похожее на коралл – это тоже был гриб, очень недурной по вкусу, редкостный, рядом с первым кораллом проклюнулся второй, невдалеке белел еще один…
Это были «оленьи рожки» – грибы, которые, кроме, как здесь, нигде, пожалуй, больше и не водятся; во всяком случае, Гордеев о них не слышал. Тяжесть, сидевшая у него в душе, потихоньку рассосалась.
Хоть и считался Гордеев человеком невезучим, а не везло ему больше, чем положено, чем было вообще определено судьбой. Собственно, не везло, как мы уже знаем, не только ему, но и всему городу.
Весь их Сучан не имел работы – весь! Какие-то люди в Москве с криками «ура» решили судьбу далекого городка, от которого до Тихого океана ничего не стоит доплюнуть: шварк – и плевок уже качается в синих плотных волнах, привлекает к себе внимание осьминогов. Из Москвы, из Владивостока приехали в Сучан бравые мордастые ребята, собрали народ на митинг. Народ на митинг не пошел – надоело уже митинговать, проку от этих митингов не больше, чем от бурчания в желудке – только бурчит желудок, но не варит, на одних лекарствах можно разориться. В результате знаменитые сучанские шахты были закрыты и разрушены. Основательно разрушены, со знанием дела, умело – восстановлению, в отличие от других шахт, в том же Артеме например, – они не подлежат. А уголек здесь добывали знатный, запасов его – лет на пятьсот, не меньше.
Тем временем Почемучка взялся за свое:
– Пана, почему одни грибы имеют белый цвет, другие – желтый, третьи вообще коричневые, четвертые – черные как уголь, а?
– Почему ежики колючие?
– Почему у нас нет денег?
– Почему комар жужжит, а бабочка нет?
От вопросов Почемучки Гордееву даже жарко сделалось: тот умел кого угодно загнать в «Пятый угол».
– Почему мужчины ухаживают за женщинами?
– Почему кошки любят мясо, а ласточки кузнечиков?
Наконец Гордееву удалось остановить поток бесконечных «почему?».
– Почему ты считаешь, что ласточки едят кузнечиков? – спросил он. – По-моему, они питаются мухами, едят их на лету, на скорости.
Лицо Почемучки сделалось задумчивым, он с видом крупного воинского начальника поковырял пальцем в носу.
– Нельзя этого делать, – сказал ему отец, – резьбу сорвешь.
Почемучка приподнял одну крохотную белесую бровь и произнес неожиданно печально, тихо, со взрослыми интонациями в голосе:
– Папа, ты знаешь, я тебя очень люблю.
Гордеев ощутил, как у него тревожно сжалось сердце, внутри словно бы что-то сдвинулось, ему сделалось ознобно, боязно за сына, пространство перед ним пошло розовыми пятнами, и он прижал к себе Почемучку.
– Знаю, – сказал он.
Ему бы жилось много хуже, во сто крат хуже, если бы у него не было Почемучки – жизнь тогда имела бы совсем другие тона, более темные, хотя цвет темных пятен был бы иным, скорее всего – красным, кровянистым.
Почемучка затих у него под мышкой на несколько мгновений, мотом дернулся, запричитал обрадованно:
– Вон еще «оленьи рожки»!
– Где?
– Да вон! Целая поляна!
Грибы были какие-то колдовские, они словно бы вытаяли из ничего, еще несколько минут назад крохотная зеленая полянка была пуста, Гордеев несколько раз бросал на нее ищущий взгляд, и если бы там было за что зацепиться глазу, Гордеев обязательно зацепился бы, но поляна была пуста, – сейчас же на ней возникло целое полотно – переплелась, образовав единый сложный рисунок, целая семья грибов. Над рисунком вились, нервно подпрыгивая, а затем резко опускаясь вниз, колючие местные комары, мелкие, противные, способные довести до обморока кого угодно, даже бегемота. Почемучка кинулся к грибам, подставил под них полиэтиленовый пакет. Будет сегодня у них вечером очень вкусное жарево.
Гордеев вновь почувствовал, как у него тоскливо сжалось сердце. Не отпускало странное гнетущее ощущение, способное опустошить человека вконец – такое ощущение остается обычно после неравной драки, в которой побеждает обидчик… Гордеев втянул в себя сквозь зубы воздух. Почемучка с радостными вскриками продолжал рвать «оленьи рожки».
Красива земля здешняя, красивы сучанские сопки, как красивы и речушки, в которых плавает красная рыба, и задымленное дневным жаром небо, и огромные яркие бабочки, вьющиеся над лесными саранками, – все это будет сниться, если Гордеев уедет куда-нибудь отсюда, и богатства под этим зеленым покровом прячутся немеряные – черное золото, как в «Расее» привыкли называть уголь. Самых разных марок – антрацит и «ПА» – полуантрацит, «Ж» и «СС» – жирный металлургический и слабоспекающийся, энергетические угли – самые разные, словом.
Теперь уже не добыть ничего – от шахт, которыми когда-то гордились люди, остался только один пшик, далекое воспоминание – ныне закрыты все шахты – и «Тигровая», и Центральная, и «Северная» и «Авангард», не говоря уже об обычных участках. Там где раньше добывали уголь, ныне пахнет кладбищем, мертвечина так и лезет изо всех углов… А шахты тут глубокие – по шестьсот, семьсот метров. Если их оставить без присмотра хотя бы на полгода – шахты погибнут. В общем, считай, что они погибли – без присмотра они стоят уже несколько лет. Весь город ныне в простое, весь Сучан без денег – а это более пятидесяти тысяч человек. Пятьдесят тысяч ртов.
Одно предприятие ныне только и работает в Сучане – швейная фабрика. И то потому, что фабрику купили ушлые леди из Южной Кореи, приволокли сюда по морю кое-какую технику, наладили производство футболок и рубах, гонят свою продукцию прямиком в Штаты, здесь же, в Приморье, ни одной рубахи не оставляют – все туда, дяде Сэму, его знакомым и родственникам. Гордеев против этого, конечно, не возражает, но все-таки ему было немного обидно. И смутная обида эта с месяцами накапливалась, грозя превратиться в ком, который в конце концов может закупорить глотку и удушить.
Работают на этом предприятии, с названием, напоминающим, кстати, скрип жучка-древоточца, «Коррос», одни бабы, получают по четыре с половиной тысячи «деревянных», света белого совершенно не видят… А что такое четыре с половиной тысячи рэ в условиях Сучана? Дырка от бублика, тьфу от пустой пластиковой бутылки, пшик – зимой, например, только за одну квартиру, за тепло и воду надо выложить те же четыре с половиной тысячи… А на что жить? И вообще, где их взять, деньги эти?
Многие заложили свои квартиры – надо было выдюжить хотя бы первую, самую трудную пору, а там, решили, видно будет, как жить дальше. Гордеев тоже заложил свою квартиру.
Иного пути у него не было, только этот – никаких других вариантов.
Когда бабы, работающие на «Корросе», собрались на свою маевку и потребовали увеличения зарплаты, – они отлично понимали, что труд их стоит больше, чем они получают, – к крикуньям вышел управляющий – низенький квадратный кореец в крохотных золотых очках, с носиком-пуговкой, популярным в русских селениях, и гаркнул что было силы:
– Тях-ха!
За время пребывания в России этот способный человек изучил не только наш язык, но и обычаи, знал, чем можно испугать русскую бабу – не ружьем, не ножом, а только криком… Бабы разом притихли, уставились выжидающе на управляющего, хотя были готовы проглотить его… А что – вполне мясистый господин, вполне можно отправить его в желудок… В сыром виде. Как устрицу. Хренком только надо сдобрить.
– Чего вы хотите? – спросил управляющий у женщин, как будто не знал, чего они хотят.
– Повышения зарплаты, – громко ответили ему женщины, – и нормальных условий на производстве. Не то даже отойти в туалет нельзя, так и сидим с переполненными мочевыми пузырями.
Грубо это было, конечно, но трудящиеся женщины понимали, что по-иному к этому страшному коротышке обращаться нельзя.
Управляющий, зная здешних женщин, знал и другое – любая его правота, даже самая неправая, самая лживая, безобразная, оскорбительная, за которую под глаз подвешивают фонарь, возьмет верх над правотой этих зарвавшихся баб. Их правота – тьфу! Он сделал пренебрежительный жест.
– Я бы на вашем месте даже дышать перестал, не то чтобы обращаться с какими-то глупыми просьбами. – Густой плевок шлепнулся под ноги работницам. – Не нравится вам фабрика в городе Партизанске – я переведу ее на Филиппины. Там живут люди более сговорчивые и никаких дурацких требований насчет туалетов выставлять не будут.
Так сучанские женщины и остались ни с чем, продолжить «дипломатические» переговори они не рискнули.
Вечером, когда Гордеев жарил дневной улов – набрался увесистый пакет «оленьих рожков», Почемучка прыгал рядом и задавал очередные «почему?», на которые отец отвечал обстоятельно, как и положено отцу, иначе сын будет недоволен, а этого Гордееву очень не хотелось бы, – раздался звонок в дверь.
– Кто это мог быть? – недоуменно спросил отец у Почемучки.
Тот по-взрослому приподнял одно плечо:
– Не знаю.
У Гордеева нехорошо закололо сердце, он сделал пламя на газовой горелке поменьше, обратив синеватый плотный бутон в прозрачную плоскую розочку, поддел пальцем Почемучке под нос – следи, мол, чтобы добыча не подгорела, и пошел к двери. Открыл.
На лестничной площадке стояли трое. Одного из этой тройки Гордеев знал – это был человек грузинской внешности со скошенным набок крупным носом – в молодости он явно занимался боксом, там ему нос и свернули, грузин глянул на Гордеева в упор, в темных глазах его заполыхали злые огоньки, и грузин, нервно дернув ртом, опустил голову, двух других, круглоголовых, с гладко выбритыми «а-ля бильярдный шар» черепами, Гордеев видел впервые.
По-хозяйски отодвинув Гордеева в сторону, грузин прошел в квартиру.
Бритоголовые проследовали за ним. На Гордеева они даже не взглянули, он для них словно бы вообще не существовал. Гордеев ощутил в горле твердый комок, внезапно возникший, словно бы в глотку ему попал камень, застрял – ни туда ни сюда. Гордеев попробовал его проглотить, но это не получилось…
– Вы кто? – услышал он голос Почемучки, дернулся, устремляясь на кухню. – Почему вы здесь? Что вы тут делаете?
Внутри у Гордеева сжалось сердце – как бы эти люди не обидели Почемучку?
Фамилия грузина была Порхадзе, она всплыла в мозгу словно бы сама по себе, из ничего, только что не было ее и вдруг вывернулась из глуби, словно гнилая рыба, которую даже вороны не рискуют есть. Порхадзе заглянул в одну комнату, потом в другую, колупнул ногтем обои – будто бы орел острым когтем поддел, под обоями что-то звонко зашуршало, посыпалось вниз золотым песком.
Порхадзе послушал этот сухой неприятный шорох, дернул одной половиной лица, нос у него еще больше съехал набок, – и некоторое время стоял молча, глядя куда-то в угол. Гордеев тем временем справился с камнем, закупорившим ему горло, поинтересовался скрипуче, незнакомым, севшим голосом:
– Вам, собственно, чего?
Нелепо и довольно робко прозвучал этот вопрос, он словно бы оборванный кусок дыма повис в воздухе. Гордеев в очередной раз отметил недовольно, что в нем произошли некие необратимые изменения, и всему виной его нынешнее положение безработного человека.
Когда у него была работа, была зарплата, в доме все было в порядке, жена хлопотала на кухне, он был одним, не стало всего этого – он сделался другим. Незнакомым, испуганным, нервным, словно бы внутри у него что-то вымыло, он измельчился. Осознание этого было противно.
– Вам, собственно… чего? – повторил он свой вопрос, отметил, что голос у него противно дрогнул.
Грузин ничего не ответил, громко засопел, прикусил крупными верхними зубами нижнюю губу, отчего вид его сделался щучьим, недовольным, заглянул в крохотный темный чуланчик, где Гордеев хранил тряпки, щетку на длинной палке для протирки пола, шумно потянул носом. Рот у грузина брезгливо дернулся.
Закончив осмотр квартиры, Порхадзе переключил свой организм на другой ритм, перестал быть по-кошачьи суетливым, обрел осанку, земную тяжесть, выпрямился. Лицо его потемнело, словно бы он получил команду из космоса навести на нашей планете порядок.
– Значит, так, – произнес он хмуро, веско, будто большой начальник, приехавший к папуасам разбираться, кто у кого украл стеклянные бусы, по его виду можно было легко понять, что правых в таких разборках не бывает – бывают только виноватые. – Кредит доверия кончился, – в голосе Порхадзе послышались дребезжащие железные нотки. – Если завтра к двенадцати ноль-ноль не вернете деньги, которые наша фирма выдала вам под залог, обеспечивая ваше, пардон, существование в городе Партизанске, – гость не сдержался, усмехнулся, потом, поймав себя на мысли, что усмехаться в таких случаях неприлично, в России это непринято, прикусил зубами нижнюю губу, вид у него разом сделался постным, будто ему запретили есть вкусные пирожки с налимьей печенью, – то вам придется эту квартиру покинуть.
– А вещи? – дрогнувшим голосом спросил Гордеев, – он почувствовал, как в горле у него образовался твердый теплый комок, – более дурацкого, более неподходящего вопроса он не мог задать.
– Вещи – с собой, – жестко, безапелляционно ответил грузин, – нам ваши вещи не нужны.
Воздух перед Гордеевым покраснел, сделался густым, студенистым, словно застывшая сукровица, он помотал протестующе головой, услышал голос Порхадзе, донесшийся до него издалека, но что тот сказал, Гордеев не разобрал, голос грузина раздавило пространство, разделявшее этого человека, одетого в плотный, не по погоде, шерстяной костюм, обутого в лаковые модерновые туфли-скороходы, украшенные длинными, задирающимися кверху носами, и Гордеева… Гордеев прислонился к стене, глотнул немного воздуха и закрыл глаза.
Когда открыл, то перед ним стоял грузин и кривил плоские темные губы.
– Вам все понятно?
Гордеев вновь глотнул воздуха, пробивая камень, застрявший в горле, прошептал стиснуто, будто на шею ему была накинута удавка:
– Вы не имеете права.
Порхадзе посильнее прихватил зубами нижнюю губу и обрел прежний щучий вид:
– Еще как имею. Вы прочитайте договор, там все написано… Вы читали договор?
– Да.
– Обратили внимание, что возврат ассигнованных сумм должен быть произведен в течение двадцати четырех часов после того, как деньги будут затребованы?
– Не обратил.
– А напрасно… Надо было бы обратить. Пункт этот в договоре есть. Так что… – Порхадзе кольнул его взглядом, будто гвоздем ширнул, привычно прикусил нижнюю губу. – Все понятно?
– Понятно, понятно, – Гордеев сделал несколько суетливых бесполезных движений, – я сейчас, я сейчас… – Он сунулся в стол, выдвинул один ящик, потом второй, грузин понял, чего ж ищет Гордеев, остановил его движением руки:
– Можешь не ковыряться в пыли, которой набит твой стол, я юрист и текст договора знаю наизусть. Могу на память процитировать все пункты, – в голосе Порхадзе прозвучали нотки и издевательские, и насмешливые, и еще какие-то – словом, там было все: все, кроме сочувствия и желания помочь попавшему в беду человеку.
Гордеев, и без того измятый, униженный, почувствовал себя еще хуже, сморщился мучительно, словно пытался преодолеть боль, сидящую у него внутри, с треском загнал в стол ящик и опустил голову.
Кавказец остановился перед одним из охранников – бритоголовым мюридом, во рту у которого дымилась сигарета, косо прилипшая к нижней губе, нервным движением отклеил сигарету от губы мюрида и швырнул на пол. Растер окурок своим роскошным ботинком.
– Не кури, – произнес он угрожающе, – иначе тебе фирма такой счет выставит, что ты уже не сигареты будешь курить, а крученую бумагу. Либо нюхательный табак, понял? Нюхательный табак дешевле курительного, понял?
– А я чё? Я ничё! – пробовал оправдаться бык-мюрид, таращась на раздавленный окурок.
– Фирма будет делать здесь евроремонт, – сказал Порхадзе, – а евроремонт, как известно, табачного запаха не терпит.
– А я чё, – тупо гнул мюрид, – я об этом не слышал, – покосился на своего товарища-охранника. Тот тоже тупо таращился на окурок.
Через полминуты хлопнула входная дверь, незваные гости покинули дом Гордеева.
Очнулся Гордеев от того, что рядом с ним, тихо скуля и покачиваясь на потерявших твердость, усталых ногах, стоял Почемучка, в руках своих держал его руку и прижимал ее к щеке. Щека у Почемучки была теплая, тугая, и… в общем, непонятно, какая она была, это была родная плоть, такая родная, что у отца даже перехватило, перекрутило дыхание. Почемучка плакал и выдавливал из себя едва слышно, почти беззвучно:
– Па-па! Па-па!
Гордеев повернул голову в одну сторону, потом в другую.
– А где эти… – Он поморщился, помял пальцами виски.
Почемучка всхлипнул, всхлип этот заставил отца поморщиться вновь, сын с шумом втянул в себя воздух и спросил опасливым шепотом:
– Папа, а кто это был?
– Плохие люди, – с тихим стоном отозвался на вопрос сына Гордеев.
– Кто они, пап?
– Таким людям лучше не попадаться, – словно бы не слыша Почемучку, проговорил Гордеев, – съедят без соли, убьют без дроби, запьют еду кровью другого человека.
Почемучка застыл, соображая, как же это будет выглядеть, Гордеев прижал к себе его голову, ощутил, как на него накатило что-то тяжелое, горькое, одновременно стыдное, способное опрокинуть его в слезы, в рев, он запришептывал, забормотал что-то невнятно, потом на несколько мгновений затих, прикидывая, где же должна находиться злополучная бумага, в которую он так ни разу не удосужился заглянуть за все время – надеялся, что там все должно быть в порядке… Ан нет, ошибался он… Твердый комок, ставший уже привычным, образовался в глотке вновь, шевельнулся, будто живой, пробуя просунуться еще дальше, перекрыть человеку дыхание. Гордеев не выдержал, громко забухал кашлем.
Кашель вспугнул Почемучку, он зашевелился, задышал часто.
Где же может находиться эта проклятая бумага, договор, который он заключил с вполне доброжелательной конторой, сочувствующей, чужим напастям, имевшим способности образовываться словно бы сами по себе, а на самом деле – по злой воле, концы которой, говорят, находятся аж в самой Москве, – контора эта, как и горе, также возникла из ничего, будто бы из воздуха, из некой колдовской напасти, приползла из ада и прижилась на земле…
На первых порах контора делала добро, помогала людям – кому-то деньжонок подкинула, кому-то еды, кому-то муки с сахаром, кому-то детской одежды, поскольку подоспевал очередной учебный год, а детишкам не в чем было идти в школу – у каждого «клиента» был свой интерес, словом, многие воспользовались шансом, предоставленным «благодетелями», и, выходит, накинули себе на шею веревку.
С кухни потянуло горелым – роскошный урожай «оленьих рожков», добытых днем, превратился в черный спекшийся уголь. Гордеев с трудом помял себе затекшую шею и поднялся на ноги.
В кухне плотными темными слоями плавал дым. Гордеев постоял несколько минут молча, покачиваясь на ногах, будто пьяный, растерянно и одновременно мученически глядя на плавающий дым, потом, не обращая внимания на гарь, начал шарить в столе в поисках бумаги, которую ему оставила «доброжелательная» фирма. Бумаг в столе было всего ничего, два жалких огрызка, но найти договор Гордеев не мог долго.
Когда нашел и пробежался глазами по тексту, то обнаружил, что так оно и есть – в случае неразрешимого конфликта (в тексте специально было подчеркнуто «форс-мажорных обстоятельств») клиент – то бишь, Гордеев, – должен вернуть одолженную сумму в сроки, обусловленные фирмой…
Все фирма, фирма, фирма. Она могла делать все, а клиент – ничего.
Он мог только собственной шкурой расплачиваться за свои ошибки. Гордеев поежился, словно бы за шиворот ему попала ледышка, насквозь прожгла холодом кожу и в дырку эту теперь наружу вытекает все живое, что имеется в нем: Гордеев нервно, будто грузин Порхадзе, подергав ртом… впрочем, рот у него дергался сам по себе, помимо его воли, словно бы у Гордеева отказало что-то в организме, сработались тормоза, он прижал к губам ладонь, успокаиваясь, но попытка оказалась безуспешной – рот задергался еще сильнее.
Неожиданно он увидел перед собой Почемучку – тот стоял перед отцом, по-взрослому закинув руки назад и, собрав лоб в мелкую частую лесенку морщин, глядел на Гордеева. Почемучка не понимал, что происходит.
«Сейчас будет задавать вопросы, – машинально отметил Гордеев, – почему, да почему?.. А что я отвечу ему?» В окно была, видна рыжая, плотно утрамбованная ногами дорожка, уводящая в ореховые заросли, над недалекой сопкой сгребался в копешки сизый легкий туман. Все-таки Сучан – красивый город… Гордеев ощутил, что ему сделалось страшно. Не за себя страшно, за себя он не боялся, – за Почемучку.
Ну почему сын стоит молча, ну будто бы набрал в рот воды и, перестав быть Почемучкой, не задает своих вопросов? Или же он разобрался в ситуации, как и отец, и испугался настолько, что холодный пот выступил у него не только на лбу, но и под мышками, на хребте, обмокрил лопатки и самый низ спины. Все это есть у отца и должно быть – ведь он здорово провинился, вляпался в дерьмо, – а вот у Почемучки быть не должно…
– Ты чего, Почемучка? – прошептал Гордеев едва слышно, – шелестящий шепот его принесся словно бы из далекого далека, из-за сопок, поросших лещиной, из-за речек, из-за лесов – и не его это был шепот. Чужой…
Чужие люди хотят поселиться в его доме. Или уже поселились? Гордеев глянул умоляюще на Почемучку, попросил его мысленно, одними глазами: «Hy скажи же что-нибудь!» Почемучка вопрос его прочитал, но ничего не ответил. Гордеев повесил голову – он оказался плохим отцом.
Визит «грузинского верноподданного» что-то надсек в Гордееве – испоганил организм, вызвал кровотечение, Гордееву показалось, что даже во рту у него появился вкус крови, и вкус этот делается все сильнее и сильнее, и ноздри у него уже забиты кровью – не продохнуть.
– Почемучка, – прошептал он жалобно, умоляющим тоном, шелестящий шепот этот слабым ветерком растекся по квартире, Гордеев и сам не услышал его, шепот по пути зацепился за клок отставших обоев и повис на нем, будто липкая паутина.
Гордеев понимал, что люди эти, и прежде всего грузин с клювастым лицом старой вороны, не отпустят его, постараются взять свое, а если он воспротивится, ухватится за что-нибудь мертво – будут бить нещадно и, в конце концов, добьют его. Эту породу людей Гордеев успел изучить.
Денег, чтобы вернуть их фирме, Гордеев конечно же не достанет – ладно бы город был богатый, работающий, – тогда все было бы проще, он и нужную сумму раздобыл бы, и довесок еще – сверх того, – выложил бы, и пиво с прицепом выставил бы, но в долг ныне люди не дают денег даже на хлеб. Нет денег ныне у людей, нету – полно домов, где на буханку хлеба не наберется даже двух червонцев.
Перестроечная, выкрученная, как белье, жизнь оказалась много страшнее и беднее доперестроечной, – такой человек, как Гордеев, которому с детства вдували в уши слова «кто был никем, тот станет всем» – раньше, как оказалось, был всем, сейчас же стал никем.
Человек – это ныне тьфу, пыль, грязь, плесень, уничтожить его, обратить в воздух ничего не стоит – вот и появились целые легионы неких порхадзе, окруженных «быками», качками, считающими себя элитой общества, хотя мозгов у этой элиты не больше, чем один раз намазать на хлеб – даже кошке не хватит, чтобы наесться. А уж насчет того, чтобы принять какое-нибудь мудрое решение, о-о-о…
Что делать, что делать? Тугие тревожные молоточки забились у него в ушах – Гордеев не знал, что делать, – жизнь для него вообще кончилась, даже яркие краски, и те погасли – и небо с тихо ползущими невесомыми взболтками облаков, и редкостные деревья, которые только на Дальнем Востоке и растут, больше нигде не водятся, – все это потемнело, сделалось мрачным, гибельным, в воздухе запахло тленом. Виски то стискивала железная боль, мешала дышать, то отпускала, – но отпускала лишь затем, чтобы в следующий миг обернуться болью еще большей.
Надо было попытаться найти деньги – вдруг кто-нибудь разбогател – нашел в тайге, в сопках золотой самородок и «обналичил» его в местном банке, либо получил наследство от внезапно окочурившегося за океаном дядюшки. Либо у себя под подушкой обнаружил подкинутый нечистой силой «кохинор» – дорогой розовый бриллиант… Вдруг Гордееву повезет и он сумеет добыть денег, чтобы расплатиться с бандитами?
Телефон в квартире Гордеева был отключен. Естественно, за неуплату. За что же еще можно отключить телефон у бывшего законопослушного, трудолюбивого, способного изобретать разные мудрые штукенции-дрюкенции работяги?
Гордеев оделся. Почемучка ухватил отца за руку, крепко впился пальцами в ладонь – Гордееву даже больно сделалось:
– Па, я с тобой!
Гордеев вздохнул: Почемучка прав, дома его одного оставлять нельзя, вообще-то, дети в этом возрасте живут под недреманым оком матери – присматривать. За ними надо каждую секунду, без пропусков, очень тщательно…
– Пошли! – В следующее мгновение Гордеев повторил более решительно: – Пошли!
Он заглянул к старому своему приятелю, с которым вместе немало поел уголька в забое, – к Жихареву, Жихарев каждый день ездил на заработки в Находку. Иногда попадал в мишень и привозил домой кое-какие деньги – добывал их на разгрузке судов в порту, на поденной работе, иногда проскакивал мимо и возвращался ни с чем.
Но для того, чтобы оплатить телефон, деньги у Жихарева все-таки находились, иначе дом их вообще оказывался без телефона. Жихарев, бровастый, носастый, весь из себя внушительный – хилостью комплекции он никогда не отличался, – встретил Гордеева на пороге квартиры. В Находку он сегодня не поехал – почувствовал себя неважно, одышка, зараза, подступила к самому горлу, сердце тоже въехало в горло и застряло там – совсем не думало выбираться, воздуха не хватало, и Жихарев решил сделать перерыв.
– Ну! – таким громким возгласом встретил приятель Гордеева, поездил бровями из стороны в сторону. – Судя по твоему взъерошенному виду, что-то случилось?
– Случилось, – хмуро подтвердил Гордеев и, стараясь, чтобы голос его не дрожал, не срывался от слез и обиды, рассказал, что произошло.
– Охо-хо! – Жихарев вновь по-бармалейски поездил из стороны в сторону бровями, вздохнул горестно, внутри у него что-то глухо забулькало, словно бы он переполнился водой (водкой либо слезами он переполниться не мог, не ту натуру имел Жихарев), сжал пальцы в кулак. – Свернут эти люди всем нам головы! – Внутри у него опять раздалось глухое бульканье. Жихарев поспешно полез в стол, достал оттуда тощую пачечку розовых бумаг, перетянутых резинкой. – Вот все, что у меня есть, можешь воспользоваться.
– Сколько тут? – спросил Гордеев.
– Пятьсот рублей. Они твои.
Гордеев взял в руки пачечку денег, с горестным видом помял ее пальцами.
– Пятьсот рублей меня не спасут.
Жихарев придвинул к себе старый телефонный аппарат, склеенный синей изоляционной лентой.
– Давай звонить по корефанам, бить в набат.
Гордеев забрал у него аппарат и, слепо тычась пальцами в скрипучий диск, позвонил человеку, как он считал, богатому, главному инженеру автобазы. Услышав о просьбе, тот замялся, речь его сразу сделалась невнятной… В общем, пусто. То ли жалко стало денег главному инженеру, то ли жена висела над ним и носом мужа держала свой увесистый кулак.
– Не горюй, мужик, – подбодрил приятеля Жихарев, чихнул и дернул нашлепками бровей, направляя их вначале в одну сторону, потом в другую. – Накручивай следующий номер.
Брови, как два послушных меховых возца, запряженных невидимыми крохотными лошадками, замерли на месте – возчик приказал им остановиться…
Следующий звонок также ничего не дал. И третий звонок не дал. И четвертый с пятым. Те, кто имел деньги небольшие – копейки по нынешним понятиям, – не спешили расставаться с ними, точнее – просто боялись: вдруг завтра возникнет какая-нибудь кризисная ситуация и им не на что будет купить хлеб? Гордеев этих людей понимал…
Кроме тощей пачечки из пяти сотенных бумажек, которые предложил Жихарев, Гордеев ничего не добыл.
– Вот мать честная! – Раздосадованный Жихарев хрястнул кулаком о колено, брови-возки ожесточенно заездили у него по лицу, ныряя то в один угол обширной, покрытой крупными порами территории, то в другой. – Вот мать честная! – голос у Жихарева дрогнул, задребезжал влажно, затем из глотки вымахнуло зажатое шипение, словно бы внутри у этого большого сильного человека что-то прокололи, выпустили воздух, и он невольно затих.
Домой Гордеев вернулся ни с чем.
В окна квартиры лился мягкий розовый свет вечернего солнца, припозднившегося с ночлегом, пели птицы – каждая изливала душу, каждая вытворяла такое, что мигом пропадали все слова, делались пустыми, как шелуха – перед этим сладостным пением они ничего не значили. Гордеев услышал собственный взрыд, застрявший где-то внутри, взрыд встряхнул его тело.
За себя Гордеев не боялся – его песенка спета, – а вот за Почемучку боялся очень сильно.
Для начала Почемучку надо было покормить. Гордеев выскреб из сковородки остатки грибов, черных как уголь, даже чернее угля, швырнул в мусорное ведро, застеленное цветным полиэтиленовым пакетом, поставил на газ чайник, из холодильника достал банку с молоком.
Это молоко было Почемучкино, сам Гордеев к нему не прикасался – что же в таком разе останется сыну? Купить два литра молока вместо одного Гордеев не мог – все по той же скорбной причине… по которой он лишается этой вот квартиры.
Внутри у Гордеева вновь что-то шевельнулось, встряхнуло его тело. Гордеев погасил взрыд. Даже если с ним что-то случится, с Почемучкой все будет в порядке. У властей ныне появилось много помощников, особенно по части незадачливого детства, – наверное, не менее, чем беспризорников в нынешней России, государство на эти цели выделяет деньги, поэтому Гордеев был за Почемучку спокоен.
Чайник, стоявший на плите, дернулся, призывно фыркнул и засвистел. Будто беззаботная птица.
Гордеев заварил Почемучке чай, кинул в стакан три полных ложки сахара – сын любил сладкое, ему надо было расти, потому дети в этом возрасте и едят много сладкого, отпилил три ломтя от старой зачерствевшей булки и сунул под крышку на сковороду. Следом плеснул немного кипятка из чайника.
Через полминуты по квартире растекся роскошный хлебный дух, от которого у Гордеева во рту в твердый комок сбилась слюна… Все-таки хлеб – это типичная русская пища. Как и картошка… Картошка с лучком, жаренная на постном масле, порезанная плоскими аппетитными скибками, м-м-м, Гордеев положил теплые мягкие куски булки, распаренные на воде, перед Почемучкой!
– Ешь!
После ужина движения у Почемучки сделались медленными, сонными – умаялся сынок, столько грибов набрал, только вот попробовать их из-за этих гадов не удалось. Гордеев поспешно подхватил Почемучку на руки, подивился легкости его тела и отнес в комнату на диван.
Накрыл старым, светящимся насквозь, но еще теплым шерстяным одеяльцем – через тридцать минут Почемучка бодро захлопает глазами и проснется и тогда перед вторым, уже длинным, сном его можно будет раздеть. Почемучка натянул одеяльце на ухо и сладко засопел.
Несколько минут Гордеев сидел молча, погрузившись в некое оцепенение, боясь пошевелиться. Пространство неровно колыхалось перед ним, мышцы тупо покалывало, ему чудилось, что в доме его поселилось нечто неведомое, чужое, враждебное, он ощущал этого незваного пришельца, но не видел его, поэтому и сидел неподвижно, будто в засаде высматривал. Мыщцы начали затекать. Но Гордеев продолжал сидеть без движения. Попутно вспоминал свое прошлое, хотя его совсем не хотелось вспоминать. Не хотелось, но, видать, так устроен человек, что прошлое само выбирается наружу, вспоминается, давит, и нет способов справиться с ним. А уж чтобы справиться с самим собою – об этом даже думать не моги.
Он продолжал сидеть неподвижно, погруженный в тяжелые свои мысли, искал в самом себе светлые полянки, на которых можно было бы расположиться, и не находил их, в результате все темнее, чернее становилось у него на душе, все хуже и слезливее делалось ему. Выхода не было.
Завтра снова придут богатые быки во главе с современным юристом Порхадзе, раскинут пальцы на руках в виде вил и будет Гордееву совсем худо – мир, и без того беспросветный, схожий с большим куском угля, сделается совсем черным.
Ему очень хотелось очутиться сейчас где-нибудь далеко от Сучана, очень далеко, и разом покончить со всей этой мататой, с бедой, с тревогой, мертво застрявшей в его душе… Главное – чтобы рядом с ним находился Почемучка. Только один Почемучка и больше никто.
Но грезы есть грезы, а явь есть явь, одно с другим хоть и рядом находится, а смыкается редко. На душе делалось все чернее. В одном Гордеев был уверен твердо: дети за грехи родителей не отвечают, и если он сейчас куда-нибудь зафитилится, исчезнет, то вместе с ним исчезнут и его долги, на Почемучку они никогда не перекинутся – согрешивший отец за долги ответит и на этом все – стоп! Таковы законы жизни.
Но ныне появились такие люди, которым законы все, писанные и неписанные, до «лампочки», как было принято говорить в гордеевском детстве, и вообще эта новая порода людей живет не по правилом, а по понятиям.
Почемучка продолжал спать. Безмятежно, беззвучно, с открытым ртом, в котором были видны молочные, еще не очень крепкие зубы, крепкие зубы у него будут потом, они придут вместе с новой жизнью.
В груди у Гордеева громко, очень встревоженно забилось сердце, оно словно бы сорвалось с места, нырнуло вначале в один угол, затем в другой, затихло, будто бы оборвалось совсем, потом возникло вновь, обозначилось в ключицах болью, шарахнулось в сторону, опять исчезло. Стука его не стало слышно совсем. Гордееву сделалось страшно.
Он понимал, что спасти его может только чудо, но чудеса уже давно перестали являться людям, сына своего он может спасти только сам, больше никто – своей смертью может дать Почемучке жизнь, гарантировать ему и дом и кров.
Наивным человеком был Гордеев. Несколькими невесомыми движениями он поправил на Почемучке сползшее одеяльце и на цыпочках прошел к двери – боялся разбудить сына. В горле у него что-то забулькало, задергалось и он поспешно притиснул к шее руку – ни одного неосторожного шороха, ни одного царапанья или бульканья не должно возникать. Ничто не должно потревовожить Почемучкин сон.
Хотя вечернее пространство Сучана и было заполнено звуками – пением птиц, пытающихся отодвинуть от себя ночь, далекими криками детей, возвращающихся с сопок, тихой, очень грустной музыкой, льющейся из выставленного на подоконник магнитофона, тявканьем одного из героев популярного телесериала – голос этот, схожий с собачьим, звучал из квартиры шахтного слесаря Кротова, бедствующего, как и Гордеев, ранеными вскриками вечно ссорившихся супругов Нисневичей, живущих над слесарем Кротовым, но все это не проникало в сон Почемучки. Могли проникнуть только более близкие звуки.
И город Сучан, и их улица, утопавшая в тени высоких деревьев, и дом их жили своей жизнью.
На верхнем этаже их подъезда, в окне лестничной площадки были выбиты стекла – влюбленные молодые люди неосторожно выдавили своими задницами; видно отсюда, с восьмого этажа, было далеко. Розовый вечерний воздух ловко разрезали ласточки, носились, как ножи, с тихим чивканьем, всаживались в огромное красное солнце, плавились в нем, исчезали, сгорали, потом возникали вновь – все в этом мире было взаимосвязано, ничего не пропадало, если что-то вдруг впечатывалось в солнце и вспыхивало огнем, то яркий свет этот вовсе не означал, что кто-то исчез на веки вечные – скорее это означало рождение.
И на месте исчезнувшего Гордеева будет жить другой человек, более удачливый, более богатый, с иной судьбой.
Цепляясь руками за остатки парапета, на которых были выструганы ножиком разные нехорошие слова – молодежь упражнялась в грамотешке, в правильности написания популярных русских выражений, – Гордеев забрался на подоконник оконного проема и глянул вниз.
Все, что находилось там, в зелени и розовине, в туманном от вечернего света оконном проеме деревьев и кустов – находилось очень далеко, в опасном пространстве. Гордееву на секунду сделалось страшно, умирать расхотелось, но по-другому он не мог защитить Почемучку; может быть, и были другие способы защиты, но Гордеев не знал их. В следующее мгновение он стиснул зубы, сжал глаза в узкие беспощадные щелки, глянул влево, потом вправо – боялся испугать людей, – и с сипением втянул в себя воздух.
Переместил взгляд в глубокое розовое небо, в которое ему предстояло унестись, ощутил, что рот ему свела сухая судорога, с силой, кривясь лицом и ощущая боль, раздернул ее, освобождая себе губы…
Пора.
В это мгновение где-то в стороне, за пределами его сознания, послышался дробный испуганный топот детских ног, затем раздался сплющенный, стиснутый расстоянием крик:
– Па-апа!
Это был Почемучка.
Гордеев дернулся, сопротивляясь самому себе, мотнул головой отрицательно и вновь услышал далекий, слабенький, совсем не Почемучкин крик, хотя кричал Почемучка:
– Па-апа!
От крика этого, как от удара, Гордеев качнулся вперед, взмахнул рукой, пытаясь за что-то зацепиться, но цепляться было не за что, Гордеев взмахнул еще раз и с удивлением и страхом обнаружил, что рука прямо в воздухе оперлась обо что-то невидимое, твердое, словно бы кто-то подставил ему свое крепкое плечо.
– Боже! – воскликнул Гордеев смятенно, земля неожиданно оторвалась от него и проворно, с тихим звуком унеслась вниз, накрылась тонким и прочным, похожим на дорогую ткань слоем тумана. Лицо у Гордеева исказилось, губы испуганно запрыгали, он оглянулся, и этот взгляд назад, на бегущего по лестнице маленького человечка, все решил.
Как же он мог оставить этого человечка одного, как? С чего это он решил, что Почемучку, ежели тот останется один, никто не тронет, дом не отнимут, а самого Гордеева, тело его, вместо могилы не засунут под какую-нибудь железнодорожную платформу?
Гордеев застонал, оперся рукой на невидимое плечо и развернулся лицом к Почемучке.
Тот бежал к нему по лестнице и издалека тянул тонкие, розовые, – к Почемучкиной коже не приставал загар, – руки:
– Па-апа!
Боль просадила Гордеева насквозь, будто чья-то беспощадная рапира проткнула сердце, на щеках и шее у него высыпали ошпаривающей гречкой мелкие красные пятна, и он, одолевая боль, пытаясь обрести дыхание, ответно протянул к сыну руки:
– Почемучка!
Спрыгнул с подоконника вниз, сложился пополам, стараясь сломать плоскую железную рапиру, сидевшую внутри, от боли на лбу у него выступили мелкие, как при лютой хвори, капли пота, с трудом перевел дух и сел на теплый, разогретый дневным воздухом бетонный пол. Попробовал протолкнуть твердый комок, возникший в глотке, но попытка оказалась тщетной, и Гордеев закашлялся. Кашлял долго, мучительно.
Почемучка с лету опустился рядом с ним, обхватил обеими руками, прижался головой к его плечу.
– Па-апа-а! – выбил он из себя вместе со слезами, и у Гордеева вновь перехватило горло – мало того, что в нем сидел комок, горло сдавило еще что-то, Гордеев уронил голову, притиснул к себе Почемучку и заплакал.
Он понимал, что не должен плакать – особенно когда рядом находится ребенок, ведь он мужчина, а мужчины не плачут, но не мог сдержать себя… Не имел на это сил. И Почемучка плакал, сидя рядом.
Одно хорошо: слезы обладают очищающими свойствами, более того – они возрождают в человеке мужество, хотя справедливости ради надо заметить: в них есть и обессиливающие свойства – вон как сложно все… Как жить дальше, как бороться, Гордеев не знал, не ведал, чем он встретит завтра грузина-модника в его диковинных полукилометровых ботинках, которых не было даже у Маленького Мука, окруженного сытыми быками, не знал, что будет есть… Хотя одно он понял сейчас, и истину эту усвоил твердо, – Почемучка помог, – умирать нельзя, надо держаться.
Он поднялся и пошатываясь, словно немощный, заметно исхудавший, с испятнанным морщинами лицом – всего одной минуты на это хватило, – обхватил одной рукой Почемучку и, тихонько стеная, начал спускаться по замусоренной, пропахшей кошками и мочой молодых козлов лестнице к своей квартире.
Оттуда, часа через полтора, несмотря на позднее время, – рабочий народ в эту пору вообще уже третьи сны досматривает, – отправился к Жихареву. Честно говоря, он думал, что Жихарев уже спит – завтра ведь наверняка намостырится пятичасовой электричкой в Находку, чтобы сшибить, если удастся, какую-нибудь работенку, – но Жихарев не спал, сидел босой на кухне с мрачным тяжелым лицом, будто собирался пойти добровольцем на войну в Чечню, шевелил пальцами ног и молчал, чего-то про себя соображая – по лицу его было видно, как в черепушке Жихарева протекает мыслительный процесс и если прислушаться потщательнее, то можно услышать скрежет невидимых механизмов, чивканье, схожее с птичьим, звяканье шестеренок и цепи, перекинутой из одного мозгового полушария в другое…
Хоть и слеп был и глух в эту минуту Жихарев, плотно сидел в своих непростых мыслях, а на стук двери голову поднял и приветливо дернул уголками рта, разгоняя губы в улыбке: заходи!
– Ты ружье свое не продал? – с порога спросил Гордеев. Голос у него был бесцветным, очень ровным, будто бы не Гордеев говорил, а некий незнакомый автомат.
– Нет.
– Дай мне ружье. Я не хочу пускать этих гадов к себе на порог.
Жихарев подумал немного и одобрительно наклонил тяжелую голову:
– Хорошее дело! – Наклонил голову сильнее, словно бы хотел рассмотреть какое-то насекомое, поселившееся в рассохшемся полу, среди двух кривых паркетин, в неровной щели. – А вот патронов тебе не дам.
– Почему? – спросил Гордеев, почувствовал, что вопрос его прозвучал глупо – разве не понятно, почему ему боятся доверить полдесятка картонных стакашков, набитых дробью.
На этот вопрос можно было не отвечать, но Жихарев ответил – вяло помотал в воздухе широкой серой ладонью и сказал:
– Не приведи Господь, еще на курок нажмешь, продырявишь какого-нибудь быка, из этих… – Жихарев вздохнул и закончил фразу нехорошим словом. – Менты тогда примчатся и к тебе и ко мне. А сидеть… – Жихарев снова умолк и повозил полными сухими губами из стороны в сторону, – сидеть на старости лет очень не хочется.
– Но как же тогда… – Гордеев в красноречивом жесте вскинул над головой руку, – а звуковой эффект? Отпугивать лихоимцев чем я буду? Стуком приклада о собственную черепушку?
Жихарев вновь шумно, со свистом прогнал воздух сквозь ноздри, вздохнул?
– И это верно. – Пальцем, как крючком, поддел заусенец в ящике стола, с грохотом выдернул сам ящик. Внутри с чугунным недобрым звуком стукнулись друг о дружку патроны. Жихарев выгреб пять штук, подержал в руке, будто согревал заряды, и отдал Гордееву: – Держи. Только в людей не стреляй, понял? Иначе нам с тобою не сдобровать. Засудят. И тебя, и меня.
– Обещаю не стрелять… – тихо произнес Гордеев.
Жихарев знал своего соседа – если тот что-то обещает, то обещание свое обязательно выполняет. Даже если ему на хвост наедет бульдозер.
Гордеев относился к редкой категории людей, которые слова свои держат, чего бы это им ни стоило.
– Но если понадобится ударить поверх голов, либо под ноги – ударю, – добавил Гордеев. – Ладно?
Вновь повозив сухими губами из стороны в сторону, Жихарев крякнул, выбивая в кулак хрипоту:
– Это нежелательно… Но… – Он резким движением откинул руку в сторону, сжал пальцы в кулак – жест был призывным. – В общем, ты сам все понял.
– Понял, – ощутив, как тепло начало натекать ему в виски, – оно заполняло выемки, звонко стучало в черепе, – прежним тихим тоном произнес Гордеев, сглотнул твердый горький комок, вновь возникший в горле, подкинул в руке ружье, ловко поймал – с этой старой двухстволкой он почувствовал себя увереннее. – Вообще, ежели что, я тебя не выдам – сам умру, но ни за что не скажу, что взял у тебя ружье. Никто ничего не узнает.
Он был полон решимости бороться, защищать себя, защищать Почемучку, защищать дом свой, крышу над головой, очаг, жизнь их общую с сыном. Почемучка вернул ему уверенность в себе (как, собственно, и Жихарев), Гордеев ощутил острую необходимость бороться и пойти, если понадобится, на крайние меры, – и он на них пойдет… Конечно, Жихарева при этом он ни в коем разе не будет подставлять – упаси Господь!
Жизнь для него как будто начиналась сызнова.
А с другой стороны, он может действительно сорваться и загнать в ружье патроны с дробью – Порхадзе ведь выведет из равновесия кого угодно, даже бегемота, выигравшего очередную партию в шашки у слона и оттого очень радостного…
Гордеев попытался уснуть, ворочался беспокойно, но так уснуть не сумел – не получилось. Рассвет он встретил в кухне, сидя у холодной плиты и поглядывая в окно. Ружье он держал на коленях.
Порхадзе пришел в десять утра, ярко разряженный – в красном клетчатом пиджаке и синих полосатых брюках, в ботинках, сшитых из дорогого вишневого опойка, с длинными, задирающимися вверх носами. Сзади у него стояли двое быков – дюжих, с железными челюстями и одинаковыми, крохотными, будто бы вырезанными из свинца глазками.
Открыв дверь, Гордеев поспешно отступил назад – боялся, как бы быки не рванулись в квартиру, не выломали ему руки, ощутил, как по лицу, по коже щек, по лбу и шее поползли крохотные мошки. Пшено какое-то, а не мошки.
– Ну что? – небрежным тоном спросил Порхадзе. – Вещички свои собрали.
– И не подумаю собирать.
– Да-а-а? – с неожиданным интересом протянул Порхадзе. – Что, разжились где-то деньгами?
– Нет, пока не разжился.
– Напрасно. Мы вас сегодня выселим.
– Не посмеете!
– Еще как посмеем. – Порхадзе усмехнулся и, дернув шеей, словно бы ему что-то давило на кадык, повернулся к быкам, призывно щелкнул пальцами.
Гордеев поспешно отступил назад, подхватил ружье и ловко, точно, короткими движениями загнал в черные круглые провалы дула патроны и с масляным клацаньем сомкнул стволы.
Выставил перед собой ружье и предупредил:
– Только пусть попробует кто-нибудь из вас переступить порог… Буду стрелять!
Вид у него был такой решительный, что быки разом сделались меньше в росте и попятились. Им захотелось побыстрее уйти из этого дома…
