Дорогами мифов
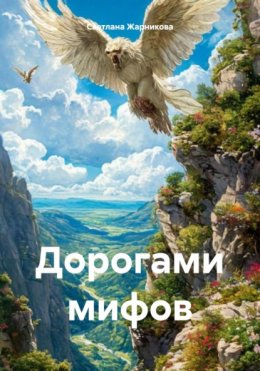
Светлана Васильевна Жарникова
Известный нумизмат, историк, краевед Александр Владимирович Быков писал: имя Светланы Васильевны Жарниковой хорошо известно специалистам по археологии, этнографии, фольклору и истории русского Севера. Именно в этих областях лежат интересы исследователя. Она одной из первых обратила внимание на забытые в эпоху социализма труды целой плеяды исследователей конца девятнадцатого – начала двадцатого века, анализировавших этнические истоки славянских народов и крамольную в те времена теорию об индоарийской общности, и всецело приняла её. Искусствовед по образованию, Светлана Васильевна начала свой вклад в науку с описания памятников народной культуры из собрания Вологодского музея-заповедника и других музеев вологодского края. Итогом её работы стали научные картотеки и в дальнейшем – интересные статьи, посвященные различным памятникам народного искусства.
В эпоху засилья этнографического официоза публикация её статей была делом чрезвычайной трудности. Работы Жарниковой не хотели признавать, над её выводами пытались подсмеиваться. Шельмование ученого продолжалось несколько лет. Уже, будучи автором ряда фундаментальных статей и фактически ведущим специалистом по этнографии среди вологодских исследователей, она продолжала числиться младшим научным сотрудником Вологодского краеведческого музея. В тысяча девятьсот восемдесят восьмом году Светлана Васильевна с блеском защищает диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук в Институте этнологии под руководством доктора исторических наук Натальи Романовны Гусевой. Она пробует себя на административной, преподавательской работе. Но настоящее призвание Светланае Васильевне Жарниковой принесли исследовательские труды. Она широко применяет комплексный подход к изучению проблемы, неуклонно расширяя круг источников, используя для доказательства нетрадиционные материалы из самых разных исторических дисциплин.
Сейчас Светлана Васильевна входит в число наиболее известных российских специалистов по истории и культуре русского Севера. Она – автор множества научных статей, опубликованных в таких изданиях, как «Советская этнография», «Этнографическое обозрение», «Информационный бюллетень ЮНЕСКО». Гипотеза о прародине индоарийских народов на европейском Севере является ныне одной из самых продуктивных в этой области. Её вклад в разработку этого вопроса весьма значителен.
Ферапонтовская Мадонна
Ферапонтово! Удивительный уголок далекого Русского Севера. Покой и гармония наполняют здесь душу человека и кажется, что время не властно над этими холмами, озёрами, лесами и лугами. Все здесь дышит удивительной чистотой, и поют свою потаенную тихую песнь вода, земля и небо. Эта песнь сопровождает путников, идущих по дороге к монастырю, вот уже шестьсот лет возвышающемуся на холме между двух озёр, она звучит на ступенях храма Рождества Богородицы и мощным хоралом поднимается ввысь в сиянии красок великого Дионисия.
Здесь, в соборе, в удивительном голубом, розовом и золотом сиянии словно оживают дивные строки Франческо Петрарки:
О всеблагая, благословенная,
Лествица чудная, к небу ведущая!
С неба ко мне преклони свои очи!
Воду живую, в вечность текущую,
Ты нам дала, голубица смиренная,
Ты солнце правды во мрак нашей ночи
Вновь возвела, мать, невеста и дочерь,
Дева всеславная, Миродержавная.
И таиница божьих советов!
Проведи ты меня сквозь земные туманы
В горние страны,
В отчизну светов!
(«Хвалы и моления Пресвятой Деве»)
Почему именно строки Петрарки, а не стихи Акафиста? Возможно, потому, что слишком близки друг другу по духу, по восприятию образа Богоматери гениальный итальянский поэт четырнадцатого века и не менее гениальный русский живописец, родившийся и творивший столетие спустя. И ещё потому, что слишком напоены солнцем и светом, слишком ренессансны эти стройные, изящные фигуры, нанесенные на стены северного храма великим мастером, спевшим здесь свою лебединую песню. Да и изображения храмов и других строений, хотя до предела стилизованных, больше напоминают итальянские соборы и палаццо, нежели традиционные русские соборы и церкви.
Но, может быть, всё это вполне закономерно и ничего странного в подобных ассоциациях нет? Вспомним время, в которое жил и творил Дионисий, называемые современниками «мудрым и прославленным больше всех» и «началохудожником» (то есть художником от Бога).
Это было время, когда набирала мощь деспотия Ивана Третьего – «Великого Князя и Царя Всея Руси»; время религиозных смут, когда «все сомневались и о вере пытали»; время грандиозного каменного строительства в Москве, для которого Иван Третий с удивительным постоянством приглашает только итальянских архитекторов.
И они ехали в Москву: Аристотель Фиораванти – архитектор и инженер – приехал в тысяча четыреста семдесят пятом году; Пьетро Антонио Солари (Петр Фрязин) – архитектор и скульптор – в тысяча четыреста девяностом году; Алоизио ди Каркано (Алевиз Фрязин Миланец) – архитектор – в тысяча четыреста девяносто четвёртом году; Алевиз Фрязин-Новый – архитектор – в тысяча пятьсот четвёртом году; Бон Фрязин – архитектор – в тысяча пятьсот пятом году. Каждый из них внес свой вклад в строительство Московского Кремля.
Алоизио ди Каркано строил три нижних этажа достроенного позднее Терёмного дворца, стены и башни Кремля вдоль реки Негпинной, плотину и мост на этой реке, ров вдоль стен Кремля со стороны Красной площади. Вместе с Пьетро Антонио Солари он строит знаменитую Грановитую палату. Алевиз Фрязин Новый создает усыпальницу Великих Князей – Архангельский собор и, как свидетельствует летопись, строит ещё одинадцать церквей. Бон Фрязин возводит колокольню Ивана Великого.
Но самым первым из приглашенных на Русь итальянских архитекторов был Аристотель Фиораванти. Именно ему Иван Третий поручает проектирование и строительство предназначенного для пышных дворцовых церемоний Успенского собора.
Надо думать, что приглашение Аристотеля Фиораванти было не случайным. Не стоит забывать, что Иван Третий был одним из богатейших и могущественных государей Европы, а «железного занавеса», отделяющего Русское государство от других европейских стран, тогда не было. Международные связи и пятьсот лет назад были достаточно интенсивны, а слава итальянских художников и архитекторов огромна.
Ведь время Дионисия – это пора Высокого Возрождения в Италии. Это время, когда творили такие выдающиеся и такие разные художники, как Сандро Ботичелли и Андрея Мантенья, Филиппиио Липли и Леонардо да Винчи, Пьеро делла Франческа и Антонелло да Месима. Этот перечень можно продолжать ещё очень долго. Именно во второй половине пятнадцатого века и именно в Италии рождается великая и оптимистическая утопия Возрождения, гласящая, что человек всесилен и велик. Эта идея была четко выражена в трактате «О достоинстве и великолепии человека» Джаноццо Манетти и в «Речи о достоинстве человека» Пико делла Мирандола.
Отсвет идей Высокого Возрождения озарял тогда всю Европу, а Русь была не за семью морями. И когда Иван Третий приглашал итальянского архитектора и инженера, знаменитого Аристотеля Фиораванти, строить главный храм своей столицы, он твердо знал что храм будет построен в срок, что он будет похож на Владимирский Успенский собор и что расписывать этот храм будет лучший из русских художников – «мудрый и прославленный больше всех», «художник от бora» – Дионисий. Не нужно быть особенно проницательным, чтобы понять, что архитектор и художник должны были познакомиться ещё процессе строительства храма, ведь их творческий союз был предрешен волей «государя всея Руси», и самим статусом этих великих мастеров. Храм был построен и расписан, став жемчужиной русской архитектуры пятнадцатого века и украшением ансамбля Московского Кремля.
Но после этой грандиозной работы о Дионисии словно забыли. Его имя и его работы не упоминаются на протяжении конца восьмидесятых и в девяностые годы. Об Аристотеле Фиораванти летописи сообщают, что в качестве военного инженера и начальника артиллерии он участвовал в походах Ивана Третьего на Новгород, на Казань и на Тверь. С тысяча четыреста восемьдесят шестого года его имя также исчезает из русских государственных бумаг и летописей.
Итак, судя по всему, с конца восьмидесятых годов оба – и архитектор, и художник – в Москве не работают. Но тогда где, же они?
И почему именно после исчезновения из поля зрения летописей Дионисия и Аристотеля Фиораванти вдруг в девяностые годы пятнадцатого века начинается самое настоящее паломничество итальянских архитекторов на Русь? Что это, случайность или закономерность? Ведь кто-то же вел в Италии отбор мастеров, кто-то их приглашал в Москву и давал им гарантии.
И здесь, думается, ответ кроется в самом статусе «мудрого и прославленного больше всех» Дионисия. Надо просто представить себе личность Ивана Третьего, этого жесткого и самолюбивого государя, человека, который, утверждая свою власть огнем и мечом, сокрушил блестящее и богатое Тверское княжество, утопил в крови Новгородскую республику. Его самолюбие требовало утверждения во всех сферах, и искусство не составляло исключения.
Конечно, он мог послать своего самого лучшего, самого прославленного художника на родину всех искусств, в Италию, «людей посмотреть и себя показать». Тем более что такая практика существовала в Европе.
Если всё было так, как мы предполагаем, то в Италии Дионисий должен был окунуться в совершенно новую для него атмосферу восхищения человеком. Он мог читать трактат Леонардо Бруни, утверждавшего, что разум человека сопричастен божественному разуму и является световой субстанцией, a сам человек, «следствие этого, является как бы «смертным богом». Он мог любоваться фресками Фра Анджелико и Мазаччо, восхищаться образами Сандро Ботичелли и Пьеро делла Франческа, изучать работы Андреа Мантеньи и Леонардо да Винчи, штудировать обнаженную натуру как Лука Синьорелли. И, наконец, он мог видеть фрески первого мастера Ренессанса, гениального живописца рубежа тринадцатого – четырнадцатого веков Джотто на тему жизни Богоматери.
Подобный вывод напрашивается при сравнении падуанских фресок Джотто и росписей Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Именно, в Италии во второй половине пятнадцатого века с широким распространением идей неоплатоников, свет в интерьерах храмов, использовался как таковой, в его нематериальной сущности. Именно здесь можно было встретить его образное воплощение в виде сияющего голубого фона фресок и алтарных композиций. Все эти приемы были использованы Дионисием впоследствии в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтове. Но, восприняв и прочувствовав высочайшую живописную культуру Ренессанса, Дионисий остался верен тем канонам, по которым творили его соотечественники, по которым работал он сам. Сложное, абстрагированное, глубоко философичное искусство русской иконописи и фрески давало ему огромные возможности для совершенствования своего искусства. Знакомство с творчеством величайших гениев Возрождения отшлифовывало почерк художника и обогатило его палитру. Он поднялся на новую ступень. А потом он вернулся домой в Москву.
Здесь же за время его отсутствия многое изменилось. «Сомневающихся и пытающих о вере» осталось немного: одних сослали на Север, других казнили как еретиков. Свободомыслие и тирания власти – две вещи несовместные. Незыблемость принятых церковью установок отстаивалась теперь всеми доступными государству средствами. Опасность, которую таили в себе ренессансный гуманизм и искусство, отвергавшие режим подавления человеческой личности и непросвещённой деспотической власти, государственные институты Руси начала шестнадцатого века осознавали достаточно ясно. И отсюда в Москву устремились многие из тех, кому идеи гуманистов Возрождения казались «отвратительными» и «безбожными». Именно в Москву, после пострига на Афоне, приехал знаменитый Михаил Триволис. некогда входивший в круг друзей и приближенных Пико делла Мирандола. Став на Руси Максимом Греком, он обрушился с гневными проклятиями на «языческое нечестие» итальянских гуманистов и нашел при дворе великого Князя полную поддержку.
Ну а Дионисий? Дионисий сказал – нет! Нет – мракобесию, нет – попранию человеческого достоинства, нет – невежеству! Он был уже стар, мудр, он знал, что есть истинные, а что мнимые ценности в этом мире и не собирался отказываться от своих идеалов. Он предпочел быть свободным и удалился с сыновьями на Север, в вологодские леса. И здесь за два лета тысча пятьсот второго – тысяча пятьсот третьего годов создал он свой шедевр – свою Ферапонтовскую Мадонну. Гимном свету, добру, жизни звучат и по сей день эти росписи. Гимном женщине – матери, невесте, дочери! Той, что проводит «сквозь земные туманы в Горние страны, в Отчизну Светов». Образом светозарной горней страны, где сияет вечный день, где воздух напоён теплом, где нет страдания и венец божьего творения – Человек – раскрывается во всей своей красе и мощи, где женщина – Держательница Мира – несет в чаше «живую воду в вечность текущую». И сегодня предстают перед нами фрески гениального русского художника, возвестившего на Руси гуманистическую идею Ренессанса.
Проблемы локализации прародины индоевропейцев.
Проблема локализации прародины индоевропейских народов стоит перед наукой достаточно давно. Решающим для зарождения индоевропеистики было открытие санскрита, знакомство с первыми текстами на нем и начавшееся увлечение древнеиндийской культурой, наиболее ярким отражением чего была книга Фон Шлегедя «О языке и мудрости индийцев. Фон Шлегель, первым высказавший мысль о единой прародине всех индоевропейцев, поместил эту прародину на территории Индостана. Однако вскоре была доказана ошибочность этого предположения.
Необходимо отметить, что советская историческая школа до начала тридцатых годов двадцатого века исходила из определения прародины индоевропейцев основанных на трудах Шахматова и Нидерле.
Прародина индоевропейцев на основании естественно-географических факторов помещалась ими в Моравию и Силезию.
При этом прародину восточных индоевропейцев (славян, албанцев, лето-литовцев, армян, индо-иранцев) размещали в Московской и Тверской области, в верховьях Днепра.
Балтов в Минской и Витебской областях.
Прародина самих славян размещалась от Пруссии до Пскова, по берегам Немана, Двины и Рижского залива.
Предполагалось, что позже восточные индоевропейцы отошли по Днепру на юг, в Причерноморье, где сформировались арийцы -индоиранцы, которые затем ушли с Дона в Иран и Индию. Славяне перешли в Польшу и далее на Балканы, Карпаты и Украину.
Подобные научные гипотезы массово тиражировались тогда в частности в выпушенном Госиздатом в тысяча девятьсот двадцать восьмом году «Русском историческом атласе» Кудряшова. Несмотря на принципиально разные научные взгляды, эту работу поддержали и одобрили академики Покровский, Платонов, Вознесенский, Греков, Державин, Оксман, Преображенский, Пресняков, Сербина, Шебалов.
Но затем, после победы большевиков, в тысяча девятьсот двадцать девятом году, сама «русская история» была признана контрреволюционной, а в тысяча девятьсот тридцать втором –тридцать шестом годах теория прародины была объявлена коммунистическими идеологами – не большевистской, фашисткой и антинаучной.
Среди гипотез, сформулированных в последние годы хотелось бы наиболее подробно остановиться на двух: Сафронова, предложившего в своей монографии «Индоевропейские прародины» концепцию трех прародин индоевропейцев – в Малой Азии, на Балканах и в Центральной Европе (Западная Словакия), и Гамкрелидзе и Иванова, которым принадлежит мысль о Переднеазиатской (точнее, находящейся на территории Армянского нагорья и примыкающих к нему районов Передней Азии) прародине индоевропейцев, обстоятельно изложенная и аргументированная ими в фундаментальном двухтомнике «Индоевропейский язык и индоевропейцы».
Сафронов подчеркивает, что на основании раннеиндоевропейской лексики можно сделать вывод, что «раннеиндоевропейское общество жило в холодных местностях, может быть в предгорьях, в которых не было больших рек, но речушки, протоки, родники; реки, несмотря на быстрое течение, не были препятствием; переправлялись через них на лодках. Зимой эти реки замерзали, а весной разливались. Были и болота. Климат раннеиндоевропейской прародины, вероятно, был резко континентальный с суровой и холодной зимой, когда перемерзали реки, дули сильные ветры; бурной весной с грозами, сильными таянием снегов, разлитием рек, жарким засушливым летом, когда пересыхали травы, не хватало воды».
У ранних индоевропейцев существовали ранние фазы земледелия и скотоводства, хотя не потеряли значения охота, собирательство и рыболовство. Среди прирученных животных – бык, корова, овца, коза, свинья, лошадь и собака, которая охраняла стада. Сафронов отмечает, что: «Езда верхом практиковалась ранними индоевропейцами: какие объезжались животные, не ясно, но цели очевидные: приручение». Земледелие было представлено мотыжной и подчечно-огневой формой, обработка продуктов земледелия производилась измельчением зерен.
Ранние индоевропейские племена жили оседло, у них были разные типы каменных и кремневых орудий, ножи, жилья, скребки, топоры, тесла и др. Они обменивались и торговали. В раннеиндоевропейской общности имело место различие родов, учет степени родства, противопоставление своих и чужих. Роль женщины была очень высока. Особое внимание обращалось на «процесс генерации потомства», что выражалось в ряде корневых слов, перешедших в раннеиндоевропейский язык из бореального праязыка.
В раннеиндоевропейском обществе выделилась парная семья, управление осуществлялось вождями, существовала оборонительная организация. Существовал культ плодородия, связанный с зооморфными культами, был развитый погребальный обряд.
Из всего вышеизложенного Сафронов делает вывод, что прародина ранних индоевропейцев находилась в Малой Азии. Он отмечает, что такое предположение единственно возможно, поскольку «Центральная Европа, включая Карпатский бассейн, была занята ледником».
Однако данные палеоклиматологии свидетельствуют о другом. В то время, о котором идет речь, в период заключительной стадии валдайского оледенения (одинадцать тысяч лет назад) характер растительного покрова Европы, хотя и отличался от современного, но в Центральной Европе были распространены арктические тундры с берёзово-еловым редколесьем, низкогорные тундры и альпийские луга, а не ледник. Редколесье с берёзово-сосновым древостоем занимало большую часть Средней Европы, а на Большой Среднедунайской низменности и в южной части Русской равнины преобладала растительность степного типа. Палеогеографы отмечают, что на юге Европы влияние покровного оледенения пойти не ощущалось, тем более это касается Балкан и Малой Азии, где влияние ледника не ощущалось вообще. Время к которому относится культура малоазиатского Чатал Гаюка, связываемая Сафоновым с ранними индоевропейцами, отмечено потеплением голоцена.
Тем более маловероятно наличие холодного климата в Малой Азии. Здесь хотелось бы обратиться к выводам Льва Берга и Лисициной, сделанным в разное время, но, тем не менее, не опровергающим друг друга. Так Лев Берг в своей работе «Климат и жизнь» подчеркивал, что климат Синайского полуострова не изменился за последние семь тысяч лет и что здесь и в Египте, «если бы и было изменение, то скорее в сторону увеличения, а не уменьшения атмосферных осадков».
К аналогичным выводам приходит и Лисицина, которая пишет: «Климат аридной зоны в десятом – седьмом тысячелетиях до нашей эры мало чем отличается от современного». У нас нет оснований считать, что климат запада Малой Азии, где в настоящее время растут дафна, вишня, барбарис, маквиса, калабрийская сосна, дуб, грабинник, хмелеграб, ясень, белый и колючий астрагал, живут также животные как мангуст, гинета, шакал, дикообраз, муфлон, дикий осел, гиена, летучие мыши и саранча, а «снег выпадает не каждый год, снежный покров, как правило, не образуется», тогда столь значительно отличался от современного, чтобы она могла быть похожей на ту суровую прародину ранних индоевропейцев, которая реконструируется на основе их лексики.
Сафонов пишет: «Глубокое родство бореального с тюркскими и уральскими языками, позволяет локализовать бореальную общность в лесной зоне от Рейна до Алтая».
Напомним, что: «Из ландшафтной лексики в бореальном праязыке обильнее всего представлены корневые слова, так или иначе связанные с лесом. Образ этого ряда с полной очевидностью указывает, во-первых, на лесистый характер той местности, где жили племена, говорившие на БП, во-вторых, на присутствие хвойных пород в этих лесах». Но полоса хвойных лесов в десятом тысячелетии до нашей эры тянулась не от Рейна до Алтая (в широтном направлении, как предполагает Сафронов), а субмередионально с юго-запада (от предгорий Карпат) на северо-восток (до реки Печоры).
Следовательно, ранние индоевропейцы именно из этой лесной зоны могли начать свои подвижки по всем направлениям (и в том числе на территорию Малой Азии), из чего, естественно, не следует, что население Чатал Гуюка в восьмом тысячелетии до нашей эры было не индоевропейским. Вероятно, Чатал Гуюк был лишь небольшой частью огромного раннеиндоевропейского ареала. Напомним, что это время было временем пика смешанных широколиственных лесов, доходящих на севере Восточной Европы до побережья Белого моря, и что ранним индоевропейцам для ведения скотоводчески-земледельческого хозяйства (подсечно-огневое земледелие) в комплексе с охотой, рыболовством и собирательством необходимы были весьма значительные территории.
И хотя Сафронов пишет, что: «В начале мезолита зона производящего хозяйства была крайне ограничена» и в нее входили «лишь горы Загроса, Юго-Восточной Анатолии, Северная Сирия, а также Палестина», о наличии производящего хозяйства на территории Восточной Европы в седьмом тысячелетии до нашей эры, свидетельствуют археологические материалы. Вновь обращаясь к выводам Матюшина, подчеркнем, что на границе седьмого тысячелетия до нашей эры на Южном Урале фиксируется наличие домашней лошади и на двадцати двух памятниках найдены остатки домашних животных (козы, овцы, крупного рогатого скота, лошади и собаки).
Именно этот набор прирученных животных – бык, корова, овца, коза, свинья, лошадь и собака – зафиксирован в лексике ранних индоевропейцев. И, конечно, глубокое родство, предка раннеиндоевропейского праязыка – древнего бореального (северного) языка с уральскими (финно-угорскими) и алтайскими (тюркскими) языками естественно вытекает из локализации племен носителей этого бореального языка в эпоху финала верхнего палеолита (пятнадцать тысяч лет до нашей эры) именно в зоне смешанных и хвойных лесов, на территории Восточной Европы.
Миграции части бореальных племен за Урал, на территорию Сибири и в предгорья Алтая логичны и объяснимы давлением избытка населения на территории Восточной Европы в этот период, что могло быть вызвано нехваткой охотничьих угодий при охотничье-рыболовческом типе хозяйства, когда оптимальная плотность населения составляла один человек на сорок квадратных клометров.
Такие подвижки и в последующее раннеиндоевропейские время могли быть весьма значительными во всех направлениях и «увести» часть населения индоевропейского ареала вплоть до запада Малой Азии. Мелларт – первооткрыватель культуры Чатал-Гуюка, отмечал, что уже двенадцать тысяч лет назад в этих районах появляются пришельцы, объединения которых «были более крупными и лучше организованными чем у их предшественников. Эти группы мезолитических людей с их специализированными орудиями, видимо, были потомками верхнепалеолитических охотников, однако только в одном пункте – в Зарди, в горах Загроса, – найдены материалы, позволяющие говорить о приходе носителей этой культуры с севера – может быть из русских степей, из-за Кавказа».
Таким образом, не отвергая мысль о том, что население Анатолии было в восьмом тысячелетии до нашей эры раннеиндоевропейским, пришедшим с территории своей древней прародины – лесной зоны Восточной Европы, мы можем предполагать, что большая часть ранних индоевропейцев продолжала жить именно на этой своей прародине, что в значительной степени подтверждается и ранее приведенными выводами лингвиста Фридриха о том, что: «праславянский лучше всех других групп индоевропейских языков сохранил индоевропейскую систему обозначения деревьев. Носители общеславянского языка в общеславянский период жили в экологической зоне (в частности определяемой по древесной флоре) сходной или тождественной соответствующей зоне общеиндоевропейского, а после общеславянского периода носители различных славянских диалектов в существенной степени продолжали жить в подобной области». Зона смешанных хвойно-широколиственных лесов, повторяем, уже в седьмом тысячелетии до нашей эры доходила на территории Восточной Европы вплоть до побережья Белого моря.
Что касается роли раннеиндоевропейцев в мировом историческом процессе, то тут трудно не согласиться с основными выводами Сафронова, сделанными им в заключительной части своей работы. Действительно: «В решении проблемы индоевропейской прародины, волнующей на протяжении двух веков ученых многих профессий и различных стран мира, справедливо видит истоки истории и духовной культуры народов большей части Европы, Австралии, Америки. Как их потомки, индоевропейцы нового времени, отрыли Новый Свет, так индоевропейцы Древнего Мира открыли человечеству знание о целостности земного дома, единстве нашей планеты. Эти открытия остались бы безымянными, если бы отголоски о великих странствиях не удержались в индоевропейских литературах, отделенных от нас и от этих событий тысячелетиями… Индоевропейские путешествия стали возможными благодаря изобретению в своей среде индоевропейцами колесного транспорта». И добавим, благодаря одомашниванию дикого коня в южнорусских степях. Как отмечает Чередниченко: «Распространение упряжной лошади из евразийских степей в настоящее время уже не вызывает сомнений, процесс приручения лошади осуществляется на далеких равнинах евразийского степного региона. Таким образом, в настоящее время речь может идти лишь о путях проникновения индоевропейских коневодческих племен Евразии на Восток и в Средиземноморье. Евразия, таким образом, являлась территорией, откуда колесницы были принесены индоевропейскими племенами в различные регионы Старого Света, что весьма существенно отразилось на политической жизни Древнего Востока».
Сафронов пишет: «Период общего развития индоевропейских народов – праиндоевропейский период – нашел отражение в удивительных схождениях великих литератур древности, как Авеста, Веды, Махабхарата, Рамаяна, Илиада, Одиссея, в эпосах скандинавов и германцев, осетин, легендах и сказках славянских народов. Эти отражения сложнейших мотивов и сюжетов общеиндоевропейской истории в древнейших литературах и фольклоре, разделенных между собой тысячелетиями, завораживают и ждут своего истолкования. Однако появление этой литературы стало возможным только благодаря созданию праиндоевропейцами метрики стиха и искусства поэтической речи, которая является древнейшей в мире и датируется не позже четвёртого тысячелетия до нашей эры. Создав свою систему знаний о мироздании, открывших человечеству дорогу к цивилизации, праиндоевропейцы стали творцами древнейшей мировой цивилизации, которая древнее цивилизаций долины Нила и Междуречья.
Наблюдается парадокс: лингвисты, воссоздав по данным лингвистики облик праиндоевропейской культуры, по всем признакам соответствующей цивилизации, и определив её древнейшей в ряду известных цивилизаций пятого тысячелетия до нашей эры не смогли перейти рубикон сложившихся исторических стереотипов, что «свет всегда идет с Востока», и ограничились поисками эквивалента такой культуре в областях Древнего Востока, оставляя в стороне Европу как «периферию ближневосточных цивилизаций». Цивилизация праиндоевропейцев оказалась настолько высокой, устойчивой и гибкой, что выжила и сохранилась, несмотря на мировые катаклизмы».
Сафронов подчеркивает, что «Именно позднеиндоевропейская цивилизация дала миру великое изобретение – колесо и колесный транспорт, что именно индоевропейцы создали кочевой уклад экономики, «позволившей им пройти бескрайние просторы евразийских степей, дойти до Китая и Индии. Мы считаем, что залог устойчивости индоевропейской культуры был создан праиндоевропейцами. Он выражается в модели существования культуры как открытой системы с включением инноваций, не задевающих основ структуры ее. В качестве формы существования с миром праиндоевропейцами была предложена модель, удержавшаяся во все исторические времена – выведение колоний-факторий в индоязычную и инокультурную среду и доведение их до уровня развития метрополии. Сочетание открытости с традиционностью и новаторством, формула которого была найдена для каждого исторического периода развития индоевропейской культуры, обеспечивало сохранение индоевропейских и общечеловеческих ценностей». Мы позволили себе столь долгое цитирование, так как трудно более четко, компактно и всесторонее определить значение праиндоевропейской и раннеиндоевропейской культуры для судеб человечества, чем это сделано в работе Сафронова «Индоевропейские прародины».
«Индоевропейский язык и индоевропейцы»
Следующим фундаментальным трудом, посвященным прародине индоевропейцев, на основных положениях которого хотелось бы остановиться подробнее, является работа Гамкрелидзе и Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы», где развивается и обстоятельно аргументируется мысль об общеиндоевропейской прародине на территории Армянского нагорья и прилегающих к нему районов Передней Азии, откуда часть индоевропейских племен затем продвинулась в черноморско-каспийские степи.
Отдавая должное очень высокому уровню этого энциклопедического труда, где собрано и проанализировано огромное количество языковых, исторических фактов, данных археологии и других смежных наук, хотелось бы отметить, что целый ряд положений, постулируемых Гамкрелидзе и Ивановым, вызывает очень серьезные сомнения.
Так Сафронов отмечает, что: «Языковые факты, приводимые Гамкрелидзе и Ивановым в пользу локализации индоевропейской прародины на территории Армянского нагорья, могут получить и другие объяснения. Отсутствие индоевропейской гидронимии в указанном ареале может свидетельствовать лишь против локализации в нём индоевропейской прародины. Экологические данные, приведенные в разбираемой работе ещё больше противоречат такой локализации. На территории Армянского нагорья нет почти половины животных, деревьев и растений, указанных в списке флоры и фауны, приведенных Гамкрелидзе и Ивановым, реконструируемых в общеиндоевропейский (осина, граб, тис, липа, вереск, бобр, рысь, тетерев, лосось, слон, обезьяна, краб)».
Именно на этих экологических данных, приведенных в труде Гамкрелидзе и Иванова, хотелось бы остановиться подробнее.
Фауна индоевропейской прародины.
Обратимся к типичной фауне индоевропейской прародины, реконструируемой на основе раннеиндоевропейской лексики.
Иванов и Гамкрелизде в своей работе «Индоевропейский язык и индоевропейцы» называют тех животных, которые были известны древним индоевропейцам. Это – волк, медведь, лиса, кабан, олень-лось, бык-тур-зубр, заяц, белка, хорёк, горностай, выдра, бобр, барс-леопард, лев, рысь, слон, мышь, змея, журавль, ворон, ворона, дрозд-скворец-воробей, тетерев-глухарь, гусь-лебедь-утка, орел, ястреб.
Ареал обитания змеи, мыши, волка, медведя и лисы достаточно широк и не вызывает сомнения их присутствие на территории лесной и лесостепной полосы Восточной Европы с глубокой древности, о чем свидетельствует и териофауна Позднего Валдая.
Змеи, отряд пресмыкающихся. Тело удлинённое, конечности отсутствуют. Глаза лишены век, имеют снаружи сплошную прозрачную оболочку, отделяющуюся при линьке вместе со всем старым слоем кожи, покрывающим голову. Барабанная перепонка и среднее ухо отсутствуют. Правая и левая ветви нижней челюсти соединены растяжимой связкой. Всё тело покрыто чешуей, окраска которой часто гармонирует с окружающей средой. Ископаемые известны начиная с мелового периода. Древние были крупных размеров (длиной свыше одинадцати метров). Змеи питаются только животной пищей. Большинство змей откладывает яйца, другие (например, гадюки) – яйцеживородящи, откладывают яйца, из которых тотчас же выходит молодь. Змеи распространены повсюду, за исключением Новой Зеландии, океанических островов и полярных областей. В СССР встречается пятьдесят пять видов.
Мыши, семейство млекопитающих отряда грызунов. Длина тела пять – пятьдесят сантиметров.; хвоста до сорока пяти сантиметров. Подразделяется на подсемейства – мышиные и австралийские водяные крысы. Всего восемьдесят современных родов. двенадцать вымерших с и более четырехсот видов. Распространены всесветно, большинство видов – в лесах тропиков и субтропиков.
В СССР одинадцать видов. Большинство ведёт полуназемный образ жизни, питаясь семенами, часть – животной пищей. Мыши природные носители большого числа паразитов и хранители возбудителей многих болезней человека и домашних животных, включая опасные инфекции. Вредят зерновому и лесному хозяйству, повреждают материалы и продукты питания.
Волк, хищное млекопитающее семейства псовых. Длина тела до ста шестидесяти сантиметров. Распространён в Европе, Азии и Северной Америке; в СССР отсутствует лишь на Соловецких островах, в южной части Крыма и на некоторых островах Дальнего Востока и Полярного бассейна. Наиболее многочислен в степи; часто встречается в пустыне, в сплошной тайге редок. Окраска серая. Питается преимущественно животной пищей: дикими и домашними копытными, собаками, зайцами, мелкими грызунами. Волк наносит вред животноводству и охотничьему хозяйству.
Зайцы, семейство млекопитающих отряда зайцеобразных. Роды: зайцы, жесткошёрстные зайцы, кролики; объединяют пятьдесят видов. Отдельные виды приспособлены к быстрому бегу, рытью, плаванию, лазанью. Распространены по всему земному шару, за исключением острова Мадагаскар, южных областей Южной Америки и Антарктиды. Обитают в самых разнообразных условиях. Питаются травянистой растительностью, корой, почками и ветками древесных пород. Отдельные виды распространяют переносчиков природно-очаговых инфекций. На территории СССР обитают: маньчжурский заяц, дикий кролик, заяц-беляк, заяц-русак, заяц-толай.
Лисицы, род хищных млекопитающих семейства псовых. Морда узкая, уши стоячие, заострённые. Хвост длинный, пушистый. Мех густой, пушистый. Окраска преимущественно рыжая, разных оттенков, или серая с рыжиной. Известно шесть видов; распространены на всех материках, кроме Антарктиды. В СССР: лиса обыкновенная, или красная, лиса корсак и лиса афганская. Обыкновенная лиса – самый крупный вид: длина тела девяносто сантиметров, хвоста шестьдесят сантиметров, весит до десяти киллограммов. Окраска изменчива, но в основном верх тела и бока желтовато-рыжие, низ и конец хвоста белые. В СССР наиболее яркие, «красные», лисы свойственны северным и северо-восточным частям страны, южные расы имеют более светлую, иногда почти серую окраску. Изредка встречаются чисто белые или чёрные особи. Распространены лисы по всей территории СССР. Питаются главным образом мышевидными грызунами, а также зайцами, птицами, падалью.
Лиса важный объект промысла. Полезны истреблением вредных грызунов.
Медведи, семейство из отряда хищных млекопитающих. Голова удлинённая, морда массивная, глаза и уши небольшие. Лапы мощные, пятипалые; стопоходящие; когти невтяжные, очень большие. Хвост короткий. Телосложение плотное; длина тела до трёх метров, весят до тонны. Мех густой, с развитым подшерстком, относительно грубый; окраска от угольно-чёрной до беловато-лимонной; у некоторых на груди светлое пятно. Резцы и клыки крупные, предкоренные небольшие, коренные массивные, уплощённые. Современные виды; очковый медведь в горных районах Южной Америки, малайский медведь, губач и белогрудый медведь в Юго-Восточной Азии, барибал в Северной Америке, бурый медведь в Северо-Западной Африке, Евразии и Северной Америке, белый медведь в Арктике. Обитают в самых разнообразных условиях – от пустынь до высокогорий, от тропических лесов до арктических льдов, в связи, с чем различаются образом жизни и способами питания. Бурый встречается в самых различных условиях (в степях и даже в пустыне, в субтропических лесах, тайге, тундре и на морских побережьях); пища – растительная и животная. Мясо съедобно; жир и желчь используют в медицине. Объектом промысла служит главным образом бурый. Численность и ареалы всех видов резко сокращаются.
Ископаемые остатки известны из среднемиоценовых отложений Евразии. Наибольшее число видов было в плиоцене в Евразии и Северной Америке. Наиболее известны пещёрные медведи, существовавшие в плейстоцене в Евразии. В антропогене многие виды вымерли.
Кабан, дикая свинья, вепрь, парнокопытное млекопитающее семейства свиней. Длина тела до двух метров, высота в холке до метра, весит до трехсот килограмм. Верхние и нижние клыки, особенно крупные у самцов, загнуты вверх и в стороны. Тело покрыто грубой щетиной, зимой с мягким подшёрстком. Окраска бурая. Кабан распространён в Северной Африке, Европе и Азии. Предпочитает леса и тростники вблизи водоёмов, горные леса. Всеяден. Объект промысла: даёт мясо, шкуру, щетину. Кабан – родоначальник домашних свиней, «появившись в нижнем олигоцене Европы, кабаны оттуда расселились в Азию и Африку. Очевидно, было три центра одомашнивания кабана различных подвидов, как европейских, так и азиатских, и последующее смешение уже домашних пород. В Европе свиньи одомашнены в конце новокаменного века». Кости кабана были найдены среди костных остатков стоянки Костенки на Дону, относящейся к позднему периоду Валдайского оледенения.
Домашние свиньи произошли от разных подвидов кабана. Одомашнены свиньи в эпоху неолита. У свиньи культурных пород сохранились биологические особенности, присущие их роду: слабое зрение, острый слух, тонкое обоняние, способность хорошо плавать.
Свиньи, семейство нежвачных млекопитающих отряда парнокопытных. Размеры средние, телосложение тяжёлое и грубое. Морда длинная с коротким подвижным хоботком, заканчивающимся голым плоским «пятачком». Волосяной покров редкий, преимущественно из щетины. Всеядны. Населяют обычно леса или прибрежные заросли. Встречаются на всех материках, исключая Австралию и Антарктиду. Два подсемейства: пекари и собственно свиньи. К собственно свиньям относят пять современных родов: настоящие свиньи, встречающиеся в Европе, Азии и Северной Африке, в СССР – кабан – родоначальник домашних свиней; речные свиньи, живущие в Африке и на Мадагаскаре; лесные свиньи, обитающие в тропической Африке; бабируссы – на островах Сулавеси и Буру; бородавочники – в Африке к югу от Сахары.
Олени, семейство млекопитающих отряда парнокопытных. Стройные животные, на высоких ногах, с коротким хвостом и длинными подвижными ушами. Самцы имеют обычно ветвистые рога, ежегодно сбрасываемые, а весной вырастающие вновь. Волосяной покров состоит из грубой ости и нежного подшёрстка. Окраска чаще рыжеватая или бурая; молодые пятнистой окраски. Все современные олени относятся к четырём подсемействам: мунтжаки, включают два рода – мунтжаки (хохлатый олень); водяные олени; собственно олени, распространены в Северной Африке, Евразии, Северной Америке; американские олени – в Северной Евразии, в Северной и Южной Америке. Иногда в семейство олени включают кабаргу. Около сорока распространены в Европе, Азии, Северной Африке, Северной и Южной Америке. В СССР – шесть видов: благородный олень, пятнистый олень, лань, косуля, лось, северный олень. Обитают в лесах, лесотундре, тундре, а также в горных лесах. Питаются листвой и побегами кустарников и деревьев, разнотравьем, иногда мхом, лишайниками, корой деревьев. Все олени охотничьи и промысловые животные.
Лось, сохатый, парнокопытное млекопитающее; самый крупный вид семейства оленей. Длина тела самца до трёх метров, высота в холке до двух с половиной метров, весят до шестисот килограмм. Ноги длинные с узкими острыми копытами. Голова длинная, горбоносая, с нависающей мясистой верхней губой; уши длинные, подвижные; на горле свисает покрытый волосами кожный вырост («серьга»). Хвост короткий. У самцов имеются лопатообразные рога, направленные в стороны; самки безрогие. Шерсть грубая. На верхней стороне шеи и холки длинные волосы образуют подобие гривы. Окраска зимой темно-бурая, летом почти чёрная; ноги белые. Лось широко распространён в лесной зоне Европы (от Польши на восток) и в Азии; заходит в лесотундру, лесостепь и степь. Питается зимой побегами и корой ив, осины, рябины, сосны и других деревьев; летом поедает также травянистые растения (кипрей, пушицу, кувшинки). Длинные ноги дают возможность передвигаться в снегу глубиной до метра. Рога спадают в декабре, новые вырастают к августу. Лось ценное промысловое животное (используется мясо и прочная шкура), используется в тайге в качестве транспортного животного.
Олень – лось – антилопа – общеиндоевропейские лексемы с исходным корнем – «ел», «ол». Общеизвестно, что олень не является узколокализованным эндемиком южного ареала. Северные олени обитают в тундре, благородный олень в Центральной, Западной и Восточной Европе. Данные о териофауне Позднего Валдая подтверждают наличие большерогого и северного оленя даже на западном побережье Великобритании у края ледника. Что касается Восточной Европы, то здесь в этот период олени встречаются на обширной территории. Так на стоянке Молодова (на Днепре) присутствуют кости северного и благородного оленя, а также лося. На Десне, в бассейне Волги, в низовьях Дона также обитали северный олень и лось. На юге Поволжья (у Переволоки) в период Позднего Валдая обитали благородный и гигантский олень, лошадь, сайга и осел. Что касается лося, то он «распространен очень широко, населяя пояса северных лесов Евразии и Северной Америки».Флеров считал, что среди оленей лось должен рассматриваться как форма, развивавшаяся в более северных районах, что это – «таежный вид», а Баскин считает, что: «лоси сформировались как вид, приспособленный к таежным заболоченным лесам и поймам». Исходя из этого, представляется маловероятным присутствие лося в древнеиндоевропейское время (пятое тысячелетие до нашей эры) в Передней и Малой Азии и Закавказье.
Бык-тур-зубр. Быки, крупные жвачные животные семейства полорогих отряда парнокопытных. Характеризуются тяжёлым, грузным туловищем с короткой шеей и короткими сильными ногами. Рога округлые и гладкие, имеются как у самцов, так и у самок (кроме комолых пород). Дикие виды встречаются в Европе, Азии и Северной Америке; многочисленные породы домашнего крупного рогатого скота распространены повсеместно. Дикие быки живут в тропических лесах, в лесостепи, населяют открытые степные пространства и пустынные нагорья. Стадные животные. Питаются разнообразной растительной пищей.
Настоящие быки не имеют диких представителей. К этому роду принадлежал тур, ранее широко распространённый в Юго-Восточной Азии и Европе. Тур был одомашнен.
Яки представлены единственным диким видом (Тибет). В одомашненном состоянии встречается в горных районах Средней и Центральной Азии (в Казахстане, Киргизии и Южной Сибири).
Лобастые быки включают три вида из Южной Азии: гаур (гаял – его одомашненная форма), бантенг (домашняя форма бантенга – балийский скот), серый бык, обитающий в лесах Камбоджи.
Бизоны включают два диких вида – бизон и зубр, которые не были одомашнены.
Тур, тур, вымерший дикий бык; предок домашних быков. Был широко распространён в лесостепях и степях Восточного полушария. Высота в холке до двух метров, весил до тонны. Череп с плоским, немного вдавленным лбом, рога раскинутые. Был объектом охоты. Тур, как считают «оказался родоначальником всех современных пород крупного рогатого скота. Одомашнивание тура произошло на заре современного человечества, по-видимому, где-то между десятью тысяч и восьмью тысячами лет назад. Относительно места одомашнивания тура сведения противоречивы. По-видимому, этот процесс протекал независимо и не одновременно в разных местах: в Средиземноморье, Центральной Европе, в Южной Азии».
О широте ареала диких быков свидетельствует тот факт, что на стоянках Верхнего палеолита Восточной Европы часто встречаются кости дикого быка. Лев Берг указывал на наличие в лёссах Украины останков мамонта, носорога, лошади, оленя и быка, живших здесь в ледниковый период. На востоке Европейской части России, в бассейне реки Свияги, в слоях Позднего Валдая, исследователями было найдено большое количество костей мамонта, лошади, северного оленя и быка. Кости быка часты и на мезолитических стоянках этих территорий, так они присутствуют в Восточном Прионежье, на стоянках Погостище и Ягорбская (девять тысяч лет назад). Таким образом, говорить о диком быке-туре, как о специфическом эндемике Передней или Малой Азии не представляется возможным.
Зубр, европейский дикий лесной бык рода зубров семейства полорогих. Длина тела самцов до трёх с половиной метров, весят тонну. Окраска бурая, различных оттенков. Длинные волосы на затылке и нижней части шеи образуют чёлку, бороду и бахрому подгрудка. Хвост короткий с длинной и пышной кистью. Питается зимой корой ивы, осины, а также побегами и почками деревьев и кустарников, летом – травой и листьями. Стадные животные. В историческое время были распространены в лесах Центральной Европы и Европейской части СССР. Ещё в шестнадцатом веке зубры в нашей стране были распространены в лесостепи от Днестра до Дона. Он обитал на большей части Европы, на Кавказе жил особый подвид, отличавшийся более легким сложением. К двадцатому веку сохранились лишь в России и были представлены двумя подвидами – равнинным, беловежским, населявшим Беловежскую пущу, и горным, кавказским, обитавшим в горных лесах Северо-Западного Кавказа. В этих местах исчезли соответственно в девятнадцатом и двадцать седьмом годах, лишь в зоопарках ряда стран уцелели сорок восемь. К семидесятому году их число возросло до тысячи, что составляет примерно половину поголовья, имевшегося в России до Первой мировой войны.
Уже в раннем палеолите в Поволжье зафиксировано преобладание костных останков первобытного зубра, на Амвросиевской стоянке костные остатки принадлежат исключительно зубрам, в Костенковской культуре на Дону преобладала специализированная охота на стада зубров, а на стоянках Донецкой области Верхнего палеолита костные остатки в подавляющем большинстве принадлежат зубрам. В Позднем Валдае на юге Русской равнины обитало огромное количество бизонов, о чем свидетельствуют многочисленные костные остатки того времени. Эти примеры можно было бы продолжить.
Но здесь хотелось бы вновь обратиться к выводам авторов «Палеогеографии Европы за последние сто тысяч лет», которые подчеркивают, говоря о горных областях, расположенных на юге Европы и далее в Малой и Передней Азии, что: «животное население конца позднего плейстоцена этих областей в целом мало отличалось от современной териофауны этих регионов. Влияние покровного оледенения здесь практически не ощущается». О наличии зубров в Передней и Малой Азии в общеиндоевропейский период у нас сведений нет.
Белки, род млекопитающих семейства беличьих отряда грызунов. Распространены в лесах Европы, Азии и Америки.
Около пятидесяти видов. Приспособлены к древесному образу жизни. Длина тела до тридцати сантиметров. Мех обычно густой. Окраска варьирует от ярко-рыжей до серой и чёрной, многие виды окрашены пёстро. В СССР тривида: обыкновенная, летяга и персидская. Обыкновенная белка распространена в лесной и лесостепной зоне до лесотундры. Наиболее многочисленна в темнохвойной и лиственной тайге и в смешанных лесах. Питается семенами хвойных пород, желудями, орехами, ягодами, иногда насекомыми и яйцами птиц. На зиму делает запасы. Ведёт дневной образ жизни. Один из основных объектов пушного промысла (таёжная зона Европейской части, Урала и Сибири).
Летяга заселяет север Евразии от Финляндии до Чукотки и от Якутии до Монголии. Белка-летяга населяет старые лиственные и смешанные леса с примесью осины, берёзняки и ольшаники. В Европейской части России часто держится у болот и речек с ольховыми насаждениями по берегам. В хвойных лесах редка, предпочитает участки с примесью лиственных пород, особенно берёзы и ольхи. На севере ареала придерживается пойменных зарослей. Встречается и высоко в горах, в пределах высокоствольного горного леса. Основу рациона летяги составляют почки различных лиственных пород, верхушки побегов, молодая хвоя, семена хвойных (сосны, лиственницы), летом – также грибы и ягоды. Иногда обгладывает тонкую молодую кору ивы, осины, берёзы, клёна. Главный её корм – ольховые и берёзовые серёжки. Как и обычная белка, летяга большую часть жизни проводит на деревьях, но на землю спускается гораздо реже. Между передними и задними лапами у неё имеется кожная перепонка, которая позволяет планировать с дерева на дерево. Численность белки-летяги мала.
Персидская белка встречается в лесных районах Закавказья; вследствие малочисленности и редкого грубого меха промыслового значения не имеет. В описании ареала белки Передняя Азия отсутствует.
Хорьки, подрод хищных млекопитающих семейства куньих. Длина тела полметра. Весят полтора килограмма. Тело вытянутое, гибкое, ноги короткие, морда тупая, уши небольшие. Мех пушистый, мягкий.
Распространены в Северной Америке, Европе, Северной Африке, Азии. В СССР – хорёк степной и хорёк черный. Причем чёрный хорёк встречается по всей Западной Европе, включая Англию, на значительной территории Европейской части нашей страны, кроме Северной Карелии, северо-востока Крыма, Кавказа и Нижнего Поволжья. Степной хорёк на западе встречается от Югославии и Чехословакии и далее к востоку по лесостепи, степям и полупустыням Советского Союза, Средней и Центральной Азии до Дальнего Востока и Восточного Китая. Ведут преимущественно ночной образ жизни. Обитают в лесах, лесостепях, степях и полупустынях. Селятся на вырубках, гарях, в кустарниках, на открытых пространствах. Питаются исключительно мелкими животными. Ценные пушные виды. Он также, как и белка, не является эндемиком Передней Азии.
Горностай, зверь семейства куньих. Летом мех буровато-рыжий, зимой снежно-белый, кончик хвоста чёрный в течение всего года. Длина тела самца около двадцати пяти сантиметров, длина хвоста до десяти сантиметров. Широко распространён в Европе, от Пиринеев, Альп, Ирландии и далее по всей Европе, за исключением большей части Югославии, а также Албании, Греции, Болгарии и Турции (на Балканах и в Малой Азии горностая нет). В Азии горностаи обитают в Афганистане, Монголии, в северо-восточном Китае, Северной Японии и в на севере Корейского полуострова. Наконец, горностаи водятся в Гренландии и распространены почти до самого юга Северной Америки. Встречается почти на всей территории СССР – от побережья Северного Ледовитого океана до низовьев Дона и Волги и к северу от Аральского моря. В Крыму горностай отсутствует, но изолированно живет на Кавказе, а на востоке известен вплоть до Камчатки и Сахалина.
Обитает чаще всего в долинах рек, близ озёр, тростниковых зарослей, но встречается и в лесах, перелесках, горных россыпях и на полях. Добычей обычно служат мышевидные грызуны и мелкие птицы. Объект промысла.
В Передней Азии горностай не живет и не является древним эндемиком этих районов.
Выдра. Иванов и Гамкрелидзе отмечают, что: «значение конкретного животного «выдры» для данной лексемы засвидетельствовано в кафирском, вайгали – «вакак-ок», авестийском – «удра» , осетинском – «вирд», русском – выдра, литовском – «юдра», прусском – «удро». В древнеиндийском – «удра» – водяное животное.
Выдра ли порешня, хищное млекопитающее семейства куньих; ценный пушной зверь. Весит до десяти киллограммг. Туловище гибкое, мускулистое, длина свыше семидесяти сантиметров.; хвост около полуметра, утончающийся к концу; лапы короткие, пальцы соединены перепонками. Обыкновенная выдра встречается в Европе, Азии (кроме Аравийского полуострова и Крайнего Севера) и Северо-Западной Африке; в СССР отсутствует лишь на Крайнем Севере, в Крыму и в пустынях.
Кроме того, «ещё три вида выдр обитают в Старом Свете: пестрошеяя выдра – в Африке, к югу от Сахары, суматринская выдра – в Индокитае и на Малайском архипелаге, индийская выдра – в Южной и Юго-Восточной Азии».
Выдра быстро плавает и очень хорошо ныряет. Мех не смачивается водой и удерживает воздух. Основной корм – рыбы и лягушки; иногда ловит утят и водяных полёвок. Нору, вход в которую иногда бывает, скрыт под водой, устраивает под нависшими берегами.
В описании Олонецкой губернии отмечено, что здесь: «важнейшие представители мира четвероногих: бурый медведь, волк, лисица, язвец (барсук), росомаха, куница, горностай, ласка, норка, выдра, рысь, белка, заяц, северный олень, лось. Бобр, водившийся в семнадцатом столетии, ныне исчез совершенно».
Бобр, млекопитающее отряда грызунов. Бобр хорошо приспособлен к полуводному образу жизни. Длина тела до метра, хвоста – до тридцати сантиметров; весит до тридцати килограмм. Хвост уплощён сверху вниз, почти лишён волос, покрыт крупными роговыми щитками. Пальцы на задних конечностях соединены широкой плавательной перепонкой. Обладает ценным мехом, который состоит из блестящих грубых остевых волос и очень густой шелковистой подпуши. Окраска от светло-каштановой до темно-бурой, иногда чёрная. Бобр был распространён на большей части Европы, Южной Сибири и части Средней Азии, а также почти по всей Северной Америке. По поймам рек они шли к северу через всю таежную зону до лесотундры, а к югу – через степную зону до полупустынь.
В результате хищнического промысла сохранились только отдельные поселения в Европе и Азии. У нас в стране (в начале двадцатого века) бобры обитали лишь в немногих местах: в Белоруссии (на Соже, Берёзине, Припяти), на Украине (в бассейнах Припяти, Тетерева). в областях Смоленской (Соже) и Воронежской (в бассейне ВоронежА), а также в Зауралье (на Конде, Сосьве, Пелыме). За пределами России бобры сохранились во Франции (в низовьях Роны), в Германии (бассейн Эльбы), в Польше (на Висле), в Норвегии, а также в Северной и Западной Монголии (по Урунгу и Билгену, в бассейне Черного Иртыша), в провинции Синьцзян в Китае. В Канаде.
Благодаря охране и реакклиматизации поголовье увеличивается. Бобр встречается в большинстве областей Европейской части СССР и в некоторых районах Сибири. Живёт по тихим лесным рекам, с берегами, поросшими ивой, осиной, берёзой, тополем, побегами и корой которых бобр питается большую часть года. Летом ест траву. Способен срезать толстые деревья. Селится в земляных норах, а также в «хатках» – кучах ветвей, ила и земли (высотой до трёх метров и двенадцати метров в основании) с несколькими внутренними камерами и подводными входами. На мелких реках устраивают плотины и прорывают каналы для сплава веток и обрубков поваленных ими деревьев. Ценится за красивый, тёплый и очень прочный мех.
«Бобры поселяются по берегам медленно текущих лесных рек, стариц и озёр, избегая широких и быстротекущих, а также промерзающих до дна водоемов. Важно наличие у водоема пойменной древесно-кустарниковой растительности из мягких лиственных пород (ивы, тополя, осины), а также обилие водной и прибрежной травянистой растительности, составляющей рацион бобра». Так как такие ландшафтные характеристики не были характерны для Передней Азии и в древности, то, судя по всему, она не входила в ареал расселения бобра.
Иванов и Гамкрелидзе считают, говоря о культовой роли бобра в некоторых индоевропейских традициях, что: «Эти особенности балтийской, славянской и авестийской традиций, не находящие параллелей в других индоевропейских традициях, подтверждают в культурно-историческом плане вторичность приобретения особой значимости этими видами животных, очевидно в силу изменения экологических условий обитания носителей определенных индоевропейских диалектов».
Объяснить эту ситуацию, таким образом, вряд ли возможно. Если следовать гипотезе переднеазиатской индоевропейской прародины, то для балтов и славян все вполне логично. Действительно, уйдя из своей предполагаемой «переднеазиатской прародины» на территорию Восточной Европы, эти народы могли в новых экологических условиях сделать новое для себя животное – бобра священным. Но абсолютно не ясно, каким образом бобер мог стать священным животным также и в авестийской традиции. Ведь согласно концепции. Гамкрелидзе и Иванова древние иранцы авестийского периода никуда севернее Ирана не перемещались. На просторах Восточной Европы, исходя из этой концепции, иранские народы (скифы, сарматы) появились когда основной ритуально-мифологический блок, «Авесты» уже давно сложился.
Каким же образом в доскифском памятнике древних иранцев «Авесте» бобр стал священным животным величайшей древнейшей богини арьев Ардвисуры – Анахиты, символизирующей плодородие и изначальную водную стихию. Причем, в «Ардвисур-яште» Анахита описывается благословляющей предков арьев Яму и Парадата, одетой в шубу из шкур трехсот бобриных самок, убитых, только после того, как они принесли определенное количество детенышей. Согласно авестийской традиции самцов, обладающих «бобровой струей», стимулирующей потенцию мужчин, убивать категорически запрещалось, так как это могло привести к вырождению рода арьев.
«Авеста» утверждает, что; «человек, убивший бобра, становится преступником и может быть подвержен мужскому бессилию». Возникает естественный вопрос – откуда в древнейшем индоиранском культовом памятнике такое прекрасное знание биологии животного, поклонение которому оказалось в ритуальной практике инновацией? Вновь подчеркиваем тот факт, что именно в славянской, балтийской и авестийской традиции бобр играет важную культовую роль.
Гиршман считает, что: «сведения Авесты, касающиеся Анахиты, относятся к тому времени, когда восточные иранцы находились к северу и даже к северо-западу от Каспийского моря, когда они хорошо знали фауну Волги. Упоминание о Волге, ставшее чем-то вроде мифической традиции, стоит в ряду самых древних воспоминаний индоариев и иранцев, как в Авесте, так и в Ригведе. Эти места текстов позволяют допустить, что и те и другие пришли в Иран из Юго-Восточной Европы или, вернее, с территории юга современной России». Французский исследователь связывает ареал бобра с Поволжьем, а Ардвисуру-Анахиту с авестийской рекой Ра, Рта или Раха, или Волгой. Но в эпоху индоевропейской древности огромное количество бобров обитало и в бассейне другой великой Восточно-Европейской реки – Северной Двины (интересно, что термин Ар-дви-сура-анахита буквально значит «вода двойная, могучая, непорочная»).
Сафронов отмечает, что: «ареал бобра в раннеисторическое время охватывал лесную зону северного полушария. Бобры достигали наибольшей численности в зоне широколиственных лесов, проникая вместе с пойменными лесами далеко в зону полупустыни, степи и лесотундры».
Но мы уже отмечали ранее, что в эпоху мезолита зона широколиственных лесов доходит до шестидесятого градуса северной широты и во время климатического оптимума голоцена, её граница располагается севернее современной на шестьсот километров. Сафронов пишет, что: «на юг бобры могли спускаться по поймам лесов больших рек, однако на стоянках неолита – ранней бронзы – костей бобра нам не известно; в Скифское время они обнаруживаются в памятниках степной зоны: Никольское (Днепропетровская область) и Новогеоргиевка (Кировоградская область) поселения, а также Тырнавское городище в Саратовской области, городище Бисовское (Сумская область)».
Отсутствие на стоянках неолита – ранней бронзы юга Восточной Европы костей бобра, естественно не свидетельствует как о наличии у жителей данных территорий древнего и ярко выраженного культа этого животного, так и о значительном количестве бобров в местных лесах.
Обратимся к археологическим материалам восточноевропейского Севера. Так Ошибкина отмечает, что уже на мезолитической стоянке Нижнее Веретье (бассейн озера Лаче), датирующейся седьмым тысячелетием до нашей эры обнаружены кости лося, северного оленя, бобра, куньих, медведя, волка, собаки. «Второе по значению место занимает бобр», – пишет она. Кости бобра найдены также на мезолитических стоянках Погостище (на левом берегу реки Модлоны, недалеко от впадения в озеро Воже), Ягорбская (в центре Череповца, у впадения реки Ягорбы в реку Шексну). Исключительный интерес представляет также материал мезолитического могильника Попово (берег озера Лаче, Каргопольский район), относящегося к седьмому тысячелетию до нашей эры. Здесь выявлены остатки тризны (в заполнении могильных ям много мелких углей), стойкая традиция посыпания покойников красной охрой и стабильный набор сопровождающих умерших жертвенных животных – лось, бобр, собака, водоплавающая птица. Ошибкина отмечает, что на этих территориях: «Уже в мезолите в случае смерти сородича было принято устраивать что-то вроде поминального пиршества, для чего убивали лосей, бобров и собак».
