Кафедра
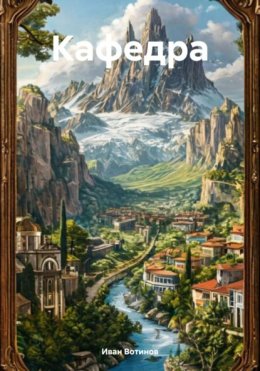
Часть 1. Другая география
Глава I Научные сомнения в базовых основаниях исторической географии
Земледелие
Из уроков истории нам известно, что на заре человеческой цивилизации двигателями прогресса на протяжении многих веков были народы Ближнего Востока и примыкающих к ним с двух сторон территорий – Египта и Греции.
И один из самых первых шагов человечества на пути этого прогресса связан с появлением и развитием земледелия, когда люди от собирания диких плодов перешли к выведению и выращиванию более урожайных культурных форм растений. Начало этому было положено, как известно, в Месопотамии – в Междуречье Тигра и Евфрата.
Если Верхняя Месопотамия – это полупустыня с сухими травами и колючими кустарниками, то Нижняя – в основном, вообще, пустыня с еще более скудной растительностью.
Выбрать для первых земледельческих опытов лишенную плодородия почву и место, где отсутствует какое-либо разнообразие видов, сортов растений – с позиции бытового сознания – это, конечно, нонсенс.
Разговор в научной среде об этом противоречии еще 100 лет назад начал советский учёный Николай Иванович Вавилов.
Н.И. Вавилов со своими коллегами очень серьёзно занимался локализацией первичных очагов древнего земледелия. Вот что по этому поводу в своей работе «Проблемы происхождения мирового земледелия в свете современных исследований»1 он писал: «Первобытный человек боялся и боится по сей день влажных тропиков с их буйной растительностью, с тропическими болезнями несмотря на то, что влажные тропики с плодороднейшими землями занимают ⅓ всей суши земного шара. Он селился и селится по окраинам тропических лесов. Горные районы тропиков и субтропиков создавали наиболее благоприятные условия для первых поселенцев в смысле тепла, изобилия пищи, возможности жить без одежды… Горный рельеф благоприятствовал жизни небольшими группами; с этой фазы начиналось развитие человеческого общества».
Именно такими были выявленные им и его коллегами центры распространения земледелия в Америке, в Африке – в районе современной Эфиопии, в Индии. Именно таким центром на территории Евразии был Кавказ.
Дагестан Н.И. Вавилов считал классической страной террасного земледелия. Он писал: «В Дагестане около Ботлиха можно видеть изумительное террасное земледелие, расположенное многими десятками этажей применительно к рельефу, огромными амфитеатрами. Вряд ли можно лучше использовать землю, чем это делают в Дагестане».
Выдвинутую им гипотезу подтверждают и современные исследователи. Российский ученый, специалист в области генетики растений Н.П. Гончаров в статье «Центры происхождения культурных растений»2 пишет: «Имеется много косвенных данных в пользу того, что первые опыты возделывания растений были приурочены именно к горным местностям, а уже оттуда этот опыт распространился на прилегающие равнины… Н.И. Вавилов (1926) делает гениальный вывод: области максимального разнообразия форм культурных растений и есть центры их происхождения».
А центры их разнообразия, безусловно, в горных районах, где из-за перепада высот плотно соседствуют друг с другом разные природно-климатические зоны.
Советский ученый, обобщив собранный материал, пришел к тому выводу что, «несмотря на огромное культурно-историческое значение средиземноморского очага, включающего величайшие цивилизации древности: египетскую, этрусскую, эгейскую, иудейскую, как выяснено детальным анализом сортового состава возделываемых растений, этот очаг содержит небольшое число автохтонных растений растительных культур… Большинство полевых культур, как пшеница, ячмень, бобы, горох, нут, явно заимствованы из других очагов».
И что «элементарная схема, которой держалась до сих пор наука о том, что начало земледельческой культуры положено в районах Месопотамии, Сирии и Палестины, где найдена дикая пшеница, совершенно не соответствует фактическому распределению мировых очагов культурных растений, и, несомненно, проблема истории земледелия должна быть переработана совершенно заново, а в связи с этим мы, очевидно, стоим накануне общей ревизии наших исторических представлений об истории культуры человечества».3
Металлургия
Следующий важнейший шаг в становлении человеческой цивилизации – это освоение технологии производства металла. То объединение людей, которое этой технологией овладело – получило, безусловно, невероятное преимущество и в хозяйственной области по отношению к своим соседям, и в военной. Возможно, именно это событие и стало тем феноменом, которое предопределило лидерство Европы в мире на многие века.
О том, как становление и развитие металлургии прослеживается по материалам археологии, описал в своих работах4 заведующий лабораторией естественнонаучных методов Института археологии РАН, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Е. Н. Черных. Самый авторитетный в этой области российский учёный.
Как он сам пишет, в основу его построений легли обширные базы данных по древнейшему металлу (120 тыс. артефактов из различных металлургических провинций) и радиоуглеродным датам (почти 1700 калиброванных определений), накопленные и систематизированные в лаборатории Института археологии РАН.
Итак. Начало бронзового века связывается сегодня с формированием Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП). Это свое название система горно-металлургических и металлообрабатывающих центров получила от древнегреческого наименования Чёрного моря – Понт Эвксинский – окружающая Понт провинция. На первом этапе основные производящие центры ЦМП охватывали «Понт» с юга и востока. Затем они заняли весь периметр Причерноморья.
После этого следует её распад на целый ряд самостоятельных металлургических провинций. От Карпат и Северных Балкан вплоть до Атлантики и Британии формируется Европейская металлургическая провинция (ЕвМП).
«Это, прежде всего, провинция кладов металла, – пишет российский учёный, – Их совокупное число достигает нескольких тысяч».
– А что Кавказ в это же время?
«Кавказская металлургическая провинция (КаМП) являла собой безусловный феномен даже на фоне только что охарактеризованной и бесспорно блистательной по уровню своей технологии Европейской провинции… совокупное число самых разнообразных металлических изделий здесь воистину бессчётно: по всей видимости, количество их должно измеряться многими сотнями тысяч…
…Теперь очень коротко о том, как можно представить отличия КаМП от провинции Европейской, хотя между ними и нет общей границы… ЕвМП – это, прежде всего, провинция кладов; …Кавказская же провинция – это система производственных очагов».
Ну а теперь Малая Азия и Ближний Восток. Вот что пишет Е.Н. Черных об этой территории:
«Весь металл, о котором мы поведем речь ниже, связан с очень широко и хрестоматийно известными государственными образованиями II тыс. до н.э. в Месопотамии, Малой Азии, западном Иране – с Вавилонией, Эламом, Касситами, Хеттской державой. Именно этим древнейшим государствам оказалась посвящённой гигантская, воистину необозримая литература…
Уже не в первый раз – даже в рамках второй части нашей книги – мы сталкиваемся с различиями между оценками исторической реальности при опоре, с одной стороны, на документы исторические, а с другой, при обращении к источникам археологическим. К сожалению, здесь также встаём в тупик перед барьером подобного рода.
…Увы, здесь мы упираемся в досадно и столь нередко повторяющуюся для исследователя-археолога сложность: руины хеттских городов и даже древние могилы Анатолийских нагорий не являют нам ни массы блещущего на солнце бронзового оружия, ни следов колесниц…
Здесь же – на малоазийских взгорьях … нас ждёт едва ли не пустынность».
И это пишет, обращаю на это еще раз Ваше внимание, заведующий лабораторией естественнонаучных методов Института археологии РАН, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.
Таким образом, пока с некоторой долей осторожности можно вслед за Е.Н. Черных повторить: «Парадигма археологической науки XIX и первой половины XX столетий зиждилась на ряде «неоспоримых» истин, к каковым относилась и эта. Полагали, и с большими основаниями, что фактически все важнейшие технологические, интеллектуальные и духовные достижения являлись творческим плодом культур и цивилизаций, локализованных в области стран «Плодородного полумесяца», то есть, по существу, Месопотамии, или же – в более широком понимании – Ближнего Востока».
Но современные археологические данные это подтверждать отказываются. Более того, эта территория по количеству и качеству археологических находок, в частности, связанных с металлом, является одной из самых скудных на Евразийском континенте. Хотя все это противоречит множеству свидетельств древних писателей…
– А не попробовать ли нам перечитать эти сочинения еще раз?
Глава II. О чем писал Страбон
Азия и горы Тавр
Обитаемая часть античного мира, или иначе ойкумена, как известно, состояла из трёх материков – Европы, Азии и Ливии. Об этом, в частности, писал в своей «Географии» современник Христа Страбон (ок. 64/63 г. до н. э. – ок. 23/24 г. н. э.). Он сообщает: «К Европе примыкает Азия, соприкасаясь с ней вдоль реки Танаис. Поэтому далее следует приступить к описанию этой части света, разделив её ради ясности известными естественными границами».
То, что Танаис это река Дон – ни у кого сомнений не вызывает. Для большей убедительности Страбон даже повторяет эту мысль ещё раз более подробно. «Эти земли (азиатские И.В.) с запада омываются рекой Танаисом и Меотидой вплоть до Боспора и до части побережья Евксинского Понта, оканчивающейся у Колхиды».
И на карте еще одного древнего географа Птолемея (ок. 100 – ок. 170 г.г. н.э.) Танаис (Дон) впадает в озеро Meotis (будущее Азовское море), которое, в свою очередь, оканчивается проливом Bosphorus. Далее – Черное море, обозначенное как Pontus Euxinus. И на его восточном берегу расположена Colchidis Pars – Колхида.
