Это было
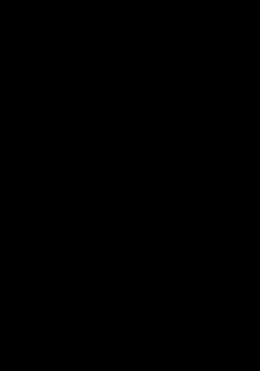
С трудом достав путевку на курорт, в конце сентября я выехал подлечить свои расшатавшиеся нервы. Здесь, на местном уральском курорте, который расположен на правом берегу реки Пышмы против скалы «Три Сестры», в основном лечились учителя, но моим соседом по койке оказался рабочий-пенсионер.
В короткой беседе, до приема врача, мы узнали друг о друге то, что необходимо для знакомства на первый случай. Он живет в Свердловске, работал на одном из старых заводов токарем. Имеет хорошую квартиру, жену, двоих детей, и два месяца тому назад вышел на пенсию по болезни. Одет он был просто: темный шевиотовый костюм, черные кожаные полуботинки, вышитая косоворотка, черная фуражка. Даже цвет лица подходил под его одежду: обветренное, загорелое, как бы прокопчённое, с частицами угольной пыли, худое.
После осмотра врача и сытного завтрака я предложил своему новому товарищу пройтись, познакомиться и полюбоваться природой, так как никаких процедур на этот день назначено не было и времени до обеда оставалось много.
Осень стояла чудесная: грело солнце, подувал теплый горный ветерок.
Мы поднялись на гору по терренкуру. Я заметил, как мой сосед, Петр Ильич Стрельцов (так он представился), шагал медленно, твердо, изредка останавливаясь, чтобы передохнуть. Пройдя немного по сосновой аллейке, он предложил сесть.
– По ровной дороге я еще иду. Но вот подняться на гору – это уже выше моих сил, – сказал он, усаживаясь за столик в беседке и тяжело вздохнув. Говорил Стрельцов неторопливо, с передышками (видимо, из-за сердца), но приятным голосом, твердо произнося окончания каждого слова (как будто бы в такт ноги на марше). Словесную речь он поддерживал жестами рук.
Он облокотился на круглый столик и уставился на арку входа в санаторий.
Глядя на его красивый профиль, на его небольшие рыжеватые усы, мутно-сероватые глаза, какие они бывают у слепых, что не соответствовало цвету лица, а также на шрам на правой щеке, можно было прямо сказать, что жизнь у этого человека не прошла легко. Казалось, в ней перемешаны тяжелые переживания, страдания и какое-то нестерпимое горе.
Чтобы не сидеть втихомолку, я его спросил:
– Ну, какие процедуры назначил Вам врач?
Он повернулся ко мне и усмехнулся. На этот раз смеялись не только его тонкие малиновые губы, туманные, на вид подслеповатые глаза, но и все его лицо.
– Воздух… – не сказал, а выдохнул он это слово.
– Как, воздух? – не понял я.
– Как Вам сказать, – улыбка у него исчезла, он наклонил голову, потер свои грубые, шершавые руки, как будто бы их щипал сильный мороз. – Если у человека вышел из строя его главный аппарат, который можно только заменить, ему говорят: «Отдыхайте, дышите воздухом». Ну вот, климат здесь такой, только он и входит в мои процедуры.
Стрельцов отвернулся и застучал пальцами по столу, выбивая марш футболистов, выбегающих на поле. Он переживал, но в то же время успокаивал себя.
Да, человек – это сложная природная машина. Сердце – основная часть, и если оно попортилось, его уже не исправить. А заменить сердце не так-то легко.
– Теперь вот, видите, я стал негоден для жизни, – он причмокнул губами, кивнул головой, снял фуражку и пригладил поседевшие русые волосы. – Но энергия во мне еще есть! – он сжал свои жилистые кулаки, намереваясь как будто бы кого-то ударить, потом усмехнулся и сказал более мягко:
– Есть, и стремление к работе есть… Ну, как, скажите, что будет у меня за жизнь, если я не буду работать?.. А работать я действительно не могу. Койку заправить – и то мне трудно.
– Отдыхать. Поддерживать свое сердце, воспитывать детей, – посоветовал я ему.
– Отдыхать?.. Это не то слово. Мне всего только тридцать восемь лет… Пусть мне осталось немного жить, но без работы я не могу. Я сейчас скучаю по своим товарищам, по заводу, по станку. И я хочу оставшуюся жизнь провести там, где шумит наш коллектив. Вот поэтому-то я и поехал на курорт, хотя мне не советовали, но… – он развел руками.
Я молчал. Я понимал все его положение, настроение, но ничего не мог сказать утешительного этому человеку, у которого цель в жизни – работа, труд – которую он уже почти потерял. Но года! Он еще молод, это еще цвет возраста, а на вид ему можно дать все пятьдесят.
– Давно Вы болеете? – спросил я его после минутной паузы.
– Года три-четыре. Но сердце, видно, потерял раньше… – он повернулся лицом ко мне, и, глядя прямо в глаза, спросил:
– Вы были на фронте?
– Был.
– Я вот тоже был, – он сделал ударение на «тоже», отвернулся и опять вздохнул. – Вы наверно, не видели того, что видел я и пережил. Я несколько раз находился перед смертью; на моих глазах убивали людей, вешали, живыми зарывали в землю.
Заметив, что я повернулся к нему и приготовился его слушать, он сказал:
– Я Вам расскажу историю… из плена, – произнес он это слово как-то недовольно, стыдливо, и посмотрел на меня, стараясь прочесть на моем лице мое отношение к нему.
Я сидел спокойно, дожидаясь продолжения его рассказа и не показывая своего удивления тем, что человек был в плену. Несколько лет тому назад было еще такое мнение, когда к таким людям относились недоверчиво, с презрением. Люди же попадали в плен, убегали, совершали героические подвиги. А если кому-то не удавалось убежать, то они и там боролись с фашизмом, не покоряясь врагу. Один из лучших тому примеров – герои Бухенвальда.
Позор был уделом лишь тех, кто сам пришел к врагу, или в лагере продавался за пайку хлеба.
– В начале войны мне мало пришлось быть на фронте, – начал он, видя, что я не удивляюсь, а спокойно слушаю его. – Попал в окружение. Попытка перебраться к своим не удалась. Пошел к партизанам. По дороге схватили меня полицейские и доставили в лагерь. Нас было двое… Друг один, орловский. Служили вместе в одном артиллерийском полку.
Он прервался. Ему было трудно говорить, да и вспоминать прожитое нелегко. Поиграв пальцами по столу, он кивнул головой, вроде «была не была», и продолжил:
– Был я тогда молодым, сильным, здоровым парнем. И вот таким образом попал я в этот треклятый плен. Стыдно, но ничего не поделаешь. Началась, так сказать, жизнь под чужим небом, под охраной. В Рудне нас поместили в одном дощатом бараке во дворе маленького завода по выработке сгущенного молока, на окраине города. Нас пятеро – первые в этом лагере. Комнату нам отвели два на три, точка в точку – ноги протянешь только. Голода не ощущалось. Хлебец имелся еще деревенский, а банку горячей воды давали немцы.
На другой день заходит к нам длинный, тонкий, как высохшая осина, горбоносый ефрейтор и говорит на ломаном русском языке:
– Русский зольдат к нам пришёль. Сам. Они будут жить корошо.
Нас, конечно, заинтересовало: какая это гадина сама пришла на милость к фашисту?
В другой, такой же маленькой комнате, ближе к выходу, сидели на лавке и курили немецкие сигареты трое молодых парней в русской военной форме. Русскими их называть как-то не к лицу: изменниками оказались. Они стали предлагать нам сигареты. Я отказался – сказал, что не курю. Я и смотреть на них не мог, а не то, чтобы у них из рук курево брать. Товарищи мои взяли: отказаться было трудно – курево что хлеб, своего не было. Ну и я все равно не вытерпел, слюнки потекли, взял у своего друга орловского маленький чинарик. Курил этот поганый недокурок как-то без души и сладости, а потом бросил и растоптал его. В горле что-то давило, першило. Разговорились, что да как. Они держатся бодро, весело, смеются. Как же им не бодриться, когда им сказали, что будут жить на немецком пайке, кроме водки! Голодать не будут, ну и жизнь спасли свою от пуль. Дали им вот уже по пачке сигарет, накормили.
